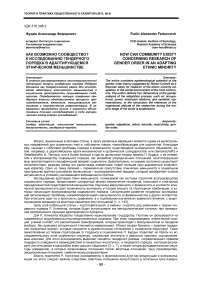Как возможно сообщество? К исследованию гендерного порядка в адаптирующемся этническом меньшинстве
Автор: Фудин Александр Федорович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эпистемологический потенциал теории гендерного порядка Роберта Коннелла как теоретической рамки для исследования адаптации этнического меньшинства в социальное пространство принимающего сообщества. Определяются четыре измерения гендерного анализа адаптационного процесса: производственные, властные, эмоциональные отношения и символические репрезентации. В завершении приводится мысль о важности объективации позиции исследователя в ходе эмпирического этапа такого исследования.
Гендер, адаптация, этническое меньшинство, маскулинность, гендерный порядок
Короткий адрес: https://sciup.org/14935656
IDR: 14935656 | УДК: 316.346.2
Текст научной статьи Как возможно сообщество? К исследованию гендерного порядка в адаптирующемся этническом меньшинстве
Вопрос, вынесенный в заглавие статьи, в своих различных вариациях является одним из магистральных направлений для социальных наук и, собственно говоря, наукообразующим для социологии. Благодаря ему, начиная с гоббсовой проблемы порядка и возможности существования человеческого общежития, затем, например, в дюркгеймовских идеях механической и органической солидарностей, или Gemeinschaft’е и Gesellschaft’е Ф. Тенниса, или в более близкой к нам по хронологии теории практик П. Бурдье, с ее интересом к воспроизводству социального порядка, как ансамблю упорядоченных отношений, конституирующих мир, кристаллизуется специфический предмет социологии. Действительно, в социуме постоянно существуют несоответствия, разрывы между его различными элементами, порой носящие ярко выраженный конфликтный характер. Одно из таких явлений – перманентное присутствие этнических меньшинств в социальном пространстве крупных российских мегаполисов – исследовательский предмет, который приобретает особую актуальность в условиях усиливающего миграционного притока.
Исследование адаптации таких меньшинств, понимаемой как системы стратегий воспроизводства социального порядка, предполагает синхронный анализ пересечения гендерной, классовой и этнической принадлежностей представителей меньшинства. Изучение маскулинности и феминности в контексте этнической принадлежности дает возможность вычленить и полнее описать те структурные комбинации, в которых происходит воспроизводства социального порядка. Сегодняшнее развитие гендерных исследований актуализирует проблему «взаимопересечений» маскулинности (и фемининности) и других контекстов. При этом речь идет не о простом их сравнении, а о тщательном изучении их взаимного влияния, с акцентированием внимания на властном характере этих отношений [1, c. 143].
Цель этой небольшой статьи – подготовительная, а именно: очертить ряд замечаний к теории гендерного порядка Р. Коннелла, которая будет использована как методологическая «оптика» при проведении эмпирического изучения адаптационного процесса.
Для Р. Коннелла общество тождественно национальному государству. Поэтому он фокусируется на современных индустриальных/постиндустриальных социумах. При этом, придерживаясь генетической позиции, ученый считает, что рассмотрение трансформаций, которые происходят с маскулинностью (и гендером вообще), без принципа историчности становятся нереальными. Объект теории Коннела - практики поведения конкретных мужчин, которые находятся в дуалистических отношениях с социальной структурой. Такое заимствование из теории структурации Э. Гидденса и социоанализа П. Бурдье позволяет не терять из исследовательского поля социальную структуру, социальные институты и реальные практики, осуществляемые агентами. Для этого исследователь выделяет концепты гендерного режима, «определяющего правила гендерного поведения и взаимодействия в конкретных институтах», и гендерного порядка, «который регулирует эти отношения в масштабах всего данного общества» [2, c. 7], а также четыре фундаментальные структуры (измерения), в которых организованы отношения полов: властные отношения, труд (производство), эмоциональные отношения, символические репрезентации.
Власть трактуется Р. Коннелом одновременно в фукинианском духе как вездесущая и всепроникающая (из этого следует важное следствие: властные отношения присутствуют в остальных трех измере- ниях) и как определенная лигитимузирующая и лигитимная сила, оказывающая воздействие через такие институты, как:
-
1. институты институционализированного насилия (то есть пенитенциарная система, полицейские органы, армия и т.д.);
-
2. бюрократический аппарат государства;
-
3. иерархии трудовых организаций в различных отраслях;
-
4. рабочий класс с его акцентом на физической силе [3, с. 107–111].
Ярким примером эвристической эффективности применения властного аспекта данной теории к адаптации иноэтнической группы является понимание часто встречаемых запретов на матримониальные обмены с принимающим сообществом. Так пилотажные интервью с представителями чеченской диаспоры Москвы позволяют привести следующее свидетельство: «У нас считается, что [если] девушка выходит замуж, она уходит в другую семью и она уже не имеет отношения к семье. У нас как-то так. А если мальчик женится, то жена приходит в эту семью и его дети – это продолжение рода этой семьи. А дети девушки, которая вышла замуж, это продолжение рода другой семьи, за которую вышла замуж. Если девушка выходит за русского, считается, что ее дети – русские, уже не имеют к чеченцам никакого отношения» (жен., 28 лет, в/о, администратор в школе для детей мигрантов).
Проблема разделения труда между полами была первой гендерной проблемой, попавшей в предметную область исследователей. Разработано большое количество теорий, пытающихся объяснить этот феномен (как с феминистских, так и с нефеминистских позиций). Они выделяют три аспекта гендерных производственных отношений:
-
1) вертикальная сегрегация (женщины, по сравнению с мужчинами выполняют низкоквалифицированную работу),
-
2) горизонтальную сегрегацию (доля мужчин на престижных, высокооплачиваемых должностях гораздо больше, чем доля женщин),
-
3) разрыв в заработной плате работников-мужчин и работников-женщин [4; 5; 6; 7].
Р. Коннелл обращает внимание на глубокую включенность этой проблемы в систему производства, потребления и распределения. Несмотря на растущую конкурентоспособность женщин на рынке труда, все еще сильно разделение на оплачиваемый труд в системе публичного производства (заводы, офисы) – мужская сфера, и на неоплачиваемый труд в приватном производстве (домашняя работа) – женская сфера. Так происходит гендерная аккумуляция в этих нишах.
Важно отметить, что основываясь на идеях Э. Гидденса, австралийский ученый подчеркивает широкую распространенность в западных обществах «романтической любви» и ассоциированных с ней идей, как, например, свобода, на основе которой заключаются браки [8, c. 40]. Инкорпорация этой идеи в западную культуру приводит к столкновению с другими моделями эмоциональных отношений, например, мусульманской, где до настоящего времени мужей выбирают родители. При этом, обращает внимание Р. Коннелл, такая модель определяется как отсталая и традиционная, в то время как она может иметь под собой вполне рациональные основания, и в отличие от европейских браков, основанных на эмоциональной близости, быть гораздо более крепкими.
Отметим, что современная американская исследовательница А. Хохшильд указывает на важное последствие изменения потребности в заботе. Как считает социолог, приватизация женщинами публичной сферы, произошедшая во второй половине XX в., не дополнилась изменением маскулинности. То есть мужчины, как и прежде, не выполняют наравне с женщинами домашние обязанности и заботу, в то время как роль кормильца стала вполне обычным элементом феминности. В итоге работающие матери должны решать сложный вопрос: «Как совмещать профессиональные и домашние обязанности?». Эту ситуацию А. Хохшильд описывает как «холодную заботу» [9].
Наконец четвертое измерение указывает на важность коммуникации в конструировании и функционировании маскулинности. Маскулинность - знак, а значит, может быть разложена на «означаемое» и «означающее». Следовательно, важно выявлять структуру этого знака и взаимосвязи между «означающей» категорией и «означаемыми» практиками. «“Настоящность” мужчины, таким образом, определяется тем, куда этот мужчина ходит, то есть, смысл термина (“настоящий мужчина”) оказывается подмененным объектом действия (то есть манеж, тир, зал, клуб, баня)» [10]. А так же, что видит и слышит. Это ярко подтверждает медийный дискурс, который визуально репрезентирует (например, в рекламе) разные стереотипы и нормы мужественности, а также практика отчествования или присвоения фамилии супруга, которая заретушировано показывает властные отношения.
Гегемония, как часть методологической оптики, также позволяет показать, что точка зрения господствующей личности транслируется и воспринимается членами социума как здравая, справедливая и естественная. Ш. Берд определяет, что национализм как идеология гегемонии маркирует своих женщин как символ национальной чести, в то время чужих как трофеи и добычу. Национализм не признает равенства с мужчинами, более того основная женская роль – моральная и символическая поддержка мужчин (не случайно, что военные агитационные плакаты всегда изображают родину в образе женщины). Наконец, национализм рассматривает мужчин как носителей идеальной мужественности, независимых, сильных, смелых и зрелых в сравнении с другими мужчинами [11, с. 26-27].
Таким образом, можно сделать вывод, что понимание маскулинности является социально конструируемым, исторически и культурно специфичным, и поэтому подвижным. Оно отсылает одновременно и к социальным структурам и институциональным практикам, и к индивидуальным действиям. На наш взгляд, и в предыдущем тексте мы стремились это показать. Теория гендерного порядка не только теоретически показывает объективную роль социальных институтов в формировании маскулинности, но и субъективную роль каждого социального агента в этих процессах, а также, в отличие, например, от полоролевой теории, дает исследователям удобный методический инструментарий.
В завершение отметим, что существует серьезная, имплицитная методологическая ловушка, в которую рискует попасть исследователь. Дело в том, что «имея дело с социальным институтом на протяжении тысячелетий встроенным в объективность социальных структур и субъективность структур ментальных, аналитик предрасположен использовать эти категории восприятия и мышления как инструменты познания, вместо того, чтобы рассматривать их объекты исследования» [12, c. 287]. Как показывает П. Бурдье, это свойственно даже исследованиям радикальных феминисток, стремившихся полностью отказаться от «мужского наследия», взяв на вооружение психоанализ. Социологическое познание, направленное на маскулинность – часть социального мира, субъект этого познания – агент, имеющий определенную позицию в социальном пространстве, определенную конфигурацией экономического, социального, культурного, символического капиталов и определенный габитус, сформированный предыдущим опытом жизни в социуме. Но стремление к объективности и свободе от субъективизма во всех формах часто остается лишь декларацией. Поэтому важно проводить процедуру «объективирования объективации», то есть открыто признавать и показывать то, что исследователь сам является агентом социальных практик (в частности гендерных), устанавливать свою дистанцию к объекту, степень совпадения своих социальных практик и практик объекта (по сути, общее и различное в социальном опыте) [13, с. 8]. Подобная методологическая процедура позволяет не только нивелировать проблему объективности/субъективности, но и приводит к пониманию того, что в социальном пространстве не существует ничего недоступного.
Ссылки:
-
1. Ренн Ж. Отношения между полами в узле расовых, возрастных и классовых отношений: гендерные исследования и дебаты во Франции в первом десятилетии XXI века // Laboratorium. 2011. № 3. P. 143–162.
-
2. Тартаковская И.Н. Гендерная теория как теория практик: поход Роберта Коннелла // Социологический журнал. 2007. № 2. С. 5–23.
-
3. Connell R.W. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambrige: Polity Press, 1987.
-
4. См.: Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М., 2003.
-
5. См.: Малышева М. Современный патриархат. Социально-экономическое эссе. М., 2001.
-
6. См.: Рубин Г. Обмен женщинами. Заметки о «политической экономии» пола // Хрестоматия феминистских текстов. Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000.
-
7. См.: Хубер Д. Теория гендерной стратификации // Антология гендерной теории. Минск, 2000.
-
8. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. СПб., 2004.
-
9. Hochschild A. The commercialization of intimate life: notes from home and work. Berkeley: University of California Press, 2003.
-
10. Ушакин С. «Человек рода он»: знаки отсутствия // Сайт «ФОМ клуб». 2009. URL:
-
11. Берд Ш. Теоретизируя маскулинности: современные тенденции в социальных науках // Гендерные исследования. 2006. № 14. С. 5–33.
-
12. Бурдье П. Мужское господство // Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2007.
-
13. Юдин Г.Б. Объективация и объективность в эпистемологии П. Бурдье // Социологический журнал. 2011. № 2. С. 5–20.
(дата обращения: 13.03.2013).