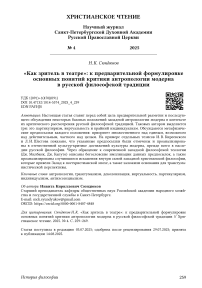«Как зритель в театре»: к предварительной формулировке основных понятий критики антропологии модерна в русской философской традиции
Автор: Никита Кириллович Сюндюков
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (115), 2025 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья ставит перед собой цель предварительной разметки и последующего обсуждения некоторых базовых положений западной антропологии модерна в контексте их критического рассмотрения русской философской традицией. Таковых автором выделяется три: это партикуляризм, виртуальность и крайний индивидуализм. Обсуждаются метафизические предпосылки каждого положения: приоритет множественного над единым, возможного над действительным, частного над целым. На примере отдельных тезисов И. В. Киреевского и Л. И. Шестова показано, что указанные предпосылки были отмечены и проанализированы в отечественной культуркритике достижений культуры модерна, прежде всего в наследии русской философии. Через обращение к современной западной философской теологии (Дж. Милбанк, Дж. Капуто) описаны богословские импликации данных предпосылок, а также проанализированы случившиеся искажения внутри самой западной христианской философии, которые привели Запад к постхристианской эпохе, а также заложили основания для трансгуманистической перспективы.
Антропология, трансгуманизм, деколонизация, виртуальность, партикуляризм, индивидуализм, антиэссенциализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140313084
IDR: 140313084 | УДК: 1(091)+1(470)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_4_259
Текст статьи «Как зритель в театре»: к предварительной формулировке основных понятий критики антропологии модерна в русской философской традиции
-
I.
Инициатива подобной критики соответствует общему тренду гуманитаристики последних 50-70 лет, актуальному в т.ч. и для самого Запада — тренду на деколонизацию. В рамках этого тренда ученые совершенно разных специализаций стремятся обозначить области не только экономико-политической, но и эпистемологической зависимости национального интеллектуального пространства от наследия западного модерна. Как пишет отечественная исследовательница феномена деколонизации М. В. Тлостанова, «политическое и эпистемологическое позиционирование на пограничье позволяет деколониальному повороту деконструировать европоцентризм как форму знания, тесно связанную с современностью/колониальностью, ставя под сомнение весь миф модерности, построенный на идее прогресса и развития любой ценой» [Тлостанова, 2009, 7].
Разумеется, настоящая статья не может претендовать на какую-либо полноту в освещении антропологической проблематики. Ее цель — провести предварительный анализ некоторых смысловых констант с опорой на наследие отечественной мысли, в частности ее культур-критики2 цивилизации модерна.
-
II.
Один из первопроходцев русской философской антропологии И. В. Киреевский следующим образом характеризует антропологическую ситуацию на Западе: «Раздробив цельность духа на части и отделенному логическому мышлению предоставив высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания (здесь и далее курсив мой. — Н. С. ) оторвался от всякой связи с действительностию и сам явился на земле существом отвлеченным, как зритель в театре, равно способный всему сочувствовать, все одинаково любить, ко всему стремиться под условием только, чтобы физическая личность его ни от чего не страдала и не беспокоилась » [Киреевский, 1979, 315].
Киреевский здесь выступает как последовательный критик рассудочного рационализма, такой его формы, что сводит все существо человека к исчислению собственных выгод. Подобное понимание разумности обретает актуальность на заре Нового времени, эпохи революций, свидетельством чему является определение, данное Гоббсом. По Гоббсу, «рассуждать значит то же самое, что складывать» [Гоббс, 1989, 74]. Увязав данную установку, характерную для нововременной философии, еще не перешедшей в статус разумности3, с приведенным выше суждением Киреевского, мы бы могли вывести следующие характеристики модерной антропологии: 1) партикуляристическое (номиналистское) отношение к человеческой природе в противовес холизму («раздробив цельность духа на части»), 2) виртуальность, т. е. потеря связи с реальным миром, «живой жизнью» («человек… оторвался от всякой связи с действительностию», 3) крайний индивидуализм («под условием только, чтобы физическая личность… не страдала и не беспокоилась»).
Безусловно, гоббсианская антропология имеет большое значение в генезисе указанных положений: человек, воспринимающий себе подобных как хищных волков, из элементарных соображений безопасности впадает в оборонительный индивидуализм, укрепляя его социальным атомизмом и «услужливым»4 рационализмом. В свою очередь, случившееся в эпоху модерна перераспределение в пользу государства ряда политических полномочий, к коим относится и право на насилие, ведет к сокращению политического пространства (см. подр.: [Марей, 2017, 95–99]) и подмене его вялотекущим процессом бесконечных социальных конфликтов, что разгораются под действием различных социальных агентов, более не чувствующих меж собой какого-либо единства: ни социального, ни аксиологического, ни, наконец, антропологического.
Итак, рассмотрим каждый из указанных нами пунктов — партикуляризм, виртуальность и крайний индивидуализм — в их последовательности, а затем попытаемся установить их взаимосвязь.
Партикуляризм
Партикуляризм обыкновенно связывается с политической сферой, в рамках которой он понимается как стремление той или иной социальной, этнической, религиозной или иной группы к отъединению от политического целого, т. е., в своем крайнем проявлении, к сепаратизму. Партикуляризм также можно понимать как своеобразное течение в этике, отрицающее существование универсальных моральных принципов. В самом же общем смысле партикуляризм следует трактовать как стремление к частному, уникальному, особому в противовес к общему, универсальному, стремление к множественному в ущерб Единому (см.: [Парсонс, 1998, 228]).
Заметим, что политическое соотношение между общим и единичным, универсальным и частным лежит в самом основании классической европейской антропологии. Хрестоматийное определение Аристотеля — «человек — существо политическое» [Аристотель, 2015, 8] — в этой связи невозможно обойти стороной. На первый взгляд может показаться, что именно вторая часть определения, а именно «политическое», выглядит дискуссионно. Но не меньшую сложность составляет и первое понятие. Действительно, что значит «существо»? Существо предполагает сущность, «внутреннее содержание предмета, выражающееся в устойчивом единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия» [Новая философская энциклопедия]. В то же время широкий ряд современных теорий философии, объединенных зонтичным термином «постметафизика», в качестве одной из магистральных линий своей мысли признает (см.: [Керимов, 2016; Фатенков, 2020; Koch, 2011]) антиэссенциализм, т. е. «отсутствие возможности описывать феномены окружающей действительности (в первую очередь действительности социальной) через ссылку на их „истинную при-роду“» [Большая российская эницклопедия].
Итак, постметафизический мейнстрим актуальной философии спорит именно с первой частью аристотелевского определения человека, но не спешит отвергать второе. Человек, по крайней мере в своем социальном измерении, не есть существо как нечто устойчивое, единообразное. У человека, полагают антиэссенциалисты, нет «истинной природы».
В свете вышеуказанного сопоставление партикуляризма с антиэссенциализмом напрашивается само собой. Действительно, коль скоро человек как таковой не обладает общей для всех людей природой, логично предположить, что нет никакой единой природы, но есть различные природы различных людей, которые следует всякий раз оценивать сызнова. Ключевой вопрос состоит в границах различения. Уникальна ли природа человека в каждом человеке, или ее можно группировать в какие-либо более высокие общности? И если подобное возможно, то в какой момент следует остановиться, где группирование уже невозможно? Очевидно, это вопрос количества и качества, соответствующий известной со времен античности апории о горстке камней, которая в какой-то момент перерастает в груду.
Отчетливее всего вопрос о сущностной природе человека как такового был поставлен в эпоху Возрождения. Известный философский памятник эпохи — «Речь о достоинстве человека» Пико делла Мирандолы — повествует о человеке как о существе «нулевого» состояния. «Принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: „Не даем Мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему реше-нию“» [Мирандола, 1981, 249].
Следуя традиции, заложенной еще блж. Августином (см.: [Блж. Августин, 1998, 389]), Мирандола помещает человека между началом животным и началом ангельским, полагая, что человек волен сам избирать градации собственной животности и собственной ангеличности. Подобный взгляд на человеческую природу предполагает специфическую волюнтаристскую онтологию. Коль скоро человек является венцом творения, что есть общая мысль по-прежнему христианоцентричной философии Ренессанса, и обладает нулевой сущностью, что есть оригинальное суждение Мирандо-лы, то бытие, как богоданная реальность, в пределе своей интенсивности становится тождественным небытию, что является уже реальностью сугубо тварной. С помощью этой мысли Мирандола обосновывает собственную динамическую антропологию: человек есть существо, свободное в своем становлении, над его свободой не властен и сам Бог, следовательно, эта свобода имеет особый онтологический статус в архитектуре творения. Единственное, что может быть неподотчетно Богу, есть ничто (см.: [Надеина, Евлампиев, 2024]) — и тогда сам человек, будучи создан по образу и подобию, в своем богоборческом запале становится причастным этому ничто.
Осмелимся предположить, что этот аспект мысли Мирандолы о тождестве бытия и небытия в человеке становится одним из магистральных для последующей традиции европейской модерной мысли, от философа к философу выявляя то одну, то иную грань негативной антропологии модерна. Весьма прозорливо эту интуицию в качестве конституирующего аспекта всего здания классической западной философии выделяет Хомяков, замечая, что философия Гегеля, являясь завершением западной философии вообще, зиждется на отождествлении бытия и небытия: «Бытие, лишенное всякого определения и всякого содержания посредством умственного процесса, уже совершенного в феноменологии, бытие, ничем не отличающееся от небытия, в этой самой тождественности своей с небытием находит силу для нового поступательного движения или, если можно так выразиться, для расклубления изнутри» [Хомяков].
С точки зрения метафизики небытие есть инвариант аспекта множественности, партикулярности. То, что акцентирует свою частность, фрагментарность, принципиальную, сущностную в своей антисущностности отсеченность от целого — настаивает на своей причастности ничтойности, акцидентальности, произвольности. Таким образом, партикуляризм есть конкретизация метафизики ничто.
Что, собственно, разумеет Аристотель под словом «политическое»? Политическое подразумевает не что иное, как общение (см.: [Аристотель, 2015, 5]). Человек — это существо, состоящее в общении. Интересно, что при таком диалоговом подходе к определению человека мы утверждаем коммунитарный, горизонтальный, объектноориентированный аспект, адекватный современной мысли; здесь же образуется пространство и для своего рода антиэссенциалистского взгляда: будучи одновременно и субъектом, и объектом общения, человек оказывается существом динамичным, подвижным, изменчивым.
Обратимся теперь к наследию отечественной мысли. Мы можем, опираясь на традицию славянофильства, обозначить человека как существо соборное. Действительно, соборность прежде всего предполагает общение, и именно общение, которое стремится к «высшему из всех благ», «является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения» [Аристотель, 2015, 5], т.е. богообщение. В рамках славянофильской традиции это общение, впрочем, не политического, но экклезиологическо-го толка, общение литургическое и евхаристическое. Если же вспомнить этимологию слова «экклесия», то все мнимые противоречия снимутся, поскольку экклесия есть наименование народного собрания в Древней Греции. Таким образом, славянофильская философия, будучи согласованной с православной экклезиологией и логикой соборной Церкви, содержит в себе ровно ту же логику, что и аристотелевская политика. В этом отношении «человек соборный» есть буквальный перевод «человека политического», с той лишь оговоркой, что это перевод с одного философского языка на другой философский язык.
Итак, в русской философии соборности содержится потенциал для снятия противоречий эссенциалистского (метафизического) и антиэссенциалистского (постметафизического) подходов. Соборность как «единство во множестве» есть гармоничное слияние иерархии и полифонии5, такое постулирование Единого, которое не отрицает, но укрепляет многое, предлагая онтологический фундамент для самости каждого человека, претворяя его из индивида, существующего в самозамкнутости, — в личность, состоящую в общении. В этом отношении соборность вполне может быть состыкована и с деколонизационным подходом. Как православное вероучение, сохраняя единство Предания, не отрицает культурную специфику Поместных Церквей, так философия и метафизика соборности не умаляет личность, но возводит ее на иной уровень обретения собственной самости — в едином теле Церкви.
Виртуальность
С точки зрения аристотелевской традиции виртуальность есть потенциальность, то есть возможность бытия проявиться. При этом концепция виртуальности предполагает приоритет возможности над действительностью ввиду детерминированности, определенности, законченности последней — и в этом смысле прямо противоречит античной философии, для которой принципиальная незавершенность, известная также в качестве «дурной бесконечности», имела негативную коннотацию. В таковом качестве виртуальность, с одной стороны, сближается с концепцией «политического романтизма» К. Шмитта, в рамках которой возможность выбора ценится выше самого выбора, а с другой стороны, с логикой поссибилизма и идеи множественности миров. «Романтизм есть субъективирующий окказионализм, поскольку для него существенным моментом является случайное отношение к миру, на место Бога в романтизме ставится романтический субъект, который из всего, что происходит, творит „возмож-ность“» [Пархоменко, 2012].
Исходя из вышеописанной логики культуры романтизма, мы можем сформулировать ключевую апорию модерной антропологии. Человек — это открытый проект, «человек делает себя сам», как определяет ключевую мысль Мирандолы Ф. И. Гиренок [Гиренок]. Выдвигая на первый план возможности устремления, а не ограничения, которые накладываются на индивида действительностью, виртуальность в то же время не продумывает никакого оператора по переводу возможности в действительность, ибо это неизбежно накладывало бы тень на саму возможность, понижало бы ее онтологическую ценность. Таким образом, адепт виртуальности и поссибилизма не имеет способности вывести свою творческую свободу вовне, породить ее в реальность, поскольку это бы означало смерть той самой свободы, как она бытует на виртуальном уровне: свободе многообразия и индетерминированности. Порожденный, т. е. выведенный в действительность, объект уже не свободен, он реален, он случился, он детерминирован своим бытийственным состоянием — он есть и уже не может вернуться к состоянию небытия, стать небывшим.
Отчасти на эту апорию ссылается Джон Милбанк (см.: [Милбанк, 2022, 63]) в ходе рассуждений о природе индивидуализма и социального конструктивизма, обнаруживая тем самым связь последних с темой виртуальности: если среда конструирует индивида, то что же в таком случае конструирует среду? Очевидно, что это воззрение держится на мирандоловско-локковой идее tabula rasa, понимании человека как голой возможности, которая переводится в действительность посредством целого комплекса социальных процессов. Но что делает действительностью сами эти процессы? Участвующие в них индивиды; образуется рекурсия, мысль впадает в уже помянутую дурную бесконечность.
Таким образом, виртуальность в антропологии как минимум проблематична. И все же именно она взята на вооружение современными антиэссенциалистскими теориями антропологии, служащими предпосылками для утверждения трансгуманизма, где в терминах виртуальности и поссибилизма переописывается не только человеческая личность, но и человеческое тело.
Крайний индивидуализм
Метафизический аналог социального понятия индивид — демокритовский атом. Теория атомизма есть, помимо прочего, попытка разрешения ключевой проблемы досократовской философии — проблемы первоначала. В отличие от своих предшественников, жаждавших распутать клубок каузальности, чтобы добраться до первой причины, Левкипп и Демокрит пошли путем структуры: важна не первопричина (то, от чего происходит все), но первоэлемент (то, из чего происходит все). Это смещение оптики сказывается на множестве философских учений: от отдельных вариантов гностицизма и пантеизма, где мир творится не Богом, но из Бога, до позитивизма, где объяснение реальности заменяется ее описанием.
Влияние атомизма можно обнаружить и в ткани социальной теории. По аналогии с метафизикой атома индивид может быть истолкован как абстрактно установленный предел делимости: однородное тело, обладающее присущими ему и только ему качествами. Будучи буквально неделимым, индивид не способен разделить с кем-либо свои качества. В обратном случае, если бы сами эти качества могли охватывать несколько тел, это означало бы, что 1) качества, будучи способны к трансценденции, выходу за пределы своих носителей, сами по себе обладают более высоким онтологическим статусом, нежели индивиды, и 2) свойства индивидов могут быть делимы между несколькими телами, что противоречит самому понятию индивида.
Таким образом, понятие индивида предполагает 1) социальный атомизм и 2) критику и деконструкцию любых надындивидуальных сущностей в качестве угрозы свободе самопроявления индивида.
-
III.
Вернемся к словам Киреевского. Прежде всего, для Киреевского важна тема виртуальности, т.е. размыкания возможности с действительностью с последующей приоритезацией возможности. Философ пишет об отделении сознания от действительности, понимая под этим крайний рационализм и даже панлогизм немецкой философии. Гегелевское отождествление бытия и небытия приводит к тому, что само бытие становится функцией сознания, производным от последнего, меняющимся по его произволу. Как пишет сам Гегель в «Философии права», «„Я“ определяет себя, поскольку оно есть соотношение отрицательности с самой собой; в качестве этого соотношения с собою оно также и равнодушно к этой определенности, знает ее своей и идеализо-ванной определенностью, исключительно лишь возможностью, которою оно не связано и в которой оно находится лишь потому, что оно полагает себя в ней» [Гегель, 1934, 37]. Мысль Гегеля держит баланс бытия и небытия; определенность уравнивается с возможностью. Определенность дает твердую почву, явленность «я» в бытии, но сознание формулирует отношение к этому только как к свободной возможности, которая в последующем может быть снята.
Влияние подобным образом истолкованного антропологического проекта немецкой философии мы можем сегодня наблюдать и в теологической плоскости. Богословские изыскания Ричарда Керни, «слабая теология» Джона Капуто основываются на эпистемологической формуле «да, возможно»6, которая распространяет свое влияние и на существо Бога. Бог Керни и Капуто — не сущий, но только возможный.
Упоминание теологической импликации темы виртуальности не случайно. Именно в связке отношений человека и Бога сосредотачивается искомая нами проблематика, один из центральных пунктов нововременной антропологии, нуждающийся в критическом анализе. Речь идет о переходе от теоцентризма к антропоцентризму, который случился в эпоху Возрождения и в известном смысле стал сущностной границей между мышлением религиозным и секулярным. Действительно, центральное понятие что древнегреческой, что средневековой метафизики — Единое (Благо, Бог) — в эпоху Возрождения становится лишь контрастным фоном для проявления сущности человека. Причем фоном весьма своеобразным, образующим некий оптический эффект, онтологический «засвет». Новое время, сохраняя Бога в качестве своего рода риторической фигуры, «великого часовщика», масштабирует до него Человека. Однако при первых подступах диалектики7 Бог противоположен человеку, как Творец противоположен творению, и их чрезмерно резкое, внезапное, непродуманное смещение друг с другом — смещение бытия и ничто — образует онтологический разрыв, чтойность ничто.
Архетипический исток этого феномена — грехопадение, на что весьма прозорливо указывал Л. Шестов. «Змей, соблазнивший человека, имел в своем распоряжении только Ничто. Это Ничто, хотя оно только Ничто, или, вернее, тем, что оно Ничто, усыпило человеческий дух, и усыпленный человек стал добычей или жертвой страха, хотя для страха не было никаких причин или оснований. Но ведь Ничто есть только Ничто. Как случилось, что оно обернулось в Нечто? И, обернувшись, приобрело такую безграничную власть над человеком и даже над всем бытием?» [Шестов, 1992, 86].
Эпоха Возрождения с присущим ей антропоцентризмом, а вместе с ней и весь модерн суть повторение грехопадения, вторичное отлучение человечества от Бога посредством выстраивания концепции «автономии разума»8. Недаром Гегель подчеркивал позитивную функцию грехопадения, понимая это событие как достижение человечеством совершеннолетия. «Гегель без всякого колебания утверждает: змей не обманул человека, плоды с дерева познания стали источником философии для всех будущих времен. И нужно сейчас же сказать: исторически Гегель прав. Плоды с дерева познания действительно стали источником философии, источником мышления для всех будущих времен» [Шестов, 1992, 10].
В лице Гегеля критикуя ключевую установку модерной философской антропологии — концепцию всесильного и автономного, независимого от Бога мышления, следом Шестов воспроизводит базовую пару атомистской метафизики: пустота и материя. Пустота есть ничто, материя — нечто. Шестов полагает, что атомисты заложили основания для естественнонаучного мышления, характерного для эпохи модерна, и меж тем его трактовка атомизма вступает в крайне своеобразный диссонанс с другим древнегреческим адептом «естественности». В аристотелевской метафизике именно материя выполняет функцию ничто как отсутствия конкретности, определенности, как чистая возможность, потенциальность. Или, быть может, вернее сказать, что материя у Аристотеля — это потенция становления, граница между ничто и нечто. Таким образом, материя сохраняет родовые связи с пустотой, которая, будучи пространством заполнения, потенциально содержит в себе всё. Перевод же ничто в нечто, а затем во «что» осуществляется посредством эйдетической формы, конкретизирующей, придающей определенные черты бесформенной материи.
Стянем предшествующее рассуждение в образ Бога. Шестов, ссылаясь на Кьеркегора, описывает Бога как Того, для Кого все возможно. Бог, таким образом, есть чистая, беспримесная возможность. Чистая и беспримесная потому, что в пространстве этой возможности нет иерархизации или приоритизации, градации, иными словами, для Бога нет лучшей или худшей возможности, потому что они все — Его, и в таковом качестве преисполнены Благом. Но то, что мы зовем возможностью в Боге, для нас есть реальность, действительность. Случившееся по Божественному произволению не может быть названо «случайным», то есть тем, чего могло бы и не быть, — оно есть необходимое, ибо само по себе порождено наивысшей необходимостью. Об этом говорит, в частности, блж. Августин в своем учении о неразличении в Боге образа желания и образа действия ввиду присущей Ему онтологической простоты и неделимости.
Категории меняются местами, а вместе с ними смещаются и онтологические пропорции. То, что в сущности наивысшего — Боге — является возможностью, в человеческом измерении становится необходимостью, обретает бытийственные черты. Напротив, то, что является возможностью исключительно в человеческом измерении, без опоры на Божественное, обнажает свою ничтойную суть: погоня за безбожной возможностью есть стремление к упадку, небытию. Меж тем, как представляется, именно такое направление антропологии и становится магистральным в эпоху модерна. Русская философская традиция обозначает его простым и лаконичным словом, своего рода калькой с европейского гуманизма: человекобожие.
-
IV.
Подведем итоги. На протяжении многих веков антропологическая модель Запада испытывала решающее влияние христианства. Христианство определило то высокое достоинство, которым было наделено понятие человека в западной культуре: богоподобное и даже богоравное существо. В то же время две эти характеристики создают оппозицию данности и заданности. Реализуя потенцию, заложенную в него Богом, переживая метанойю, внешним образом совпадая с процессами самоотречения и самоумаления, человек обретает подлинного себя, свой Божий образ, ориентированный на образ универсального человека — Христа. Этот способ бытия со Христом, не принижающим, но утверждающим и укрепляющим достоинство человека, наравне с культурой западной был внят и русской культурой. Его точно описывает Т. А. Касаткина на материале прозы Достоевского: «Об этом встречном самораскрытии человека говорит Христос как о модусе бытия христианина: „Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит“ (Ин 14:12), — призывая верующего в Него не к пассивному поклонению недостижимому величию, но к восприятию этого величия как собственной меры и к превосхождению его в собственных свершениях» [Касаткина, 2023, 60].