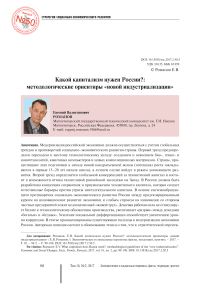Какой капитализм нужен России?: методологические ориентиры "новой индустриализации"
Автор: Романов Евгений Валентинович
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Стратегия социально-экономического развития
Статья в выпуске: 2 т.10, 2017 года.
Бесплатный доступ
Модернизация российской экономики должна осуществляться с учетом глобальных трендов и противоречий социально-экономического развития страны. Первый тренд предопределен переходом к шестому технологическому укладу: созданием и освоением био-, генно- и нанотехнологий, квантовых компьютеров и новых композиционных материалов. Страны, пропустившие этап подготовки к началу новой кондратьевской волны (потенциал роста закладывается в первые 15-20 лет начала цикла), в лучшем случае войдут в режим догоняющего развития. Второй тренд определяется глобальной конкуренцией за человеческий капитал и состоит в возможности оттока талантливой российской молодежи на Запад. В России должна быть разработана концепция сохранения и приумножения человеческого капитала, которая создаст естественные барьеры против утраты интеллектуального капитала. В основе системообразующего противоречия социально-экономического развития России между продекларированным курсом на инновационное развитие экономики и слабым спросом на инновации со стороны частных предприятий лежит недооцененный «живой труд». Дешевая рабочая сила не стимулирует бизнес к технологическому обновлению производства, увеличивает «разрыв» между доходами«богатых» и «бедных». Усиление социальной дифференциации способствует увеличению уровня коррупции. В статье проанализированы существующие подходы к модернизации экономики России. Авторская позиция состоит в обосновании тезиса о том, что в стратегической перспективе должны быть созданы условия для «технологического рывка» на основе инновационного восстановления отраслей индустриальной экономики, занятия лидерских позиций в мире в производстве квантовых компьютеров и наращивания экспорта информационных технологий, трансфера инновационных разработок ВПК в гражданские отрасли промышленности и более полного использования конкурентного преимущества, которое сохраняется у России с точки зрения инновационного развития - человеческого капитала (создание естественных барьеров против «утечки мозгов»). Необходимо увеличение доли государственной собственности и повышение эффективности управления ею в отраслях, имеющих критическое значение, для преодоления деиндустриализации российской экономики и «прорыва» в шестой технологический уклад. Увеличение стоимости «живого труда» и, как следствие, создание условий для расширенного воспроизводства рабочей силы должны стать императивом «новой индустриализации». Привлечение инвестиций (в том числе зарубежных) и оценку их качества следует рассматривать в контексте создаваемых (или несоздаваемых) возможностей по увеличению стоимости «живого труда» и числа отечественных технологий шестого технологического уклада.
Тренды и противоречия, либеральная концепция модернизации, "новая индустриализация"
Короткий адрес: https://sciup.org/147109947
IDR: 147109947 | УДК: 330.35 | DOI: 10.15838/esc.2017.2.50.5
Текст научной статьи Какой капитализм нужен России?: методологические ориентиры "новой индустриализации"
При разработке стратегии модернизации экономики России следует учитывать два взаимосвязанных глобальных тренда.
Первый предопределен началом разворачивающейся революции в передовых в технологическом смысле государствах, связанной с созданием и освоением новых медицинских, био-, генно- и нанотехнологий, композиционных материалов и квантовых компьютеров. Восходящая половина очередного цикла Кондратьева начнется после 2018 года, при этом потенциал роста закладывается в первые 15–20 лет новой волны. Исторический опыт показывает, что если страна пропускает латентный период, то есть этап подготовки волны, то она пропускает и сам цикл, в лучшем случае входя в режим догоняющего развития [14, с. 30].
А.Г. Клепач и Г.О. Куранов на основе анализа исторических данных констатировали, что основные научные открытия совершались молодыми учеными в возрасте около 30 лет, и преимущественно теми, кто увлекался наукой в 12–14 лет. Формирование «клипового сознания» [2, с. 74], основы которого закладываются в общеобразо- вательной школе, когда умение мыслить и творить подменяется умением отвечать на список заготовленных вопросов, позволяет сделать вывод о том, что «если реформа образования затянется еще на пять лет (а сейчас она идет не в сторону творческого мышления), то к 2020-м и даже к 2030-м годам Россия не получит поколения молодых ученых, способных обеспечить настоящие прорывные научные и технологические результаты» [14, с. 30].
Второй тренд определяется глобальной конкуренцией за человеческий капитал, который становится главным фактором решения стратегических задач любой страны [18, с. 10].
По нашему мнению, данный тренд следует рассматривать через призму событий на Украине1: помимо явных (геополитиче-
,цые пере?| преследовались (и преследуются) США, существует, как нам видится, неявная цель, обусловленная именно глобальной конкуренцией за человеческий капитал и связанная с исчерпанием в США ресурсов пятого технологического уклада. Создание технологий шестого уклада требует новых идей и людей, способных эти идеи генерировать. И страной, которая обладает соответствующим человеческим ресурсом, является Россия.
Дестабилизация, ухудшение экономического положения в нашей стране на фоне сомнительных реформ в сфере образования и науки должны стать условиями для оттока талантливой молодежи на Запад. Противодействие реализации этой цели и должна оказать стратегия использования человеческого капитала в России, разрабатываемая в рамках концепции модернизации российской экономики.
Очевидно, что новая экономическая политика России должна строиться с учетом понимания отмеченных трендов, явных и неявных целей наших западных
«партнеров».
Стратегия модернизации российской экономики должна способствовать разрешению системообразующего противоречия современного этапа социально-экономического развития России: между продекларированным на государственном уровне курсом на инновационное развитие российской экономики и слабым спросом на инновации со стороны промышленных предприятий. Известно, что для внедрения предпринимателем новой техники и технологии издержки на их применение должны быть ниже издержек на труд. При наличии дешевой рабочей силы затраты на технологическое обновление производства экономически нецелесообразны [4, c. 42].
Поэтому именно недооцененный «живой труд» является естественной преградой для инновационного развития российской экономики.
Существенным представляется то, что возможности увеличения производительности труда за счет большей загрузки занятых работников себя исчерпали. Как отмечают Н.В. Орлова и С.К. Егиев, Россия заняла второе место в мире (после Южной Кореи) по количеству рабочих часов на душу населения (985 часов в год) [19, с. 75]. Таким образом, исследователями сделан вывод о том, что низкая производительность труда связана с качеством инвестиций, а не человеческого капитала.
Достаточно высокие издержки на труд (дорогая рабочая сила) за рубежом инициировали разработку концепции внедрения инноваций на рабочем месте как ресурса повышения производительности труда [33]. Установлено, что инновации на рабочем месте повышают не только индивидуальную производительность труда и эффективность организационной деятельности [34], но и уровень эффективности работы организации в целом [31; 32].
Неразрешаемое (не сглаживаемое в должной мере) противоречие между «трудом» и «капиталом» инициирует увеличение социальной дифференциации в России. По некоторым оценкам за последние два года пропасть между доходами 10% «бедных» и 10% «богатых» увеличилась и зашкаливает за отметку 44 раза, которая в 10 раз превышает допустимую мировую норму Международной организации труда (МОТ) [11].
Усиление социальной дифференциации способствует увеличению уровня коррупции (определяемому как все более возрастающим статусом участников коррупционных схем, так и размером «вознаграждения» за оказанные услуги). Сравнительный анализ 129 стран показывает [36], что неравенство доходов повышает уровень коррупции за счет материальных и нормативных механизмов. Богатые имеют и большую мотивацию, и больше возможностей участвовать в коррупции, в то время как бедные более уязвимы к вымогательству.
Цель данной статьи состоит в обосновании методологических ориентиров модернизации российской экономики, которая должна строиться на учете глобальных трендов и способствовать сглаживанию противоречий.
Модернизация российской экономики: либеральный взгляд
В статье А. Кудрина и Е. Гурвича «Новая модель роста российской экономики» сформулированы 15 важнейших задач, которые нужно решить для построения «модели стимулирования роста». Три задачи мы рассматриваем в качестве системообразующих. Первая состоит в радикальном сокращении нерыночного сектора, включающего «государственные и квазигосу-дарственные государственные компании, которые в основном руководствуются нерыночной мотивацией» [16, с. 29].
Вторая задача, по мнению А. Кудрина и Е. Гурвича, состоит в проведении дальнейшей реформы в бюджетных секторах (избавление от избыточной занятости, увеличение предложения труда, недопущение опережающего повышения заработной платы по сравнению с ростом производительности труда).
Третья задача состоит в необходимости восстановления доверия инвесторов и к макроэкономической устойчивости российской экономики, и к политике институциональных изменений. Например, отмечается, что «важно поддержать ранее сформировавшиеся тенденции, в частности заимствование передовых технологий. Этот путь признан наиболее эффектив- ным для повышения производительности в странах, находящихся на нашем уровне развития» [16, с. 32].
Проанализируем высказанные позиции.
Что касается роли государства в экономике, то позиция вполне понятна: следует свести до минимума государственное присутствие в экономике, поскольку сама «генетика» государственных компаний такова, что выделенные бюджетные средства всегда будут расходоваться неэффективно. Следует отметить, что задача по снижению присутствия государства в экономике была сформулирована и в Концепции среднесрочной программы развития экономики России «Экономика роста» Столыпинского клуба [15].
Приведенные в работе А. Кудрина и Е. Гурвича ссылки на работы зарубежных исследователей [29], доказывающих, что у предприятий государственной и муниципальной форм собственности значительно хуже показатели, чем у частных, нам представляются не совсем корректными: в качестве примера приводится выполненное Всемирным банком исследование 79 тыс. российских предприятий за период 2003– 2008 гг.
Можно привести результаты и других зарубежных исследований, в которых отмечается, что характер связи между размерами государственного сектора и эффективностью инноваций и модернизации страны не является четко установленным [35]. С одной стороны, осуществленные в ЕС исследования показали, что экономическая ситуация в странах с меньшей долей государственного сектора (государственные расходы менее 40% ВВП) лучше, чем в странах с высокой (более 50%) и средней (40…50%) его долей. С другой стороны, инновации в государственном секторе напрямую связываются с экономическим процветанием: НИОКР в го-

секторе оказывают значительное влияние на разработку новых продуктов и процессов и, таким образом, опосредованно способствуют экономическому росту и повышению производительности [35, с. 21]. При этом государственные НИОКР имеют важное значение в поддержке и стимулировании инноваций в частных фирмах [35, с. 32]. Отмечается, что в государственном секторе можно добиться лучших результатов за счет роста масштаба производства (экономии на масштабе) [28, с. 24].
Для повышения эффективности государственного сектора ставится задача рационализации государственных расходов на НИОКР, укрепления связей между университетами и промышленностью (поощрение создания научных парков, стимулирование университетского патентования) [35, c. 6], что актуально и для России.
Предложения по снижению доли государства в экономике не опираются на результаты анализа доходности российских государственных предприятий в последние годы. В бюллетене аналитического центра при Правительстве Российской Федерации [7] приводятся данные, свидетельствующие об эффективности государственных компаний: доля их выручки в совокупной выручке топ-100 компаний в последние годы устойчиво росла – с 47% в 2009 году до 51% в 2014 году. При этом число государственных компаний в топ-100 рейтинга за этот же период сократилось с 31 до 28. В целом на 28 компаний с государственным участием в 2014 году пришлось 67% выручки всех компаний из топ-100 рейтинга Эксперт РА в рассматриваемых отраслях, где представлены госкомпании.
Как верно отмечает В.И. Россинский, «мировой экономический опыт однозначно свидетельствует о том, что в современных условиях эффективность экономики в меньшей степени зависит от формы собственности и в большей степени от качества управления» [24, с. 61].
Применительно к государственным компаниям речь должна идти о повышении качества корпоративного управления, при котором обеспечивается эффективное взаимодействие акционеров, Совета директоров и высшего менеджмента компании. Проблемы государственного корпоративного управления, по нашему мнению, определяются тем, что акционеры и Совет директоров (в большинстве своем представители государства2) не обеспечивают должный контроль за высшим менеджментом государственных корпораций. С этим, например, мы связываем отсутствие открытой информации о доходах топ-менеджеров государственных российских компаний. В последние годы за рубежом открытость стратегических решений, партнерство с представителями общества и учет общественного мнения считаются важными стратегическими составляющими [30], определяющими эффективность деятельности компании.
По результатам исследований влияния Совета директоров (СД) на финансовые результаты деятельности российских компаний установлено, что «вопреки агентской теории, пропагандирующей максимальное число независимых директоров в составе СД, для российских компаний важно наличие в составе совета исполнительных директоров, которые обладают уникальными знаниями о специфике функционирования компании: показатель «доля исполнительных директоров в составе совета» оказывает положительное воздействие на эффективность компании» [10, с. 143]. При этом ключевой характеристи- кой, влияющей на эффективность фирмы, является отраслевой опыт Совета директоров. Исходя из сказанного актуальным представляется анализ составов советов директоров государственных компаний (и внесение корректив в случае необходимости) с целью повышения эффективности деятельности как самих советов, так и компаний в целом.
В контексте дискуссии о мере эффективности государственного или частного бизнеса уместно вспомнить об интервью с А. Чубайсом в 2001 году, которое не было широко известно, а следовательно, и не вызвало в свое время соответствующего общественного резонанса [8].
«А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос, двадцатый... Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью», – заявлял в интервью А. Чубайс.
Таким образом, приватизация начала 90-х годов, а позже залоговые аукционы служили основанием для передачи государственной собственности в частные руки и не решали задачи повышения эффективности производства. И кризис конца 90-х годов тому яркое подтверждение. Как справедливо отмечал В.И. Россинский, «в момент начала приватизации, прежде всего, необходимо было определить границу допустимого разгосударствления, т.е. в структуре производительных сил выделить ту часть, которая является общественным достоянием. Задача эта не очень сложная, ибо здесь идет речь о производствах, требующих усилий всего общества через следований, подготовки высококвалифи- цированных кадров и огромные капитальные вложения, т.е. создание и поддержание таких производств, которые в принципе неосуществимы в рамках частного капитала. Об этом свидетельствует весь мировой опыт» [24, с. 62].
Именно оттого, что в свое время эта граница не была установлена (такой задачи и не ставилось в принципе), вопрос собственности в России (и ее «моральной легитимизации») не является до конца решенным. Необходима выработка механизмов, которые, не вступая в противоречие с международным правом, сделают невозможным (а точнее бессмысленным) предъявление исков по типу иска «инвесторов» «ЮКОСа» к Российской Федерации.
Для решения второй задачи А. Кудрин и Е. Гурвич предлагают следующий комплекс мер:
– отказ от повышения зарплаты в бюджетном секторе, которое не увязано с ростом его производительности;
– оптимизация численности занятых в бюджетном секторе;
– переход от борьбы с безработицей (размеры которой вряд ли будут значимыми) к борьбе за конкурентоспособность;
– повышение мобильности и расширение переобучения рабочей силы;
– совершенствование механизмов регулирования миграции в интересах привлечения необходимых рынку труда работников;
– поэтапное повышение пенсионного возраста.
В исследовании В.М. Серова [26] обосновано, что для простого воспроизводства рабочей силы в каждой семье должно рождаться в среднем 2,2 ребенка. Минимальная заработная плата квалифицированного рабочего должна быть не ниже 2,1 прожи-
,цые пере?|
о родителя работают. При зарплате ниже 2,1
прожиточного минимума численность населения (работников) будет снижаться, и производственный капитал не сможет функционировать, он будет не нужен.
Если же государство хочет иметь здоровое и грамотное поколение работников (а для этого один из родителей должен в течение длительного периода находиться в отпуске «по уходу за ребенком»), то указанная минимальная заработная плата должна равняться 4,2 прожиточного минимума [26, с. 90] . Напомним, что речь идет о простом, а не расширенном воспроизводстве рабочей силы.
Государство, сдерживая рост заработной платы в бюджетном секторе, сдерживает этот рост и во всех отраслях народного хозяйства. Это порождает замкнутый круг: 80% населения тратит 80% своих доходов на продукты питания, оставшиеся 20% не позволяют осуществлять сколько-нибудь крупные покупки, т.е. политика сдерживания роста оплаты труда является тормозом развития потребительского рынка и экономики в целом [22, с. 10].
В отношении роста производительности труда мы уже отмечали выше, что Россия заняла второе место в мире (после Южной Кореи) ) по количеству рабочих часов на душу населения (985 часов в год) [19, с. 75]. Анализ уровня заработной платы одной из самых крупных категорий бюджетников – учителей общеобразовательных школ – дает основание говорить о том, что рост оплаты труда обеспечивается преимущественно за счет экстенсивных методов (увеличения числа отработанных часов), т.е. нагрузка среднестатистического школьного учителя существенно превышает ставку (18 часов).
Меры по оптимизации занятых в бюджетном секторе (по существу, сокраще- нию) определенным образом противоречат мере, которая предусматривает расширение переобучения рабочей силы и которую предлагают А. Кудрин и Е. Гурвич. Например, численность штатного профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных вузов последовательно снижалась – с 319,0 тыс. человек в 2011/12 учебном году до 255,8 тыс. человек в 2015/16 учебном году: 2012/13 уч. г. – 312,8 тыс. человек; 2013/14 – 288,2 тыс. человек; 2014/15 уч. г. – 271,5 тыс. человек3.
В соответствии с показателем «численность студентов, обучающихся по программам высшего образования в расчете на одного работника ППС» в государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы, который к 2020 году должен увеличиться до 13 человек [21], возможно снижение численности ППС государственных вузов до 184,9 тыс. человек к 2020 году, из которых 150,5 тыс. человек будут работать на полной ставке, а 34,4 тыс. человек – на 0,5 и 0,25 ставки [23, с. 184]. Тренд на снижение численности ППС государственных вузов на фоне увеличения нагрузки на преподавателей в стратегической перспективе негативно скажется на качестве образования. В этой связи вызывает сомнение и возможность реализации концепции «обучение всю жизнь» (life-long learning), которая продекларирована в государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы.
Решение третьей задачи – восстановление доверия инвесторов и к макроэкономической устойчивости российской экономики, и к политике институциональных изменений – следует рассматривать в контексте предложений, сделанных А. Кудриным на закрытом заседании президиума
Экономического совета, состоявшемся 25 мая 2016 года. По мнению А. Кудрина, страна должна, пусть и на вторых ролях, встроиться в международные технологические цепочки. Иначе невозможно выполнить ключевое условие для стимулирования российской экономики – привлечение иностранных инвестиций [17]. Естественно, для того чтобы «встроиться в международные технологические цепочки» на вторых ролях, можно только заимствовать технологии. И в этом смысле о «прорыве» в шестой технологический уклад можно забыть. В XXI веке Россия не может себе позволить скатиться к догоняющему развитию.
Позиция А. Кудрина и Е. Гурвича кардинально отличается от того, о чем говорил в Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин 1 декабря 2016 года [20]: «Для выхода на новый уровень развития экономики, социальных отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные решения ( выделено мной. – Е.Р. ). Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. Сквозные – это те, которые применяются во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее».
Что касается привлечения иностранных инвестиций, которые рассматриваются чуть ли не единственной панацеей роста ВВП [18; 27], то следует дать ответ на вопрос: о каких инвестициях идет речь и ка- сутствует информация о поступлениях по типам иностранных инвестиций после 2013 года4. Удельный вес прямых иностранных инвестиций в экономику России невелик. Наибольший удельный вес в структуре иностранных инвестиций составляли торговые и прочие кредиты. Подобного рода «инвестиции» являются закамуфлированной формой «утечки капитала» из России.
Позиция А. Кудрина обусловлена игнорированием системного противоречия современного этапа социально-экономического развития России, которое мы сформулировали во введении: между продекларированным на государственном уровне курсом на инновационное развитие российской экономики и слабым спросом на инновации со стороны промышленных предприятий.
Переход от экстенсивной экономической модели, предполагающей усиление эксплуатации за счет увеличения продолжительности и интенсивности труда, к интенсивной (инновационной) модели развития должен стать императивом новой экономической политики. И в этом смысле мы считаем важным, что государство готово «поделиться» с бизнесом изобретениями, патентами и ноу-хау. Подготовительные процедуры для передачи прошли около трех тысяч результатов интеллектуальной деятельности во всех отраслях промышленности [6].
,цые пере?| деятельность является той «лакмусовой бу- мажкой», которая позволяет провести «раз- граничительные линии» между национально ориентированным и компрадорским капиталом. Там, где осуществляются поиск, разработка и внедрение инноваций, где реализуется стратегия развития, там нет места спекулятивному капиталу, там бизнес свои интересы увязывает с интересами работников и страны в целом. Реализация стратегии инновационной модернизации экономики России с неизбежностью поставит вопрос о модернизации банковской сферы, которая должна начать выполнять свою функцию в новых условиях хозяйствования – поиск и финансирование проектов, способствующих созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью. До момента введения санкций большинство российских банков осуществляли обычные финансовые спекуляции: брались дешевые кредиты на Западе, за счет которых финансировались российские промышленные предприятия (естественно, ставки по кредитам значительно превышали аналогичные ставки на Западе). В известной степени причина данного явления кроется в реализуемой монетарной политике (по крайней мере до последнего времени)5.
Методологические ориентиры «новой индустриализации»: какой капитализм нужен России?
Разработка и реализации концепции новой модели экономического роста – концепции реиндустриализации [3; 4; 5], «новой индустриализации» [25], неоиндустриализации [9] – обусловлена необходимостью ликвидации угроз продовольственной, фармацевтической и медицинской безопасности, угроз снижения темпов эко- номического роста вследствие деиндустриализации экономики России, угроз воспроизводству человеческого капитала. Нам представляется, что понятие «новая индустриализация» наиболее точно отражает цели и объем преобразований, которые необходимо совершить в российской экономике.
Разработка концепции «новой индустриализации» требует всестороннего изучения американского опыта времен «Великой депрессии», опыта Китайской Народной Республики и отечественного опыта новейшей истории России (кризис 1998 года).
Правительством Примакова–Маслюкова были созданы условия нормализации макроэкономической среды для производителей и введены меры по защите внутреннего рынка. В определенной степени успехи этого правительства были обеспечены за счет простаивавших производственных мощностей и незанятой рабочей силы, тем не менее было обеспечено увеличение роста инвестиций в ВВП с 12 до 16,5% [25, с. 21]. В 1999 году был обеспечен рост инвестиций в основной капитал, объем которых составил 670439 млн. руб., из которых 297278 млн. руб. (44,3% от общего объема инвестиций) инвестированы в отрасли, производящие товары6. Инвестиции в основной капитал в 1998 году составили 407086 млн. руб., из которых 165092 млн. руб. инвестировано в отрасли, производящие товары (40,6% от общего объема инвестиций). Таким образом, произошло не просто увеличение инвестиционной активности, но и изменение соотношения между инвестициями в отрасли, производящие товары, и отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги. При этом объем иностранных инвестиций в промышленность в 1999 году увеличился по сравнению с 1998 годом на фоне общего падения объема иностранных инвестиций. Объем иностранных инвестиций в 1998 году составлял 11773 млн. долл., в промышленность инвестировано 4698 млн. долл. (39,9% от общего объема иностранных инвестиций). В 1999 году объем иностранных инвестиций снизился до 9560 млн. долл., в промышленность инвестировано 4876 млн. долл. (51,0% от общего объема иностранных инвестиций)7.
В современных условиях санкционное давление создает условия для импортоза-мещения, включая и глубокую локализацию производства. При этом мы разделяем позицию, согласно которой «лучшее им-портозамещение – это производство отечественной продукции, конкурентоспособной как внутри страны, так и на внешних рынках. Способность экспортировать означает способность конкурировать, в том числе и с импортом. Такое импортозаме-щение может претендовать и на государственную поддержку» [18, с. 19].
В качестве основных методологических ориентиров реализации концепции «новой индустриализации» могут быть приняты высказывания Е.М. Примакова на заседании Меркурий-клуба в январе 2014 года [1].
Первый тезис касается роли государства в построении новой экономики.
«Можно ли считать, что в современной России сам рыночный механизм без государственного участия уже способен обеспечить рост и сбалансированность экономики, а низкий уровень конкуренции достаточен для достижения технико-технологического прогресса? Однозначно нет. Конечно, это не означает навечного доми- это необходимо в определенные исторические периоды, а я считаю, что сегодня мы находимся именно в таком периоде. Помимо всего прочего наши неолибералы вообще не учитывают уроки кризиса 2008–2009 годов. Известно, что в США и странах Евросоюза во время кризиса было усилено влияние государства на экономику. Такой тренд сохраняется».
Второй тезис касается самой сущности «новой индустриализации»:
«… Неолибералы, по сути, игнорируют необходимость восстановить в России разрушенные в 90-е годы отрасли промышленности, в первую очередь машиностроение. Отказ от реиндустриализации ими нередко рассматривается в виде задачи вхождения России в постиндустриальную стадию. Между тем переход в постиндустриальную экономику в сегодняшней практике отнюдь не предполагает отход от традиционных отраслей, которые в том числе решают и проблему занятости. Естественно, речь идет об оснащении их современной техникой...
Постиндустриальное общество – это не только хайтек и сфера услуг. В тех же постиндустриальных Соединенных Штатах сегодня существует тенденция восстановления для покрытия внутреннего спроса производств, ранее вытесненных в развивающиеся страны. Согласен с выводом, сделанным председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко: «Страна, претендующая на лидерство и обеспечивающая собственную безопасность, не может специализироваться всего лишь на 2–3 высокотехнологичных отраслях. Поэтому перед нами стоит наисложнейшая задача – занять достойное место в новом технологическом укладе при одновременном инновационном восстановлении отраслей промышленности старого уклада».
'"^бЦ С.Д. Бодруновым была сформулирована
«парадигма развивающейся экономики», которая реализуется в рамках стратегии реиндустриализации. Она определена как «восстановление роли и места промышленности в экономике страны в качестве ее базовой компоненты на основе ново- го технологического уклада путем решения комплекса экономических, организационных и иных задач» [5, с. 8]. При этом особое внимание следует обратить на сырьевой комплекс как источник финансового обеспечения будущей реиндустриализации, усиливая в нем перерабатывающий сегмент. Как отмечают С.Д. Бодрунов, Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин, проблема не в гипертрофированных масштабах сырьевого сектора, а в недоразвитости перерабатывающих отраслей [4, с. 21].
Подобной позиции придерживается С.С. Губанов, который указывает, что, для того чтобы покончить с деиндустриализацией, «необходимо соединить добывающую промышленность с обрабатывающими комплексами, особенно машиностроительными. Основа их организационно-экономического соединения – вертикально-интегрированная собственность, а форма – межотраслевые цепочки производства конечной продукции с высоким мультипликатором добавленной стоимости» [9, с. 39].
«Новая индустриализация» должна трансформироваться в программу реализации основных направлений разворачивающейся в мире революции, связанной с освоением био-, нано- и генетических технологий, созданием квантовых компьютеров и новых композиционных материалов, т.е. всего того, что составляет основу нового (шестого) технологического уклада. Проблема в том, насколько эту стратегическую цель как главное звено текущей политики можно решить «сходу», не вос- становив разрушенный контур индустриальной экономики [25, с. 19]. Как верно отмечает В.Т. Рязанов, «попытаться совершить «прыжок» в шестой технологический уклад, минуя не развившийся у нас пятый и забывая о деградации сферы производства, – это значит выстраивать политику на основе иллюзий и утопических проектов» [25, с. 19].
Приведенное замечание относительно шестого технологического уклада мы считаем принципиально важным. Иная точка зрения на эту проблему была высказана Е. Каболовым, который отмечал, что структура экономики России в настоящее время далека от постиндустриальной модели8. По его мнению, для вхождения России в ближайшие 10 лет в число стран с 6-м технологическим укладом необходимо «перемахнуть» через 5-й технологический уклад [12].
Точка зрения В.Т. Рязанова относительно утопичности совершения «прыжка» через уклад базируется на том, что большинство инноваций нового уклада формируются в фазе доминирования предыдущего уклада. Пятый технологический уклад, определяемый обычно как уклад информационных и коммуникационных технологий, не доминирует в российской экономике. Вместе с тем уровень и результаты фундаментальных исследований отечественных ученых в системе РАН дают основание говорить о том, что Россия находится в числе передовых стран по созданию компьютеров, работающих на совершенно иных физических принципах (квантовых) [13]. О положительной динамике в разработке передовых информационных техно- логий свидетельствует увеличивающийся объем их экспорта, который в 2015 году составил 7 миллиардов долларов («оборонки» 14,5 миллиардов, сельхозпродукции 16,2 миллиарда) [20]. И в этом смысле, став лидером в производстве квантовых компьютеров и наращивая экспорт информационных технологий, Россия сможет «перескочить» через уклад.
Нам представляется, что для вхождения России в течение ближайших 10 лет в число стран с шестым технологическим укладом, опираясь на инновационные разработки ВПК и обеспечивая трансфер технологий в гражданские отрасли промышленности, следует наиболее полно использовать конкурентное преимущество, которое сохраняется у России – человеческий капитал. Соответственно должна быть разработана стратегия использования этого конкурентного преимущества.
Для создания условий более быстрого «вызревания» инноваций шестого технологического уклада необходимо объединить усилия со странами-лидерами в области программного обеспечения и управления информацией (Индия), электроники и компьютерной памяти (Китай).
В Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин 1 декабря 2016 года [20] предложил запустить «масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В её реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова – нашего будущего. Надо провести инвентаризацию и снять все административные, правовые, любые другие барьеры, которые мешают бизнесу выходить как на суще- котехнологичные рынки; обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами, в том числе нацелить на эти задачи работу обновлённого ВЭБа («Банка развития»). Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем современную систему среднего профессионального обра- зования, организуем подготовку преподавателей колледжей и техникумов на основе передовых международных стандартов».
Принципиальным вопросом является следующий: способна ли экономика России в условиях многоукладности реализовать те задачи, которые ставит Президент РФ? Мы разделяем точку зрения С.С. Губанова, который указывает на то, что требованиям неоиндустриализации отвечает только стадия капитализма не ниже государственной корпоративной [9, с. 36]: «Совершенно ясно, какая форма собственности должна при этом господствовать – вертикально-интегрированная, какое необходимо основное звено воспроизводства – ТНК, какая целевая функция воспроизводства – добавленная стоимость (а не одна прибыль), какой тип планирования – макроэкономический, адекватный форме собственности».
С этой целью предлагается стратегическая национализация командных высот в экономике. Как верно отмечает С.С. Губанов, национализация нужна не ради национализации. Она нужна для создания вертикально-интегрированной структуры (собственности), которая обеспечит наращивание отечественного производства продукции с высокой долей добавленной стоимости на основе прочной и неразрывной связи между добычей и промышленной переработкой сырья, первичных ресурсов.
,цые пере?| мике обусловлено и тем, что именно госу- дарственные предприятия должны задавать стандарты по воспроизводству рабочей силы (от уровня минимальной оплаты труда до различных аспектов социального обеспечения работников). Институциональным основанием таких стандартов должна стать реализация предложения, связанного с переходом к почасовой системе регулирования производительности труда и заработной платы, что предполагает разработку плановых нормативов почасовой производительности машин, рабочих мест и работников. Данное предложение мы рассматриваем в качестве системообразующего в создании условий для расширенного воспроизводства рабочей силы.
Стратегическая национализация командных высот в экономике предполагает повышение качества корпоративного управления на государственных предприятиях и борьбу с коррупцией на всех уровнях. В современных социально-экономических и политических условиях коррупцию следует рассматривать как угрозу национальной безопасности со всеми вытекающими последствиями9.
Объем данной статьи не позволяет раскрыть роль образования и науки в решении задач по модернизации российской экономики. Укажем на один из важнейших аспектов, который задает ориентиры дальнейших исследований. Например, применительно к высшему и среднему профессиональному образованию сформулированное нами основное противоречие социально-экономического развития обусловливает противоречие между формированием и финансированием заказа на востребованные экономикой (в первую очередь) технические направления подготовки государством и практическим отсутствием участия в этом процессе биз-нес-сообщества. Иными словами, за счет средств налогоплательщиков финансируется потребность в кадрах частных предприятий. По существу это противоречие можно сформулировать как противоречие между общественным характером производства знаний и частной формой присвоения результата (использования знаний). В условиях увеличения доли государства в экономике формирование и финансирование заказа на подготовку кадров со стороны государства выглядит обоснованным и логичным.
Чем в меньшей степени государство представлено в тех или иных отраслях, тем в большей степени должно быть обеспечено участие частных предприятий в подготовке кадров. Это предполагает разработку механизмов государственно-частного партнерства, определяющих целевые индикаторы софинансирования на стратегическую перспективу, прямое участие бизнеса в решении общегосударственных задач (в том числе через создание эндаумент-фон-дов и т.д.). Частные предприятия должны сформировать своего рода «амортизационный фонд на человеческий капитал», который станет источником финансирования собственных кадровых потребностей. Отсутствие желания или неспособность инвестировать в подготовку кадров должны стать основанием для передачи доли или всей собственности в пользу того, кто такие инвестиции способен осуществлять. Соответственно, должен быть разработан пра-вово й механизм, регламентирующий данные процедуры с учетом мирового опыта.
Заключение
Нам представляется, что вклад данного исследования в развитие теоретической науки состоит в обосновании следующего тезиса: без философского и социологического осмысления объективной реальности, предполагающего выявление противоречий социально-экономического развития, и предложения путей их разрешения (сглаживания) невозможно обеспечить интенсивное (инновационное) развитие российской экономики. Исходя из этого, любые решения следует рассматривать через призму того, в какой степени они способствуют разрешению (сглаживанию) системообразующего противоречия социальноэкономического развития России. Данный подход должен быть использован и при разработке вариантов модернизации образования и науки как интеллектуальной основы «прорыва» в шестой технологический уклад.
Основные выводы исследования состоят в следующем.
-
• Реализация концепции «новой индустриализации» предполагает увеличение доли государственной собственности и повышение эффективности управления ею в отраслях, имеющих критическое значение для преодоления деиндустриализации российской экономики и «прорыва» в шестой технологический уклад: создание вертикально-интегрированных структур в цепочке «добыча сырья – промышленная переработка», которые обеспечат наращивание отечественного производства продукции с высокой долей добавленной стоимости.
-
• Увеличение стоимости «живого» труда и, как следствие, создание условий для
силы должны стать императивом инновационной модернизации российской экономики.
-
• «Прорыв» России в шестой технологический уклад возможен на основе занятия лидерских позиций в мире в производстве квантовых компьютеров и наращивания экспорта информационных технологий, трансфера инновационных разработок ВПК в гражданские отрасли промышленности при наиболее полном использовании сохраняющегося конкурентного преимущества – человеческого капитала (создание естественных барьеров против «утечки мозгов»).
-
• Необходимо обеспечить участие частных предприятий в решении задачи финансового и содержательного обеспечения кадровых потребностей модернизируемой экономики. Частные предприятия должны сформировать своего рода «амортизационный фонд на человеческий капитал», который станет источником финансирования собственных кадровых потребностей. Неспособность инвестировать в подготовку кадров должна стать основанием для передачи доли или всей собственности (на основе разработанного правового механизма) в пользу того, кто такие инвестиции способен осуществлять.
-
• Привлечение инвестиций (в том числе зарубежных) и оценку их качества следует рассматривать в контексте создаваемых (или не создаваемых) за счет этого возможностей по увеличению стоимости «живого» труда и числа отечественных технологий шестого технологического уклада.
Вышеизложенное и является ответом на вопрос: какой капитализм нужен России?
Список литературы Какой капитализм нужен России?: методологические ориентиры "новой индустриализации"
- Акопов, П. Примаков разоблачающий /П. Акопов//Взгляд. Деловая газета. -2014. -14 янв. -Режим доступа: http://vz.ru/politic../15/668058.htm
- Балацкий, Е.В. Новые тренды в развитии университетского сектора/Е.В. Балацкий//Мир России. -2015. -№ 4. -С. 72-98.
- Бодрунов, С.Д. Императивы, возможности и проблемы реиндустриализации/С.Д. Бодрунов//Экономическое возрождение России. -2013. -№ 1(35). -С. 4-14.
- Бодрунов, С.Д. Реиндустриализация российской экономики: императивы, потенциал, риски/С.Д. Бодрунов, Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин//Экономическое возрождение России. -2013. -№ 1(35). -С. 19-49.
- Бодрунов, С.Д. Российская экономическая система: будущее высокотехнологичного материального производства/С.Д. Бодрунов//Экономическое возрождение России. -2014. -№ 2(40). -С. 5-16.
- В России началась приватизация изобретений //Российская газета. -2016. -6 июля. -Режим доступа: https://rg.ru/2016/07/06/v-rossii-nachalas-privatizaciia-izobretenij.html.
- Государственное участие в российской экономике: госкомпании, закупки, приватизация //Бюллетень о развитии конкуренции. -2016. -Вып. 13/Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. -Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/8449.pdf
- Григорук, Д.А. А. Чубайс: «Приватизация вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу -остановить коммунизм» /Д.А. Григорук//Открытая электронная газета Forum.msk.ru. Опубликовано 18.02. 2010. -Режим доступа: http://forum-msk.org/material/economic/2493684.html
- Губанов, С.С. Неоиндустриальная модель развития и ее системный алгоритм/С.С. Губанов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 3(33). -С. 23-44.
- Дуляк, Ю. Эмпирический анализ влияния Совета директоров на финансовые результаты деятельности российских компаний/Ю. Дуляк//Экономическая политика. -2015. -Т. 10. -№ 1. -С. 126-148.
- Запрети черный вывоз капитала -и доллар в России упадет. //Накануне.RU. -2016. -31 марта. -Режим доступа: http://www.nakanune.ru/articles/111564
- Каболов, Е. Шестой технологический уклад /Е. Каболов//Наука и жизнь. -2010. -№ 4. -Режим доступа: http://www.nkj.ru/archive/articles/17800/
- Карасев, С. Российские ученые нашли способ упростить создание квантового компьютера /С. Карасев//3DNews. -2016. -24 июля. -Режим доступа: http://www.3dnews.ru/936599
- Клепач, А.Н. О циклических волнах в развитии экономики США и России (вопросы методологии анализа)/А.Н. Клепач, Г.О. Куранов//Вопросы экономики. -2013. -№ 11. -С. 4-33.
- Концепция среднесрочной программы развития экономики России «Экономика роста» /Столыпинский клуб. Экспертная площадка рыночников-реалистов. -Режим доступа: http://stolypinsky.club/economica-rosta/
- Кудрин, А. Новая модель роста для российской экономики/А. Кудрин, Е. Гурвич//Вопросы экономики. -2014. -№ 12. -С. 4-36.
- Кудрин предложил Путину снизить геополитическую напряженность //Ведомости. -2016. -30 мая. -Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/30/642871-kudrin-putinu
- Медведев, Д.А. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы/Д.А. Медведев//Вопросы экономики. -2015. -№ 10. -C. 5-29.
- Орлова, Н.В. Структурные факторы замедления роста российской экономики/Н.В. Орлова, С.К. Егиев//Вопросы экономики. -2015. -№ 12. -C. 69-84.
- Послание Президента Федеральному Собранию. Москва, Кремль. 1 декабря 2016 г. //Сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы //Интернет-портал «Российской газеты». 24 апреля 2014 г. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/04/24/obrazovanie-site-dok.html.
- Романов, Е.В. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2012. -160 с. -(Высшее образование).
- Романов, Е.В. Методология и теория инновационного развития высшего образования в России: монография/Е.В. Романов. -М.: ИНФРА-М, 2016. -302 с. -(Научная мысль).
- Россинский, В.И. Корпоративное управление: учеб.-метод. комплекс/В.И. Россинский. -Новосибирск: НГУЭУ, 2004. -128 с.
- Рязанов, В.Т. Новая индустриализация России: стратегические цели и текущие приоритеты/В.Т. Рязанов//Экономическое возрождение России. -2014. -№ 2(40). -С. 17-25.
- Серов, В.М. Об экономических основах и социальной ответственности бизнеса/В.М. Серов//Экономическое возрождение России. -2013. -№ 1(35). -С. 87-91.
- Улюкаев, А. От экономического кризиса к экономическому росту, или Как не дать кризису превратится в стагнацию/А. Улюкаев, В. Мау//Вопросы экономики. -2015. -№ 4. -С. 5-19.
- Afonso, A. Public sector efficiency: An international comparison/A. Afonso, L. Schuknecht, V.Tanzi//European Central Bank Working Papers -No. 242. -2003. -Julio. -37 p. Available at: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp242.pdf
- Bogetić, Ž. Drivers of Firm-Level Productivity in Russia's Manufacturing Sector/Ž. Bogetić, O.Olusi//World Bank Working Paper. -2013 -No WPS6572.
- Bordean, Ioan. Strategic planning in public administration/Ioan Bordean, Alina Răileanu//Proceedings of the fifth «administration and public management» international conference. -Bucharest. -2009. -P. 141-153. Available at: http://www.confcamp.ase.ro/2009/14.pdf.
- Dhondt, S. Reshaping workplaces: Workplace innovation as designed by scientists and practitioners /S. Dhondt, G.van Hootegem//European Journal of Workplace Innovation. -2015. -No. 1 (1). -P. 17-25.
- Oeij, P.R.A. Effect of workplace innovation on organisational performance and sickness absence /P.R.A. Oeij, F. Vaas//World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. -2016. -No. 12 (1). -P. 101-129.
- Pot, F. Social innovation of work and employment/F. Pot, S. Dhondt, P.Oeij,//In: Franz H-W., Hochgerner J. (Eds.). Challenge Social Innovation. Berlin: Springer. -2012. -P. 261-274.
- Ramstad, E. Promoting performance and the quality of working life simultaneously /E. Ramstad//International Journal of Productivity and Performance Management. -2009. -No. 58 (5). -P. 423-436.
- Sanchez, A.M. Public sector performance and efficiency in Europe the role of public R&D/A.M. Sanchez, L.R. Bermejo//Institute of Social and Economic Analysis: Madrid. -2007. -No. 1 -41 p. -Available at: http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_01_07.pdf
- You, Jong-sung. A Comparative Study of Inequality and Corruption /Jong-sung You, Khagram Sanjeev//A American Sociological Review. -2005. -Vol. 70. -Р. 136-157.