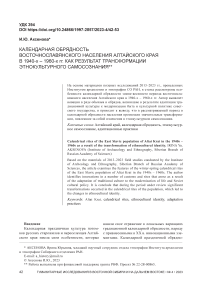Календарная обрядность восточнославянского населения Алтайского края в 1940-х - 1960-х гг. как результат трансформации этнокультурного самосознания
Автор: Аксенова И.Ю.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Трансформации идентичности и этнокультурной памяти народов Азиатской России в конце XIX-XX вв.
Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
На основе материалов полевых исследований 2013-2023 гг., проведенных Институтом археологии и этнографии СО РАН, в статье рассмотрены особенности календарной обрядности зимне-весеннего периода восточнославянского населения Алтайского края в 1940-х - 1960-х гг. Автор выявляет новации в ряде обычаев и обрядов, возникшие в результате адаптации традиционной культуры к модернизации быта и культурной политике советского государства, и приходит к выводу, что в рассматриваемый период в календарной обрядности населения произошли значительные трансформации, повлекшие за собой изменения в этнокультурном самосознании.
Алтайский край, календарная обрядность, этнокультурное самосознание, адаптационные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/170201883
IDR: 170201883 | УДК: 394 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-4/42-53
Текст научной статьи Календарная обрядность восточнославянского населения Алтайского края в 1940-х - 1960-х гг. как результат трансформации этнокультурного самосознания
Календарная праздничная культура потомков русских старожилов и переселенцев Алтайского края имела свои особенности, которые нашли свое отражение в локальных вариациях традиционной календарной обрядности, наряду с привнесенными в XX в. инновационными элементами. Календарной праздничной обрядно- сти восточнославянского населения Алтая было уделено внимание в работах М.В. Дубровской [3], Ю.В. Кривчик, О.Е. Адарич [7], И.В. Куприяновой [8], В.И. Мотузной [14], А.В. Мошкиной [15], Е.В. Палевкиной [17], Н.Г. Паньшиной [18], М.Н. Сигаревой [22], О.С. Щербаковой [29], Л.А. Явновой [31] и др. Авторы рассматривали вопросы специфики того или иного календарного праздника у старожилов и переселенцев Алтая, основываясь на собственных полевых изысканиях. Отдельные аспекты этой темы затрагивались в работах М.А. Жигуновой [4], Т.Н. Золотовой [5], Г.В. Любимовой [11], Е.Ф. Фурсовой [25], Т.К. Щегловой [28] и др. Однако исследований, посвященных трансформации календарной праздничной обрядности у жителей Алтайского края в XX в., крайне мало. В.А. Липинская исследовала связь традиционных и советских календарных праздников в русских селах Алтайского края, отмечая их преемственность [9]. А.В. Богочанова затронула проблемы замещения традиционной праздничной обрядности советской [2]. Несколько работ автора данной статьи были посвящены исследованию традиционных праздников у старожилов и переселенцев Алтайского края в XX в. (см., напр.: [1]).
Проблемы этнической (этнокультурной) идентичности в научной литературе во второй половине XX–XXI вв. подробно рассматриваются Е.Ф. Фурсовой [26]. Ценной работой в области изучения этнокультурной идентичности восточнославянских народов Сибири является недавно вышедшая коллективная монография «Сибирь и сибиряки: этнокультурная идентичность русского и других восточно-славянских народов в Сибири (XIX – начало XXI в.)» [21]. На основе многолетних полевых этнографических исследований авторы попытались раскрыть многообразие идентичностей этнокультурных групп русских старожилов Сибири и Алтая (чалдонов, сибиряков, старообрядцев), а также белорусских и украинских переселенцев XIX – начала XX вв. Большим вкладом в исследование вопросов групповой идентичности народов Сибири и сопредельных территорий в прошлом и современности является сборник трудов конференции «Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий», которая прошла в 2018 г. в Новосибирске [30]. Проблемам трансформаций этнокультурного сознания восточнославянских народов Сибири и Дальнего Востока, в том числе в контек- сте календарной обрядности, были посвящены работы Р.Ю. Федорова [23; 24 и др.].
В настоящей статье процессы трансформации этнокультурного самосознания жителей Алтайского края анализируются сквозь призму изменений, которые произошли в календарной обрядности зимне-весеннего периода в 1940-х – 1960-х гг. в условиях модернизации быта, антирелигиозной пропаганды и других проявлений идеологии советского государства. В этой связи автор ставила перед собой задачи зафиксировать содержание календарных обрядов зимне-весеннего периода у жителей Алтайского края по воспоминаниям информантов, выяснить, какие смыслы вкладывались самими носителями традиций в совершаемые действия, проанализировать общие тенденции сохранения и трансформации календарной обрядности, а вместе с тем – этнокультурного самосознания. Работа основана на материалах полевых исследований, проведенных Институтом археологии и этнографии СО РАН в 2013–2023 гг. на территории ряда районов Алтайского края. В статье также использованы материалы архива Центра устной истории и этнографии Алтайского государственного педагогического университета (ЦУИиЭ АлтГПУ).
В самом общем виде идентичность связана с осмыслением себя и своей принадлежности к группе, тому или иному сообществу [19, с. 10]. Константные и динамические процессы в календарной обрядности рассматриваются с учетом межкультурных контактов потомков старожилов и переселенцев Алтайского края. В этом смысле полевые исследования «локальностей» помогают увидеть сквозь призму традиционности самые тонкие механизмы формирования традиции, ее сохранения и передачи [13, с. 8].
Обычаи и обряды Новогодья
Трансформационные процессы, затронувшие обычаи и обряды Новогодья, были связаны с расхождением взглядов старшего поколения и молодежи на празднование Нового года по старому (14 января) и новому (1 января) стилю, формированием отношений с новой советской властью. Прослеживается тенденция распространения традиционных запретов на работу не только в период Святок (с 7 по 19 января), но и в введенный в 1918 г. Новый год. «Вот Троица, Пасха, Рожество, Крещенье. Да и Новый год не надо ниче делать» (Полевые материалы автор, далее – ПМА. Бирюкова М.И., 1932 г.р., с. Ши- пуново, Шипуновский р-н, вятские переселенцы). Как показали опросы, Новый год по старому стилю отмечается охотнее представителями старшего поколения: «Самые такие – Рождество и Старый Новый год. Новый год не праздновали» (ПМА. Белевцева Т.К., 1940 г.р., с. Хлопуново, Шипуновский р-н). Часто старшее поколение было настроено категорично в отношении соблюдения традиционных запретов и сроков празднования Нового года: «Какой-то мужик пришел к нам, говорит: “Так, а ты че делаешь-то?” Она говорит: “Пряду”. – “Дык седня праздник! Новый год!” А мама говорит: “Ну это ваш праздник, вы и гуляйте, а наш праздник будет 14 января”» (ПМА. Бирюкова М.И., 1932 г.р., с. Шипуново, Шипунов-ский р-н, вятские переселенцы). Однако для детей и молодежи в 1960-х гг. Новый год по новому стилю становится любимым праздником: «Старый Новый год тоже праздновали. Новый год был лучше праздник» (ПМА. Ильиных Т.Н., 1957 г.р., с. Озерки, Шипуновский р-н, рязанские переселенцы).
В области календарной обрядности периода Святок в конце 1930-х – 1940-е гг. в некоторых селах происходило нарушение традиционного гостеприимства «славильщиков» в свете призывов и пропаганды советской власти: «Тада по дворам ходили, славили. Собирались человека 3–4, молодые девчонки, по дворам ходили, да тада еще та кие были, что двери запирали, не пускали. Считали, что советская власть агитирует» (ПМА. Рытвина А.С., 1924 г.р., с. Коробейниково, Усть-Пристанский р-н, воронежские переселенцы). Еще одним аспектом трансформации этнокультурного самосознания является выполнение функций посевальщиков группами девочек, что вызывало недовольство старшего поколения1: « Мы, девочки, пришли посевать, а нас бабка выгнала. Сказала, что мальчики должны посевать » (ПМА. Чеботарева А.И., 1935 г.р., с. Усть-Порозиха, Шипунов-ский р-н, старожилы). В некоторых селах молодежь отказывалась от колядования, очевидно, в связи с трудовыми обязанностями подростков, вводимыми запретами в школах на колядование: «Ходили, ходили! Мы ребятишками ходили, а потом подрастали и перестали ходить» (ПМА. Мишина Е.И., 1927 г.р. с. Кособоково,
Шипуновский р-н, белгородские переселенцы). В конце 1950-х – 1960-е гг. продолжались запреты на колядование (преимущественно обходы дворов на Рождество), что отражалось и на внутрисемейных отношениях. В некоторых семьях к запретам относились особенно категорично: « Я помню крепкую взбучку. Пошли мы колядовать на Рождество, я прихожу счастливый домой, приношу конфеты, а… меня так и так! Вот такое вот воспитание! Т.е. ремня хорошего получил. Отец вообще там всполошился! Дома скандал был! » (ПМА. Санников В.В., 1953 г.р., с. Пристань, Усть-Пристанский р-н, вятские переселенцы).
В отношении обходов дворов в период Святок в 1950-х – 1960-х гг. отмечаются изменения в восприятии детьми, рожденными в 1950-е гг., смысла данных обходов: « Ну я ходил… Сею-вею, с мальчишками – мало мы пели, мы в основном поздравляли, обнимались, и те были рады, куда мы заходили, рады, потому что зашли. <…> И ощущение радости – что нас принимали, рады были люди. А потом уже пошло как развлечение. Даже некоторое хулиганство » (ПМА. Санников В.В., 1953 г.р., с. Усть-При-стань, Усть-Пристанский р-н, вятские переселенцы). Как видим, некоторыми группами обходы дворов совершались с целью «похулиганить», т.е. упразднялись благопожелательные смыслы колядования. Еще одним интересным фактом, зафиксированным нами в ходе одной из этнографических экспедиций, является использование костюма для новогоднего школьного вечера в колядовании: « У меня был костюм “кукуруза”. У мамы были шторы желтые, она мне штаны сшила сама. Мы на Святки бегали в них. У меня была фуфайка, штаны теплы, а кукуруза надевалася сверху, маска: картонка, здесь как мордочка ракрашена, вытянутая как кукуруза, желтая. Я года три в нем ходила, в этом костюме » (ПМА. Ильиных Т.Н., 1957 г.р., с. Озерки, Шипуновский р-н, рязанские переселенцы).
В качестве новогоднего дерева использовали сосну, ель или их ветви, которые устанавливали у себя дома к Новому году: «Елка была натуральная. Дед на тракторе обычно ездили за елкой. Либо маленькую, либо ветку большую ставили» (ПМА. Ильиных Т.Н., 1957 г.р., с. Озерки, Шипуновский р-н, рязанские переселенцы). В нескольких селах Алтайского края были зафиксированы воспоминания о расположении новогоднего дерева (или ветвей) в пространстве красного угла: «Сосну ставили в правом углу, где раньше икона была, чтобы приходили, видели все. В основном на полу, на крестовине. Папа сделал, мы ее хранили. Икона не висела, только елка» (ПМА. Саддаров С.К., 1955 г.р., с. Волчиха, Волчихинский р-н). Приведем еще один пример: «Круглый стол стоял, на него ставили тубаретку, на тубаретку ставили трехлитровую банку, а в банку ставили ветку здоровую, и наряжали. Я помню, у мамы иконка стояла, от этой елки к иконке гирляды делали. Иконка была, выдвигалась. Тепрантины были все время… и от елки к потолку, к иконе» (ПМА. Ильиных Т.Н., 1957 г.р., с. Озерки, Шипуновский р-н, рязанские переселенцы). Так, в некоторых семьях красный угол как особое пространство избы теряет свое сакральное значение и постепенно видоизменятся, становясь центральным местом для установления новогоднего дерева (ветвей) к празднику.
Необходимо отметить тенденцию к прекращению совершения обрядовых действий с кутьей в канун Рождества, зафиксированную автором у украинских переселенцев в Романовском, Мамонтовском [1, с. 119] и Алейском районах. В первой половине XX в. среди украинских переселенцев было распространено освящение кутьи и специальные обрядовые действия в доме крестной, исполняемые, как правило, детьми (крестниками) или замужними женщинами. Предполагалось, что данные обрядовые действия способствуют плодородию, прибавлению скота и птицы, увеличению достатка в семье: ребенку следовало залезть под стол и в положении сидя прокричать «Квок-квок, кутя на покути!». По данным информантов, имитация детьми животных звуков отвечала за функцию приумножения потомства конкретных животных и птиц («квок-квок» – цыплята, «му-му» – телята и т.д.). Аналогичные действия вместо детей могли совершать замужние женщины, которые должны были вынимать кутью из печи, садиться на порог лицом в дом и произносить те же слова. Однако в 1960-х гг. данные обрядовые практики теряют свою актуальность: « Я уже замужем была, уже тада не квокала » (ПМА. Василенко М.С., 1927 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, украинские переселенцы).
Крещение
Святочный цикл завершался Крещением, когда в доме на дверях и в уголках окон ставили кресты, окропляли от болезней набранной в колодце крещенской водой скот и членов семьи, купались в проруби [1, с. 121–122]. Однако, как показывают полевые исследования, наблюдалось постепенное «размывание» данных традиций в многопоколенных семьях, где исходные традиции праздника соблюдались представителями старшего поколения (часто единолично): «Крестики делали, на матке, над дверями, угольком с печки возьмут, мать покрестит. Только мать делала… Пока мы маленькие были, ставила. Потом, когда мы выросли, она с сыном жила, только в своей комнате ставила. Это 1960-е – 1970-е гг. Они там были не очень боговерующие, сноха» (ПМА. Жилинкова З.С., 1937 г.р., с. Новошипуново, Краснощековский р-н, старожилы). Фиксируется также полное отсутствие каких-либо ритуальных действий на Крещение в некоторых семьях: «На праздник Крещения… 1960-е – тада не было принято. У нас некрещеные были» (ПМА. Саддаров С.К., 1955 г.р., с. Волчиха, Волчихинский р-н). Соблюдение запретов на работу в «большие праздники» (Рождество, Крещение, Пасху, Троицу и др.) контролировалось представителями старших поколений: «Ко мне подружка пришла, попросила сшить штаны мужу ее. Я села шить. Мама зашла: “Ты что делаешь! Ты не сдурела?! Сегодня же Крещение!” Я отложила. Потом беру, смотрю, что-то у меня штаны слишком широкие. А я две половинки сшила задние. Мама: “Это тебя Бог наказал, что ты на Крещение шила”. Это был 1964 год» (ПМА. Жилинкова З.С., 1937 г.р., с. Новошипуново, Краснощековский р-н, старожилы).
Масленица
Рассматривая период трансформации праздников зимне-весеннего цикла, нельзя не уделить внимание вопросам трансформации масленичной обрядности и вводимому на Алтае в 1950-х гг. замещающему празднику – «Проводам русской зимы». Ввиду того, что этот вопрос ранее был подробно рассмотрен автором в совместной с Е.А. Коляскиной статье [6], приведем лишь некоторые высказывания, иллюстрирующие процессы трансформации этнокультурного самосознания относительно масленичной обрядности в 1950-е – 1960-е гг.: «Праздник как Масленица широко не отмечался вообще. Что он был – мы знали, что дома мы его отмечали – да. Пекли блины, все сладости. Это все бабушка, мама, то есть праздник был семейным. Масленица» (ПМА. Конради Н.А., 1947 г.р., Шипуново, Ши- пуновский р-н, украинские переселенцы); «Делались в один день (Проводы зимы и Масленица. – прим. авт.). <…> Мы празднуем в основном Проводы, как общественность скажет, так мы и делаем. И заодно как бы Масленицу празднуем» (ПМА. Панина Н.Н., 1940 г.р., с. Усть-При-стань, Усть-Пристанский р-н, саратовские переселенцы). Приоритет, как видно из сообщения информанта, отводился празднованию «Проводов русской зимы». В практике празднования Масленицы у жителей сел отмечаются тенденция к соблюдению традиций «гостевания», семейные застолья с угощениями, гуляния.
Сороки
Праздник «Сороки» в большинстве случаев не входил в число «праздновавшихся» в военные годы ввиду отсутствия необходимых ингредиентов для традиционной выпечки (жаворонков). Имеются лишь единичные воспоминания, когда выпекались птички по числу детей в семье: « Нужно было испечь (жаворонков. – прим. авт. ), сколько детей. <…> Тогда хлеб-то был! Ценили его так! Нам было лет по 5, по 7. Это в войну делала мать, после войны тоже. А в войну тесто делали – немножко муки да картошки терли туда. Чтобы хоть немножко детям праздник сделать» (ПМА. Жилинкова З.С., 1937 г.р., с. Новошипуново, Краснощековский р-н, старожилы). В послевоенное время (и далее) фиксируются отказы от соблюдения постов: « Пост потом не держали (после Прощеного воскресенья. – прим. авт. )» (ПМА. Панина Н.П., 1940 г.р., с. Усть-Пристань, Усть-Пристанский р-н, саратовские переселенцы). Как следствие, в 1950-х – 1960-х гг. информантами отмечается приготовление жаворонков из сдобного теста в период поста. Отметим, что информанты, чье детство приходилось на 1950-е – начало 1960-х гг., не всегда припоминали традиционные заклички на Сороки, их воспоминания ограничивались информацией о выпечке и некоторых приметах (о прилете птиц).
Чистый четверг
В связи с работой в колхозах фиксируются сдвиги во времени совершения традиционных обрядовых омовений в Чистый четверг. По замечанию информанта Е.И. Мишиной, адаптация по времени была неизбежна. «Кто будет топить баню до солнца, если они на работе? После работы придут, натопят, помоются. Бабушка: грешное тело никогда не грех по- мыть. В войну-то и не до этого было» (ПМА. Жилинкова З.С., 1937 г.р., с. Новошипуново, Краснощековский р-н, старожилы).
Пасха
В годы Великой Отечественной войны произошли значительные изменения в повседневной жизни крестьянства. Основной мерой оценки и учета труда в колхозах во время войны был трудодень. В Алтайском крае по сравнению с 1941 г. средний размер выдаваемого зерна на 1 трудодень в 1943 г. упал в 2 раза (с 1,21 до 0,42 кг) [20, с. 150]. Это привело к снижению материального благосостояния крестьян. В результате в военное время личное подсобное хозяйство стало одним из важнейших источников средств к существованию колхозников из-за снижения выплат на трудодни. Несмотря на все изменения в ходе государственной политики довоенного времени, а также снижение материального благосостояния крестьянства в военное время, Пасха оставалась непременно отмечаемым праздником у жителей Алтайского края в период Великой Отечественной войны. В связи со сложившейся в военные годы продовольственной ситуацией количество блюд, традиционно приготовляемых к пасхальному дню, заметно ограничивалось. Прежде всего, это было связано с отсутствием набора ингредиентов, необходимых для выпечки «паски» (кулича). Нередко ингредиенты для выпечки куличей заменялись имеющимися на тот момент продуктами или же их количество ограничивалось: « А мы с чего “паску” пекли: нам дадут немного муки ржаной. Мы картошечку, тыкву потол-кем, дрожжей туда, а дрожжи сами варили. Пойдем в забоку, нарвем хмель, его заквасим, и стряпали колобочки такие, да еще картошечки вырежем, да на эту булочку положим. Немного тесто разрежешь и в булочку в эту положишь, она не вывалится. Она туда воткнется, жаром обдастся. Так ее, эту булочку, об дорогу не разобьешь! » (ПМА. Козлова З.Н., 1935 г.р., с. Коробейниково, Усть-Пристанский р-н, старожилы) (Рис. 1).
Большой интерес представляет рассмотрение инициатив, выдвинутых местными властями по борьбе с празднованием Пасхи. « Нас в колхозе на первый день Пасхи заставляли контору белить! Белили, а что сделаешь? »2 – вспоминает

Рис. 1. Кресты из картофеля для декорирования «пасок» в период ВОВ. Показывает З.Н. Козлова, с. Коробейниково, Усть-Пристанский р-н Алтайского края.
Фото И.Ю. Аксеновой, 2016 г.
М.И. Бирюкова. Подобные «нововведения», касающиеся проведения работ учениками в день Светлого воскресенья, отмечаются в Алейском районе. Приведем в качестве примера воспоминания жительницы с. Совхозное: «Как только Паска, нас со школы – все. Нас собирали и говорили: “Завтра все сажать саженцы”. Мы все хором: “Завтра Паска!” И рот на замок. Учительница сразу скажет: “Какая Паска? Прекратите, чтоб я слышала в последний раз, если вы хотите, чтоб ваших родителей не угнали в Нарым. Все, про слово Паска – ни слова”. Все, на завтра все собираемся, и кто-то вдруг, помню, принес крашеные яйцы. И Валька Ананьева… Смотрю, у нее в сумке. Я говорю: “Валь, вон там ямка, иди выкини и закопай вот так, ногой, яйцы. <…> Я тебе белого дам, када сядем исть» (ПМА. Останина З.Я., 1935 г.р., с. Совхозное, Алейский р-н, саратовские переселенцы). Нами зафиксирован случай, когда инициатива проведения свадьбы на Страстной неделе была выдвинута самими молодоженами в 1960-е гг.: «Вася, покойничек, на Страстной неделе женился. Ему говорили: погодите, после Паски женитися! Нет, вот женилися! Она ему сразу сказала – это не жильцы! Что-то будет, их Бог накажет. Лес был наделанный, который штукатурили. Были леса – доски наложены, она сорвалася, упала и разбилася. Уже беременная была, месяца два. А его грозой убило» (ПМА. Котельникова А.Д., 1935 г.р., с. Курья, Курьинский р-н, старожилы). Из приведенных воспоминаний следует, что мероприятия в основном инициировались на местах управляющими, главами организаций и имели отклик среди молодежи.
Рассмотренные нововведения, приуроченные к Пасхе (в колхозах, бригадах, школах) и инициируемые местными властями, являлись частью проходившей в стране антирелигиозной пропаганды. Политика советского государства в отношении церкви носила крайне негативный характер, что было закреплено одним из первых декретов в 1918 г. 8 апреля 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР было принято постановление «О религиозных объединениях», основным положением которого стало закрепление запрета на занятие религиозными организациями деятельностью вне пределов религиозных зданий. Кроме того, данным постановлением вводился и ряд других ограничений и регламентирующих условий (запрет на организацию собраний и кружков, преподавание богословия только с разрешения НКВД РСФСР или ЦИК автономной республики и др.) [16, с. 183–184]. Помимо этого, XIV Всероссийский съезд Советов внес изменения в ст. 4 Конституции РСФСР. Если ранее в ней было зафиксировано право граждан на «свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды», то теперь гарантировалась лишь «свобода религиозных вероисповеданий и антирелигиозной пропаганды». Это означало, что вся культовая деятельность религиозных организаций ограничивалась только молитвенным зданием [16, с. 187–188].
Результатом изменения государственной политики в отношении церкви стала вынужденная трансформация религиозной обрядности, ставшая ответом на введенные ограничения. В ней возникали такие новации, как освящение пасхальных куличей и яств в избах сельских жителей, при этом зажигалась свеча, иногда читались молитвы старшей в роду (или знающей)
женщиной: « На стол “паски” поставишь все, свечку зажжешь, то ее Боженька святить » (ПМА. Василенко М.С., 1927., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, украинские переселенцы); « На стол ложили яйца, свечку зажигали. Мы на пасеку пойдем, нам дадут воск, мама накатает, сделает свечку, сделает нитку и поставим на стол » (ПМА. Козлова З.Н., 1935 г.р., с. Коробейников, Усть-Пристанский р-н, старожилы). Зафиксирован необычный случай Всенощного бдения на крыше в своем дворе (соответственно времени службы в храме): « Когда церковь была – дед всегда “в ночь” уходил и утром приходил. А потом церковь сломали. Бабушка моему дедушке набрала с собой, что обычно ешь, вот то и на Паску наделаешь. Он залазиет “на двор” (строение. – прим. авт. ), как на ночь. В церкви начинается служба, а он “на дворе” сидит всю ночь, молится, а как рассвет, как служба примерно заканчивается, он слезает, они уберут скотину и садятся разговляться. Раньше и бабушки пели, освящали “паску” » (ПМА. Цуркина Н.Е., 1935 г.р., с. Масляха, Крутихинский р-н, старожилы).
Школы являлись важнейшим социальным институтом для антирелигиозной пропаганды среди молодого поколения, в них организовывались ячейки Союза воинствующих безбожников. На Алтае подразделения данной организации начали создаваться с 1928 г. [12, с. 154]. Одной из форм антирелигиозной пропаганды среди школьников в 1960-е гг. было проведение кинопоказов антирелигиозного содержания в день Светлого воскресенья. Приведем рассказ Т.Я. Билан, участницы кинопоказа: « В этот день в заводском клубе г. Ярового по традиции показывали фильм “Чудотворная”, суть сюжета о том, как верующая бабушка довела почти до самоубийства своего внука, который нашел икону. Водили на этот фильм нас учителя или настоятельно рекомендовали сходить на просмотр. Года три подряд смотрели один и тот же фильм. Надо было видеть после того, как юные атеисты, ученики начальных классов, заходили в клуб, вся площадь пред ним была усыпала разноцветными скорлупками. Перед просмотром угощали друг друга куличами и нещадно бились принесенными из дома яйцами. Фильм “Чудотворная” оказывал на меня большое впечатление, мне было жалко. Это была начальная школа, нас водили его смотреть в 1961–1963 гг. Это кино показывали в воскресенье, на Пасху » (ПМА. Билан
Т.Я., 1953 г.р., с. Шипуново, Шипуновский р-н, старожилы).
Красная горка
В ряде сел традиционные игры с яйцами (битье, катание с горы и пр.) на Красную горку прекращаются в годы войны: « В военное время уже не катали яйца! Там налоги страшные были. Корову имеешь – центнер молока сдай, овцу имеешь – шерсть сдай, курицу имеешь – 100 яиц сдай. И у нас уже потом не катали. Ребятишки другим были заняты. Тада уже радио, телевидение пошли » (ПМА. Жилинкова З.С., 1937 г.р., с. Новошипуново, Краснощековский р-н, старожилы).
Родительский день (Радоница)
Практики поминания умерших, обычаи и обряды родительского дня также претерпевали различные изменения в 1940-е – 1960-е гг. Т.А. Листова отмечает, что поминальные практики сохранялись, хотя и в сжатом варианте, в течение всего так называемого «советского времени» [10, с. 54–55]. В некоторых селах Алтайского края в 1940-е – 1960-е гг. проводилась политика «запретов» на совершение поминальных обрядов непосредственно на кладбище, что ярко отложилось в памяти информантов, участников тех событий: « Тогда запрещено было. Я помню в Паску. У нас были богомольные люди, сколько-то семей, я уже не помню сколь. Они не работали в эту. Пошли в тайгу в Паску. Как раз первый день Паски. Уже не давали праздновать. Уже только вечером, дома крадучи » (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ, 2016 г. Шевелева З.И., 1929 г.р., с. Ельцовка, Ельцовский р-н, старожилы.). Несмотря на запреты, регулярность посещений кладбища на Пасху с минимальным набором яств для совершения поминовения поддерживалась старшими женщинами в семьях: « Ходили, ходили, но это не разрешалось. Они ходили. Это я как сейчас помню. Бабонька собирается. Мама нет, нет. Не ходила никогда. А ходили вот старые бабушки. И все это тихо » (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ, 2016 г. Шарова В.Г., 1935 г.р., с. Ельцовка, Ельцовский р-н, рязанские переселенцы).
И.И. Шангина указывает на то, что в праздничные дни демонстрировалась культурная самоидентификация людей, открыто утверждались основные ценности, которые празднующая группа считала важнейшими и обязательными для себя [27, с. 455]. Анализируя вышеизложенный материал, отметим общую тенденцию посещения кладбищ и соблюдения традиций поминания умерших непосредственно у могил вопреки существующим нормам. В условиях формирования новой идеологии, общего напряжения в отношениях между односельчанами старшее поколение тайно исполняет обрядовые практики, привлекая к участию маленьких детей: «Я еще маленькая с мамкой бегала. Я к тяте ходила, он у нас рано умер. Я иду, и мама идет. То тетки, кто дядьки – ходили все» (ПМА. Колесова Л.Ф., 1939 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н). Таким образом, праздник был одним из механизмов передачи из поколения в поколение этнических традиций и этнокультурного самосознания [27, с. 455].
Со стороны представителей местной власти нередко имели место манипуляции и угрозы, касающиеся посещения кладбища на родительский день: « Из партии сразу долой, лишение всех привилегий! » (ПМА. Санников В.В., 1953 г.р., с. Усть-Пристань, Усть-Пристанский р-н, вятские переселенцы). Во второй половине XX в. фиксируется «легальное» поминание умерших вне кладбища в день Светлого воскресенья: « Даже отец, коммунист, одевался в пасхальный день и шли в гости. Естественно, яйца были, но шло как поминание родителей! В родительский день нельзя было ни в коем случае! » (ПМА. Санников В.В., 1953 г.р., с. Усть-Пристань, Усть-Пристанский р-н, вятские переселенцы). Данный вариант поминальных практик, появившийся в 1950-е –1960-е гг. в связи с запретами посещения кладбища на родительский день, можно считать результатом действия адаптационных механизмов: « А все бабушки говорили, что надо помянуть всех “сродственников”. Я не помню, чтобы бабушка произносила слова “родительский день”. Хорошо помню, что на кладбище точно не ходили. Мы с бабушкой ходили к бабе Шуре. За столом у бабы Кати (Фотихи) плакали с причетом. Плакали и причитали, как тяжело жить без мужа, у кого погиб. Поминали »3 (ПМА. Жукова Л.В., 1950 г.р., с. Хлопуново, Шипуновский р-н, рязанские переселенцы).
В ряде районов в 1960-е гг. являлось традиционным поминать близких родственников кутьей, а также вином, которые предлагались к употреблению на кладбище непосредственно из ложки: «На родительский день, помню, бабушка ходила на кладбище какая-то и давала пробовать вино из ложки детям – помянуть» (ПМА. Клушина Л.В., 1948 г.р., с. Андреевка, Шипуновский р-н); «Сварила кутью и носила. Я давала своим в основном. На, помяни! И давать ложку. Взрослые говорят: “Царствие небесное”» (ПМА. Жилинкова З.С., 1937 г.р., с. Новошипуново, Краснощековский р-н, старожилы). С уходом из жизни представителей старшего поколения эти элементы постепенно начали исчезать из поминальной практики.
Еще одним результатом трансформации календарной обрядности является смешение поминания «родителей» и тех, кто умер не своей смертью («удавленников», утопленников и т.д.), допустимость поминания последних в родительский день пасхального периода: « После Красной горки – Помины. Всех поминают, и тех, кто душится тоже» (ПМА. Ананьева О.А., 1931 г.р., с. Коробейниково, Усть-При-станский р-н, старожилы). На наш взгляд, к этому могло привести начавшееся в 1950-е гг. захоронение тех и других покойников на общей территории сельского кладбища: « На Троицу говорили, что поминали отдельно, а 1950-х уже всех вместе хоронили – и удавленников, и утопленников » (ПМА. Истомин Ю.А., 1941 г.р., с. Коробейниково, Усть-Пристанский р-н, старожилы). Если раньше существовал специально отведенный родительский день, перед Троицей, когда разрешалось почитать память всех умерших, в том числе – не своей смертью, то в конце 1960-х гг. «общие» поминания совершались также на Радоницу.
Заключение
Таким образом, есть все основания говорить о 1940-х – 1960-х гг. как о периоде, в течение которого в календарной обрядности восточнославянского населения Алтайского края произошли значительные трансформации, повлекшие за собой изменения в этнокультурном самосознании. В первую очередь изменения затронули систему пасхальной обрядности, что явилось результатом антирелигиозной пропаганды и снижения благосостояния крестьянства во время Великой Отечественной войны. Вводимые в селах запреты на посещение кладбищ, различного рода санкции со стороны местных властей (лишение привилегий, выговоры и пр.), демонстрация антирелигиозных фильмов для учащихся, введение обязательных работ для школьников и рабочих на Пасху привели к появлению адаптационных практик (посещение кладбищ тайно, в вечернее время, поминовение на родительский день дома или в гостях, освящение «пасок» в домашних условиях, проведение Всенощной службы единолично и т.д.). Зафиксировано, что проведение обрядовых омовений в Чистый четверг постепенно сдвигалось на вечернее время вследствие трудовой занятости сельского населения.
Трансформационные процессы коснулись обычаев и обрядов Новогодья и были связаны с расхождением взглядов старшего поколения и молодежи на празднование Нового года по старому и новому стилю, формированием негативного отношения к колядованию в семьях коммунистов. Коллективное исполнение молитв в канун Рождества происходило в частных домах. В 1960-е гг. исчезают такие локальные традиции, как освящение кутьи с исполнением обрядовых действий (приговоров) детьми или замужними женщинами (украинские переселенцы), практически не соблюдаются посты. Все эти процессы оказали большое влияние на идентичность населения Алтайского края, утверждая осознание его представителями себя в качестве части советского народа.
Список литературы Календарная обрядность восточнославянского населения Алтайского края в 1940-х - 1960-х гг. как результат трансформации этнокультурного самосознания
- Аксенова И.Ю. Обычаи Рождества и Нового года у старожилов и южнорусских переселенцев на Алтае в середине XX в. (по материалам этнографических экспедиций 2012–2016 гг.) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2017. Т. 16. № 3. С. 1 17–126.
- Богочанова А.В. Государственные преобразования в сфере праздничной обрядности в период хрущевской оттепели // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Вып. 10. Барнаул, 2020. С. 319–323.
- Дубровская М.В Некоторые особенности весенне-летней праздничной обрядности Алтайского района // Этнография Алтая: Материалы II научно-практической конференции. Барнаул: БГПУ, 1996. С. 202–207.
- Жигунова М.А. Этнокультурные процессы и контакты у русских Среднего Прииртышья во второй половине ХХ в. Омск: Наука, 2004.
- Золотова Т.Н. Русские календарные праздники в Западной Сибири (конец XIX – ХХ вв.). Омск: Издатель-Полиграфист, 2002.
- Коляскина Е.А., Аксенова И.Ю. Пересборка масленичной обрядности в 1950–1980-х гг. в свете коммуникации власти и сельского общества (на материалах Алтайского края) // Традиционная культура. 2023. (в печати)
- Кривчик Ю.В., Адарич О.Е. Традиционные календарные праздники украинских переселенцев и их потомков в селе Романово Романовского района в первой половине XX в.: святочный цикл // Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае. Вып. 8. Барнаул: АлтГПА, 2013. С. 166–170.
- Куприянова И.В. Календарная обрядность // Залесовское Причумышье: очерки истории и культуры. Барнаул: БГПУ, 2004. С. 214–226.
- Липинская В.А. Народные традиции в современных календарных обрядах и праздниках русского населения Алтайского края // Русские: семейный и общественный быт. М.: Наука, 1989. С. 111–141.
- Листова T. Праздник встречи живых и умерших в пространстве кладбища. Современные календарные поминания на российско-у-краинско-белорусском пограничье // Memento Mori: похоронные традиции в современной культуре. М.: ИЭА РАН, 2015. C. 54–77.
- Любимова Г.В. Возрастной символизм в культуре календарного праздника русского населения Сибири. XIX – начало XX вв. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2004.
- Мезенцев Р.В. Православная церковь на Алтае в 1917–1940 гг.: дис. … канд. ист. н. Горно-Алтайск, 2003.
- Морозов И.А. Локальные традиции и меняющиеся идентичности // Этнографическое обозрение. 2015. № 2. С. 5–14.
- Мотузная В.И. Календарная обрядность русского населения Солонешенского района // Солонешенский район: очерки истории и культуры. Барнаул, 2004. С. 300–306.
- Мошкина К.В. Народные игры и забавы в традициях Усть-Пристанского района // Нижнее Причарышье: очерки истории и культуры. Барнаул; Усть-Пристань: БГПУ; НПЦ «Наследие», 1999. С. 60–61.
- Одинцов М.И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма, 1917–1953 гг. М.: РОССПЭН, 2014.
- Палевкина Е.В. Календарная обрядность с. Воздвиженка Кулундинского района Алтайского края // Ученые записки Алтайского государственного института искусств и культуры. Вып. 2. Барнаул: АГИИК, 2002. С. 231–234.
- Паньшина Н.Г. Календарная и праздничная обрядность в селах Бийского района // Бийский район: история и современность. Т. 1. Барнаул: БГПУ, 2005. C. 213–255.
- Попков Ю.В. Глобальный контекст актуализации темы идентичности и ее место в проблемном поле государственной национальной политики // Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 9–17.
- Рыков А.В. Особенности системы жизнеобеспечения сельского населения в годы Великой Отечественной войны: на примере колхозного крестьянства и рабочих совхозов юга Западной Сибири // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 12. Ч. 3. С. 149–152.
- Сибирь и сибиряки: этнокультурная идентичность русского и других восточно-славянских народов в Сибири (XIX – начало XXI в.) / Под. ред. Е.Ф. Фурсовой. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 2022.
- Сигарева М.Н. Зимний календарный фольклор Петропавловского района [Алтайского края] (по материалам экспедиций 1997–1999 гг.) // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Вып. 4. Барнаул, 2001. С. 166–176.
- Федоров Р.Ю. Маркеры этнокультурной идентичности в календарной обрядности белорусских крестьян-переселенцев // Вестник славянских культур. 2020. Т. 55. С. 21–33.
- Федоров Р.Ю. Трансформация этнического самосознания у потомков белорусских крестьян-переселенцев Сибири и Дальнего Востока // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 423. С. 187–195.
- Фурсова Е.Ф. Календарные обычаи и обряды восточнославянских народов Новосибирской области как результат межэтнического взаимодействия (конец XIX–XX вв.). Ч. 1. Обычаи и обряды зимне-весеннего периода. Новосибирск: Агро, 2002.
- Фурсова Е.Ф. Проблемы этнической (этнокультурной) идентичности в научной литературе во второй половине XX–XXI в. (к курсу «Основы культурной антропологии») // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2023. Т. 22. № 3. С. 9–23.
- Шангина И.И. Традиционные и новые праздники и обряды в 1920-е гг. // Традиционная культура русского народа в период 1920–1930-х гг.: трансформация и развитие. М.: Индрик, 2016. С. 453–482.
- Щеглова Т.К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. Устная история. Барнаул: БГПУ, 2008.
- Щербакова О.С. Календарные празднично-обрядовые традиции русского населения Алтайского края. Степень сохранности и причины обеднения // Праздничная культура: традиции и современность: сборник учебно-методических статей. Барнаул: АГИК, 2016. С. 25–37.
- Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий / Под. ред. Е.Ф. Фурсовой. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2019.
- Явнова Л.А. О весенне-летней календарной обрядности славян Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. IV. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 1998. С. 476–478.