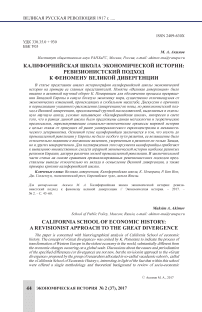Калифорнийская школа экономической истории: ревизионистский подход к феномену великой дивергенции
Автор: Акимов Максим Алексеевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Великая русская революция 1917 г. И мировое экономическое развитие
Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ историографии калифорнийской школы экономической истории на примере ее главных представителей. Понятие «великая дивергенция» было введено в активный научный оборот К. Померанцем для обозначения процесса превращения Западной Европы в самую богатую экономику мира, существенно отличающуюся от экономических изменений, происходящих в глобальном масштабе. Дискуссии о причинах и периодизации указанного расхождения (дивергенции) не новы, но ревизионистский подход к великой дивергенции, предложенный группой исследователей, выделяемых в отдельную научную школу, условно называемую «Калифорнийская школа», интересен в свете того, что в рамках данной школы были предложены единая методология и теоретические предпосылки, пересматривающие социально-экономические процессы мировой истории с целью отказа от присущих ей ранее универсалистского европоцентризма и механистического детерминизма. Основной тезис калифорнийцев заключается в том, что вплоть до промышленной революции у Европы не было особого пути развития, ее возвышение было относительно недавним и внезапным явлением, укорененным в развитии не только Запада, но и других макрорегионов. Для подтверждения этого аргумента калифорнийцы прибегают к выявлению множественных сходств аграрной экономической истории наиболее развитых регионов Евразии, датируя различия эпохой промышленной революции. В заключительной части статьи на основе сравнения проанализированных ревизионистских подходов представлены выводы относительно их вклада в осмысление Великой дивергенции, а также примеры критики калифорнийской школы.
Великая дивергенция, калифорнийская школа, к. померанц, р. бин вон, дж. голдстоун, экономический рост, европейское чудо, дельта янцзы
Короткий адрес: https://sciup.org/14723849
IDR: 14723849 | УДК: 330.35.0
Текст научной статьи Калифорнийская школа экономической истории: ревизионистский подход к феномену великой дивергенции
Как правило, социально-гуманитарные науки не нуждаются во внешних шоках, чтобы подвергнуть ревизии свои представления об основополагающих процессах глобальной истории. Но во времена глобальной нестабильности подобные ревизионистские дискуссии приобретают особенно острый характер, отражая актуальную трансформацию прежде устойчивого мирового порядка, сформировавшегося в ходе указанных процессов. Одним из таких процессов выступает Великая дивергенция, под которой в широком операциональном смысле понимается расхождение в траекториях подушевых доходов / зарплат / темпов и траекторий экономического роста между Западом и остальным миром. Понятие «Великая дивергенция» было введено в активный научный оборот Кеннетом Померанцем для обозначения «того момента, когда Западная Европа превратилась в самую богатую экономику мира, который не обязательно совпадает с тем моментом, когда она вырвалась из рамок мальтузианского мира и перешла к стабильному экономическому росту на душу населения» [33, c. 9]*.
Дискуссии о причинах и периодизации указанного расхождения не новы, нов ревизионистский подход к Великой дивергенции, предложенный группой исследователей, выделяемых (во многом ус- ловно) в отдельную научную школу. Само это выделение восходит к одному из представителей выделяемой школы – Джеку Голдстоуну, согласно которому Калифорнийскую школу составляют: К. Померанц, Р. Бин Вон, Дж. Голдстоун, Дж. Ли, Д. Флинн, Р. Маркс, А. Г. Франк, Дж. Блаут, Дж. Хобсон, Дж. Гуди и др. Основанием для объединения этих ученых служит не только факт их аффилиации в различных подразделениях Калифорнийского университета, но и единая методология и теоретические предпосылки, суть которых в пересмотре мировой истории с целью отказа от присущих ей ранее универсалистского европоцентризма и механистического детерминизма. «На протяжении большей части девятнадцатого и двадцатого столетий студенты изучали мировую историю на примере цивилизации Запада, чья история подавалась как «возвышение Запада» <…> За последние десять-пятнадцать лет группа молодых историков экономики и общества выдвинули ряд новых и любопытных аргументов относительно мировой истории» [2, c. 7–8].
«Калифорнийцы» предлагают ревизию «европоцентристских» подходов к объяснению различий в путях экономического развития Востока и Запада. Экономическая история Европы больше не принимается в качестве универсальной модели, траектория остального мира больше не рассматри- вается в качестве отклонений и провалов на пути следования этой модели. Принципиальная позиция всех без исключения представителей Калифорнийской школы состоит в том, что у Европы не было никакого особого пути, которому она долгое время (задолго до промышленной революции) следовала; не было особых свойств, кумулятивное развитие которых в итоге вывело ее вперед. Возвышение Запада было относительно недавним и внезапным явлением, укорененным в развитии не только европейского, но и других макро-регионов. Понятие «Великая дивергенция» К. Померанца, таким образом, противопоставляется понятию «Европейское чудо» Э. Джонса [25]. Из ревизионистской перспективы основной вопрос относительно этого расхождения в том, как Европе удалось, посчастливилось избежать того паттерна экономической истории, который был так широко распространен по всему миру до промышленной революции. Перефразируя К. Померанца, вопрос о том, «почему Англия не стала второй Дельтой Янцзы?» никак не менее важен, чем вопрос «почему Дельта Янцзы не стала второй Англией?» [33, c. 13].
Для того чтобы продемонстрировать, как незначительные отклонения и исторические случайности приводят к фундаментальным историческим расхождениям, «калифорнийцы» выявляют множественные сходства аграрной истории различных Евразийских макрорегионов (так называемый «тезис о Евразийском сходстве» Ф. Пердю) с целью отыскания того «единственного различия», которое привело к индустриализации Европы и расхождению ее экономической траектории с Азией. Часто, чтобы сделать сходства более наглядными, сравниваются наиболее развитые регионы Запада и Востока – Англия и Дельта Янцзы; реже для контроля и верификации найденных различий используются дополнительные кейсы: Нидерланды, Япония, Дания, Бельгия и Индия.
Последующий анализ историографии Калифорнийской школы будет произведен в хронологическом порядке выхода глав- ных работ основных представителей – Р. Бин Вона, К. Померанца, Дж. Голдстоуна. Этот анализ будет предварен кратким обзором основных аргументов историков, занимающихся общими проблемами мировой истории и критикой европоцентризма, которых можно назвать предшественниками «Калифорнийской школы». Эти авторы задали тон теоретико-методологических установок «калифорнийцев». Для последних же характерна квантификация экономической истории с целью эмпирического подтверждения аргументов предшественников или опровержения аргументов сторонников «глубокой укорененности» европейского превосходства. Сравнительные выводы и некоторые примеры критики в адрес «калифорнийцев» представлены в заключительной части статьи.
Обсуждение
«Европейское чудо»: Pro et Contra
Одним из первых к преодолению европоцентризма в истории обратился Джозеф Нидэм [27], отстаивающий превосходство китайской «протонауки» над европейской. Однако его ориентализм (и даже «синацен-тризм») не был подкреплен отказом от прогрессизма. (Знаменитый «вопрос Нидэма» о том, почему современная наука возникла в Европе, а не в Китае, не предполагает вопроса о том, было ли возникновение современной науки необходимым). Более последовательным и, пожалуй, главным критиком европоцентризма был Джеймс Блаут. Его целью было опровергнуть то, что он называет одним из самых могущественных, общепринятых и при этом ложных современных убеждений мировой истории и мировой географии. «Это убеждение заключается в том, что европейская цивилизация, «Запад», обладала некоторыми уникальными историческими преимуществами, некими особыми качествами, будь то расовым, культурными или инвайронментальными, особым типом мышления или духа, которые наделяли бы это человеческое сообщество постоянным превосходством над всеми прочими сообществами, на протяжении всей истории вплоть до настоящего момен- та» [11, c. 1]. В свою очередь это убеждение питает «европоцентристский диффузио-низм» – представление о мировой истории как процессе, распространяющемся из Европы.
Все эти ложные убеждения покоятся на представлениях об автономном развитии Европы, идее, которая получила название «Европейское чудо». В соответствии с ней Европа была прогрессивнее, динамичнее всех прочих регионов мира задолго до 1492 г., периода ознаменовавшего эпоху колониализма и взаимовлияние европейского и не-европейских макрорегионов. По мнению сторонников Европейского чуда, превосходство Европы – результат ее внутренних качеств, а не взаимодействия с прочими регионами. Согласно Блауту, напротив, именно колониализм стал причиной роста Западной Европы, ее модернизации и ускоренного опережающего развития, а также «недоразвитости» Азии, Африки и Латинской Америки. Отсюда сравнение всей прежней, «европоцетристской», историографии с туннелем, стены которого – это границы опыта европейской истории.
«Европоцентризм» – «этот термин служит для обозначения всех убеждений, которые постулируют прошлое или настоящее превосходство европейцев над не-европейцами (и над меньшинством народов не-европейского происхождения)» [11, c. 8]. Диффузионизм предполагает, что большинство человеческих сообществ косны, и лишь немногие изобретательны и остаются таковыми на протяжении многих веков. В глобальном масштабе это дает модель с единым центром – Европой. Восемью влиятельнейшими европоцентристскими историками различных времен, выделенными в его одноименной книге, Блаут считает: М. Вебера, Л. Уайта, Р. Бреннера, Э. Джонса, М. Манна, Дж. Холла, Дж. Даймонда, Д. Лэндеса.
Свою критику европоцентризма не только в истории как академической дисциплине Джек Гуди выразил в терминах «похищение», «присвоение» истории Западом. Привлекая данные антропологии,
Гуди обнаруживает корни европоцентризма историков в «скрытом этноцентризме», демонстрируя, что сама идея о радикальном расхождении между Европой и Азией возникла еще в Античности. Однако, как утверждает Гуди, Европа «не «изобретала» ни любви, ни демократии, ни свободы, ни рыночного капитализма», ни этноцентризма, потому цель в том, чтобы выявлять предполагаемо «азиатские» черты или характеристики в Европе и европейские в Азии в нейтральных, а не европейских категориях, что в свою очередь позволяет задать вопрос: «Является ли то или иное отличие настолько значительным, чтобы иметь последствия, актуальные для будущего мирового развития»? [3, c. 21].
Кратко перечислим основные аргументы «глубокой укорененности» европейского превосходства, ревизии которых служат исследования Калифорнийской школы:
-
a) Европа обладала преимуществами в контроле за рождаемостью и поэтому лучше накапливала ресурсы, которые затем инвестировала в экономический рост, как полагают Дж. Хайнал, М. Элвин, Дж. Паулсон, Э. Райли и Р. Скофилд;
-
б) европейцы строили из огнеупорных материалов, которые обладали большей устойчивостью к природным катаклизмам и лучше сохраняли основной капитал европейцев от обесценивания, гласит известный аргумент Э. Джонса;
-
в) рост зарплат обеспечил рост европейского потребления, стимулировавший «революцию трудолюбия» (в отличие от «инволютивного роста» в Китае), и способствовал развитию «трудосберегающих технологий», как считают Р. Аллен, Я. де Фрис, П. Хаун, М. Амбросоли, Д. Левин, Т. Кьяергаард;
-
г) большее количество животных на душу населения в Европе способствовало лучшему здоровью европейцев, привело к аграрной революции, обеспечивало гужевым транспортом, способствующим развитию торговли, сохраняло физическую энергию людей, как убеждены Дж. Даймонд и Э. Джонс;
-
д) свободные и торговые города эпохи Возрождения стимулировали развитие европейской изобретательности, по мнению К. Чиполлы, А. Кросби, П. де Фриза и Д. ван ден Вауде, Д. Ландеса, Д. Левина и др.;
-
е) европейская система соперничающих государств способствовала совершенствованию их военно-налоговых машин, развитию военных технологий, а также военным расходам, которые в свою очередь стимулировали потребление, согласно взглядам Э. Джонса, Д. Ландеса, М. Манна, Дж. Холла;
-
ж) уникальность европейской культуры подчеркивают Д. Ландес, Л. Уайт, У. МакНил;
-
з) европейцы обладали институциональным экономическим преимуществом неоклассического толка, как полагают Р. Бреннер, Д. Норт, С. Эпштейн, Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон, или монопольно-силового толка, как убеждены Ф. Бродель, И. Валле-стайн, М. Даунтон, Г. Шварц;
-
и) Европа вырвалась вперед благодаря колониальному грабежу, вооруженной торговле и меркантилизму, в основе которых лежало превосходство европейского оружия и военных технологий, как полагают Э. Уилльямс, П. О’Брайан, Д. Ормрод, Р. Бартлетт, Э. Райнерт и др.
Перечислив некоторые аргументы «глубокой укорененности» европейского превосходства, продемонстрируем как исследователи Калифорнийской школы опровергают или преобразуют их.
Ревизионистская экономическая история
Основная идея монографии Р. Бин Вона 1997 г. «Преображенный Китай: историческое изменения и ограничения европейского опыта» [7] в том, что по-настоящему значимым различием, обусловившим дивергенцию между Европой и Китаем, было различие в политэкономии* европейских государств и китайской империи. Все про- чие социально-экономические условия развития двух макрорегионов при незначительных различиях демонстрировали поразительные сходства. Вплоть до 1750 г. никаких разительных расхождений в экономических траекториях Европы и Китая не было. Оба макрорегиона в своем развитии испытывали как «эффект колеи» («path-dependence»), так и исторические случайности, вызванные институтами и технологиями. Следуя Ф. Броделю и Ч. Тилли, Р. Бин Вон сравнивает два центральных процесса европейской истории раннего Нового времени – развитие капитализма и оформление национальных государств с экономическими и политическими трансформациями Китая. «Ограничения европейского опыта», вынесенные в заглавие работы, заключаются в том, что за пределами Европы также происходили фундаментальные исторические изменения, логика и динамика которых были лишь отчасти параллельны европейским. Предполагаемые факторы исключительности доиндустри-альной экономической истории Европы не проходят эмпирическую проверку перекрестным сравнением с Китаем.
Перед доиндустриальным миром были открыты два типа роста – экстенсивный и смитианский, поэтому для экономической истории обоих макрорегионов соответствующего периода были характерны аналогичные демографические (мальтузианские) циклы и смитианская динамика (подробнее см. [8]). Последний весьма подвержен влиянию политэкономии. И если в паттернах становления капитализма Бин Вон не обнаруживает особенных различий между Европой и Китаем, то формирование и трансформация государственности там существенно различались. Коммерциализация сельского хозяйства в Китае датируется более ранним временем, чем в Европе; рынок земли и труда в Китае больше соответствовали модели рынка совершенной конкуренции, однако в Европе был лучше развит рынок капитала и ставки по кредитам были ниже. Коммерциализация способствовала специализации, развитию сельскохозяйственных технологий и протопромышленности. Одни рыночные институты работали лучше в Европе, другие – в Китае; и там, и там были эффективные и неэффективные институты.
Тезис Д. Лэндеса о том, что политическая система конкурирующих государств в Европе придавала макрорегиону динамизм, а империя – Китаю косность, Бин Вон принимает лишь отчасти и в критическом ключе: источник повышенного внимания к политическим трансформациям в Европе в том, что китайская «преемственность» рассматривается как естественный феномен, не нуждающийся в объяснении. (Кроме того, по мнению Бин Вона, у современных исследователей отсутствуют непротиворечивые представления о степени централизации и бюрократизации китайской империи). Влияние политэкономии на возможности до-индустриального смитианского роста Бин Вон исследует в трех основных аспектах: земельная политика, налоговая политика и торговая политика.
Возможности, притязания и обязательства китайского государства отличались от европейских аналогов. В отличие от европейских государств Китай стремился не к экспансии путем развития эффективной налогово-военной машины, а к поддержанию существующего внутреннего порядка. Военная слабость китайской империи компенсировалась системой международных отношений, в рамках которой соседние государства были, скорее, «ритуальными» данниками. Кроме того, военное поражение обходилось Китаю не так дорого, как европейским государствам (которым оно грозило гибелью) благодаря способности поглощать победителей, сохраняя преемственность.
Различия между политическими экономиями Китая и Европы, приводимые Бин Воном, касаются в первую очередь налоговых систем. Основным источником европейских абсолютных монархий были косвенные налоги на потребление, дополнительными источниками служили налоговые откупы и государственные займы. За счет продажи монопольных прав свои бюджеты пополняли французские и испанские короли, в то время как Нидерланды и Англия к ним не прибегали. Китайская фискальная система, функционирующая в отсутствие жесткой межгосударственной конкуренции, была устроена иначе: основным источником дохода был поземельный налог (препятствующий созданию крупных землевладений, способствующий сдаче земли в аренду и ранней коммерциализации сельского хозяйства, а также более слабому развитию рынка труда). Местные правители не только не брали в долг, но и напротив – инвестировали средства в торговлю, ссужая деньги купцам под процент.
Если торговая политика китайского государства колебалась между интервенционизмом и политикой laissez faire, то в Европе XVI–XVIII вв. доминировал меркантилизм. Меркантилизм устанавливал более тесную связь между могуществом и богатством, которая отсутствовала в Китае. С конца XVIII в. метрополии начинают навязывать колониям и более слабым торговым партнерам «свободную торговлю», сохраняя высокие тарифы в торговле между собой. Если экспорт текстиля из переживающей промышленную революцию Англии не окупает импорта китайских товаров, то Англия навязывает ему опиум. Или, как в случае с Индией, при помощи высоких таможенных тарифов на хлопчатобумажные ткани делает основной строкой индийского экспорта в Англию хлопок сырец. Европа расширялась, создавая колонии, Китай расширялся фронтиром.
Бин Вон полагает, что европейская политическая экономия была сосредоточена на увеличении налоговой базы и, следовательно, на поощрении торговли и ремесла, тогда как китайская – на сохранении равновесия – на развитии земледелия. В результате в Китае, в отличие от Европы, не сложилось связи коммерческих элит с государством, здесь на них, напротив, смотрели как на разрушителей общественной гармонии.
В грубом приближении можно констатировать, что Бин Вон рассматривает экономическую историю Китая в качестве колебания между двумя типами экономической политики: первый предполагал создание свободного рынка межрегиональной торговли с множеством продавцов и покупателей сельскохозяйственной и ремесленной продукции, и соответствующими различиями в специализации различных провинций; второй – превращение провинций в независимые, самостоятельные экономические «ячейки», дублирующие друг друга. Оба сценария предполагали определенные усилия со стороны государства на первоначальном этапе. Эти сценарии существенно различались по степени автономии местных властей от центра и необходимости вмешательства последнего на дальнейших этапах. В Китае между XVI и XVIII вв. наблюдается преобладание политэкономии первого типа. На этом этапе «региональные экономики Китая по многим показателям сравнимы с экономиками отдельных европейских стран» [7, c. 21]. В XVIII–XIX вв. в поздней Цин в связи с перечисленными особенностями государственного строительства в Китае стало происходить снижение централизованного государственного контроля, которое с необходимостью вело к преобладанию политэкономии второго типа. В отсутствие меркантилизма в торговле между китайскими провинциями это вылилось в снижении объемов торговли, деиндустриализации протопромышленных центров и в конечном итоге раздробленности «эры милитаристов». При анализе политической и экономической реконструкции во время правления Гоминьдана Бин Вон уделяет особое внимание приморским промышленным городам, сравнивая их с городами джексоновской Америки, описанной А. Токвилем. Бин Вон делает вывод о том, что Китай и Запад разными путями пришли в итоге примерно к одной и той же ситуации.
Если история государственного строительства на Западе включает два основ- ных нарратива: прогресс парламентских институтов, демократической идеологии и агрессивную централизацию власти через присвоение общественных ресурсов государственной бюрократией для ведения войн, то в начале XX в. в государственном строительстве Китая господствовали отличные нарративы: децентрализация и федерализация после разрушения вертикально интегрированной империи Цин, национализм городской буржуазии и крестьян. Первый путь был закрыт поражением Юань Шикая и эрой милитаристов, второй – японской интервенцией и поражением Гоминьдана. Коммунистическая политэкономия была эклектичной, но именно эта эклектика обусловила ее успех. Коммунисты следовали отчасти Цинской традиции равномерного развития земледелия на всей территории, отчасти – практикам Гоминьдана и японцев в оккупированных районах, отчасти советской модели – основными источниками роста были увеличение инвестиций, а также распространение и развитие технологий. Поскольку значительная часть инвестиций в промышленность финансировалась за счет крестьянских налогов, коммунисты фактически довели специализацию регионов до абсолюта, превратив сельский и городской Китай в два разных мира. При этом подобно конфуцианским практикам сохранения «мандата неба» императором, коммунисты пытались поддерживать равновесие, рассредоточивая промышленность из шести прибрежных провинций.
Основной аргумент монографии К. Померанца «Великая Дивергенция. Становление современной мировой экономики» 2000 г. [33] в том, что уголь и трансатлантическая торговля были теми двумя факторами, «счастливое совпадение» которых позволило Европе избежать экологического тупика, в котором застряла Восточная Азия. До 1800 г. у Европы не было никаких ярко выраженных преимуществ. Все гипотетические европейские преимущества полностью нивелировались отставанием от Китая в производительности сельского хозяйства. Вопреки представлениям о том, что широ- кое использование женского и детского труда в китайских семьях вело к «инволютивной экономике», Померанц демонстрирует, что этот феномен был свойствен Китаю не больше, чем «революция трудолюбия» Европе, т. е. в действительности определенные черты и того, и другого были в равной степени присущи доиндустриальной экономической истории обеих экономик. Различия во внутреннем потребительском поведении до XIX в. также были не слишком велики. Преимущество европейской системы соперничающих государств перед единым имперским Китаем проявилось только в заморской колонизации и «вооруженной торговле».
Общая евразийская экологическая проблема «люди/ресурсы» заключалась в нехватке энергоносителей, строительных материалов, дефиците земли, волокна и снижении плодородности земель по мере роста численности и плотности населения. Померанц называет эту проблему «квази-мальтузианской», поскольку некоторые из ее аспектов разрешались путем дополнительных вливаний капитала или повышения интенсивности труда. Однако проблема нехватки энергоресурсов таким образом не решалась. Трудоинтенсивный путь расширения экологических границ роста первоначально был общим для всей Евразии (а не особым азиатским путем, подробнее см.: [30]). Наивысшего развития на этом пути достиг Китай, а Европе, напротив, посчастливилось воспользоваться преимуществами отставания.
Еще одним (также ограниченным) путем решения экологических проблем была межрегиональная торговля между более развитым, густонаселенным специализированным центром и периферией, в рамках которого протопромышленные товары центра обменивались на «землеемкие» товары периферии. Одним из ограничений этого способа решения экологических проблем было то, что периферия прибегала к им-портозамещению, которое приводило к исчезновению сравнительных преимуществ центров и прекращению смитианского ро- ста там. Именно это произошло в Китае, где периферия стала специализироваться по образцу Дельты Янцзы. (Отчасти это стало возможным потому, что в отличие от Европы, где основной рост населения Нового времени приходился на центры, в Китае он пришелся на периферию.) «Таким образом, свобода и экономический рост периферий в отсутствие технологических изменений завели страну в целом в экономический тупик» [33, c. 22]. Другим ограничением межрегиональной торговли были недостаточные ее обороты из-за того, что рынок периферии был слишком узким, а местные институциональные особенности препятствовали расширению производства землеемких товаров. Это ограничение испытала на себе Западная Европа в попытке решить свои проблемы через торговлю с восточноевропейской периферией.
Таким образом, необходимо было сочетание технологических изменений в центре, которые сделали бы использование землеемких богатств периферии эффективным, и периферии с достаточными запасами землеемких богатств и достаточно большим рынком, чтобы абсорбировать промышленные товары центра.
Такой технологией стал паровой двигатель, который в строго технологическом смысле мог быть изобретен за пределами Европы, поскольку его конструкция не была уникальной. До изобретения его европейцами в Китае были аналоги: «ящик-мехов» и система двойного действия «поршень-цилиндр» [5, гл. 9]. Однако в Китае не сложился угольно-паровой комплекс. Север и северо-запад Китая обладали огромными залежами угля, судя по данным о качестве и объемах производства железа в Китае XI в., китайцы обладали технологией коксования угля. В XII–XV вв. север и северо-запад Китая пережили ряд катастроф экологического, демографического и военного характера, результатом которых стал фатальный отказ от ископаемого топлива. Превращению парового двигателя в «универсальную технологию» в Китае также мешали эколого-географические особенности шахт: английским шахтам постоянно грозило затопление, китайские – были настолько сухими, что им, напротив, постоянно грозило самовозгорание. Основной технологической проблемой добычи угля в Китае была вентиляция, а не откачка воды. Вентиляционные технологии не смогли решить проблемы транспортировки, в то время как паровой двигатель, используемый сначала для откачки воды, их решил. Наконец, в отличие от Китая, залежи угля в Британии располагались ближе к промышленным центрам. Для подтверждения этого фактора Померанц использует кейс Франции. В отличие от Р. Аллена, К. Померанц подчеркивает «землесберегающую», а не «трудосберегающую» природу технологий. Ссылаясь на Дж. Мокира, он показывает, что в условиях дефицита инвестиций в инновации высокая зарплата могла не стимулировать изобретение трудосберегающих технологий, а препятствовать появлению любых технологий. Он также приводит примеры, когда китайские фермеры инвестировали в трудосберегающие технологии по причине дешевизны рабочей силы, а не наоборот.
Вслед за Э. Ригли Померанц демонстрирует, насколько огромные объемы древесины были заменены углем. В Британии цены на древесное топливо в 1500–1630 гг. выросли на 700 %, увеличиваясь в период с 1540 по 1630 г. в три раза быстрее среднего уровня прироста цен [33, с. 226]. XVII в. стал для большей части страны временем энергетического кризиса. Древесины и древесного угля не хватало даже для железного проката, не говоря о прочих нуждах. Кроме того, вырубка леса привела к эрозии почв, что европейцам удалось выяснить в XIX в. благодаря природоохранным экспериментам в колониях. (Только после этого принципы научного сохранения лесов стали применяться и в метрополиях.) Острота экологических проблем в Дельте Янцзы превысила аналогичные проблемы в Европе и Японии лишь к концу XIX в. Китай и Япония попытались решить эти проблемы путем повышения интенсивности труда и лишь запутались в них. Тупиковый характер трудоинтенсивного пути решения экологических проблем Померанц подтверждает кейсом Дании. Из своего леса датчане даже построили флот, но заморские колонии им ничего не дали; импорт энергоемких и землеемких товаров пришлось оплачивать экспортом сельскохозяйственной продукции, потребовавшим 200%-го увеличения трудозатрат в сельском хозяйстве.
Однако новые технологии без периферии нового типа также были лишь частичным решением. Но найти менее развитого торгового партнера еще не означало решить экологическую проблему в долгосрочной перспективе. В торговле с Китаем Индия была более крупным аналогом Восточной Европы в торговле с Западной. Для европейского экспорта рынки Индии и Африки также были слишком узкими. К тому же главные статьи африканского сырьевого экспорта (перец, золото и слоновая кость) не давали необходимых Западной Европе землеемких ресурсов. Тем, что превратило Новый свет в периферию нового типа, было использование рабского труда в производстве землеемких товаров, которое нивелировало проблему падения доходов. Именно эта проблема привела к обращению китайской периферии к ремесленному производству. Работорговля сделала европейско-американский товарообмен фундаментально отличным и более масштабным, чем обмен между Западной и Восточной Европой. С XVIII–XIX вв. важнейшими землеемкими товарами из Нового света были сахар и хлопок (затем уже лес, зерно и некоторые другие сырьевые товары). В условиях скудного рациона сахар был важнейшим заместителем недостающих калорий. Без дешевого американского хлопка британская промышленность не стала бы рентабельной. Китай, пытаясь выращивать необходимый хлопок поблизости от ремесленных центров, тем не менее попадал в зависимость от поставок удобрений с периферии. Таким образом, европейские экологические проблемы только ретроспективно кажутся легкоразрешимыми.
Наконец, распространение индустриализации из Британии по всей Европе и за ее пределы было долгим процессом, встречавшим острое сопротивления, для описания которого Померанц использует метафору «промышленного взросления» Мокира. В течение 1815–1900 гг. объемы добычи угля в Британии увеличились в четырнадцать раз, импорт сахара в том же периоде вырос примерно в одиннадцать раз, импорт же хлопка – двадцатикратно. В тот же период Китай продолжал испытывать рост населения, который в результате экологических ограничений сопровождался деиндустриализацией проторомышленных районов: к 1950 г. по уровню промышленного развития Китай откатился к уровню 1750 г.
Согласно Дж. Голдстоуну, «Великая дивергенция» – это процесс, в ходе которого «Европа стала мировым лидером в сфере технологий, благосостояния и государственной мощи» [2, с. 11]. Этот процесс приходится лишь на вторую половину XIX в., вплоть до XVI в. мировыми лидерами в экономике, науке, технике, торговле и мореплавании была не Европа, а общества Азии и Ближнего Востока. Азия лидировала в производительности сельского хозяйства, качестве и ассортименте ремесленных товаров и предметов роскоши. Доказательством тому служит сам мотив Колумба – найти короткий путь к сказочным богатствам лидирующей азиатской цивилизации. «Почти все ранние технические достижения Европы были следствием желания догнать передовые азиатские технологии» [2, c. 291]. Из этой перспективы феномен Великой дивергенции превращается в историю о том, как догоняющее развитие Европы превратилось в опережающее, а основным лейтмотивом работы 2008 г. (на русском опубликована в 2014 г.) «Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850» [2] выступает желание доказать временный характер феномена Великой дивергенции: «По мере распространения современного экономического роста, возвышение Запада – процесс, продлившийся всего два столетия, с 1800 по 2000 г., – будет восприниматься как временный, хотя и многое изменивший, этап в мировой истории» [2, c. 300].
Демонстрируя изрядный ориентализм, Дж. Голдстоун начинает с перечисления причин лидерства Азии в аграрном мире: климат, почвы, рисоводство, ирригационные технологии, удобрения, бронзовое литье, керамические печи, письменные принадлежности, фарфор, хлопок, шлюзовая система на Великом канале (за 400 лет до того, как шлюзы стали использовать европейцы). Однако в начале XX в. Китай уже воспринимался европейцами как косное и недоразвитое общество. Причина в том, что до промышленной революции циклы, а не поступательное движение, представляли собой нормальный ход мировой истории. Демографические циклы нивелировали изменения в производительности сельского хозяйства и разрозненные технологические всплески. В свою очередь численность народонаселения была подвержена влиянию таких случайных факторов, как климатические изменений, эпидемии и долгосрочные исторические циклы (возникновение и распад империй, смена династий). Колебание цен и зарплат опосредовало влияние демографических циклов на производительность.
До промышленной революции технологические изменения были «спорадическими», слишком медленными и изолированными, чтобы вывести из «мальтузианской ловушки», к тому же были периоды, в которые технологии просто терялись или запрещались. Аналогом технологии «Норфолкского севооборота» XIV в., которая привела к аграрной революции в Англии, в Китае стали использование скороспелых сортов риса, соевого жмыха как удобрения и засаживание непригодных для рисоводства земель культурами из Нового света. Поскольку уже ко второй половине XVIII в. возросшее население «съело» результаты этой мнимой революции, то Голдстоун считает ее очередным циклом и делает вывод о том, что досовременной экономической истории были свойственны периоды не только смитианского роста, но и периоды шумпетерианского (подробнее см. [18]).
Основную роль в формировании в Европе «культуры инноваций» Голдстоун приписывает государству и культурным факторам. Тем не менее он отмечает, что «рассуждения о роли религиозных различий в развитии Запада основаны на ряде недоразумений и искажений истории и религии» [2, c. 88]. Восточные религии не были пассивными. Реформация расколола христианский мир, создав европейскую систему религиозно и экономически конкурирующих государств. Однако подобная система соперничающих государств не была чем-то уникальным для Европы и в целом не вела к росту благосостояния. Религия способствовала развитию науки и технологии в условиях сосуществования многих религий, плюрализма и толерантности (в Западной Европе такие условия сложились в XVII – XIX вв. после Реформации и религиозных войн). И, напротив, периоды расцвета науки и технологий оканчиваются с официальным засильем религиозной ортодоксальностью.
Правители раннего Нового времени были поглощены расширением бюрократии и усилением власти. Некоторые из них сочли, что возвращение к ортодоксальной религии было хорошим подспорьем для этого. Османские движения за реформы XVII–XVIII вв. требовали возврата к традиционным воззрениям как средству от политических и экономических напастей. Инновации стали предметом религиозной ненависти. То же произошло в Китае, когда новая маньчжурская династия насадила ортодоксальное конфуцианство, то же в юго-восточной Европе с католической контрреформацией. «До XVII в. католическая церковь, по сути, содействовала исследованиям в самых разных областях, поддерживая даже таких оригинальных исследователей, как Коперник. Но как только католичество подверглось атаке со стороны протестантских лидеров и ощутило шаткость своего положения, а католические лидеры пришли к выводу, что новые научные открытия угрожают их контролю над воззрениями народа, папство и другие католические лидеры стали подавлять развитие нового образа мышления» [2, c. 208]. При- чем ортодоксии вели не только к застою, но и к утрате знаний.
Вслед за Мокиром Голдстоун постулирует, что промышленную революцию нельзя рассматривать всего лишь как ответ на экономические вызовы, т. е. обособленно от научных открытий. «Подлинный ключ к определению времени промышленной революции следует искать в научной революции XVII в.» [2, c. 230]. Голдстоун перечисляет шесть факторов, благодаря которым научная революция в Европе соединилась с технологической, превратив научное проектирование в «рутинную составляющую предпринимательства»:
-
1) ряд «случайных» научных открытий (Новый свет, новые звезды, спутники Юпитера) заставили европейцев отказаться от роли традиции и религии в качестве источников знания, чего не сделала успешная в средневековье мусульманская наука;
-
2) новый подход к науке сочетал экспериментальные исследования и математический анализ мира природы, в то время как большинство досовременных научных традиций отказывались от использования математики для исследования устройства Вселенной;
-
3) наглядность, публичность и полезность научного знания (победа эмпиризма над рационализмом); во Франции, где победил рационализм, занятие наукой долгое время оставались уделом избранных;
-
4) использование приборов в наблюдении породило самоусиливающийся механизм: демонстрация полезности приборов приносила инвестиции в дальнейшее приборостроение – новые приборы позволяли делать новые открытия;
-
5) атмосфера терпимости и плюрализма, а не конформизма и насаждаемой государством ортодоксии;
-
6) тесные социальные взаимосвязи между учеными, предпринимателями, инженерами и ремесленниками в сумме дающие «культуру инноваций» и распространяющие ее.
Голдстоун также предлагает интересный взгляд на роль колониализма в Великой дивергенции: «Торговая экспансия Европы после 1500 г. свидетельствовала не о превосходстве, а о подключении Европы к уже существовавшей сети океанской торговли с центром в Азии. В сущности, на протяжении последующих трехсот лет торговая экспансия Европы была нацелена на импортирование высококлассных промышленных товаров из Азии в обмен на крупномасштабный экспорт серебра, вывозимого из Нового Света» [2, c. 284]. В XVIII в. Китай и Япония продолжали доминировать в азиатской торговле, ограничивая присутствие европейцев на своих землях. Торговля и завоевания шли рука об руку. На море европейцы обладали преимуществом в огневой мощи, на суше преимущества не было, поэтому по отношению к прибрежным королевствам они использовали тактику «разделяй и властвуй». Там, где речь шла не о вооруженной торговле, европейцы всегда проигрывали китайцам.
Когда в конце XVII в. демографический цикл роста населения в Евразии достиг предела и пошел на спад, то же произошло с ценами и торговыми прибылями европейцев. Европейцы прибегли к импортозамещению азиатских товаров. Протекционистскими законами британцы вынудили Китай и Индию производить и продавать сырой хлопок и шелк. Однако, поскольку качество европейских промышленных товаров не выдерживало конкуренции с азиатскими, в XVIII в. европейцы попытались избавиться от азиатских конкурентов и посредников. «Европейцы, таким образом, стремились стать правителями, а не торговцами, собирая налоги и требуя нужные товары, а не торгуясь за них» [2, c. 115]. За пределами Индонезии и Индии европейские державы были гораздо менее успешны в образовании империй в Азии и Африке в течение XVIII в. Только паровые суда и железные дороги в XIX в. позволили европейцам подчинить Китай и Японию и проникнуть вглубь Африки. Причиной этого колониального усиления стало не то, что Англия собирала больше налогов, чем Китай, а то, как она их тратила – налоги и растущие во время войн займы шли на воен- ные нужды и флот. «В результате сложился механизм самоусиления, когда торговые налоги использовались для покрытия военных расходов, обеспечивавших, в свою очередь, безопасную и еще более масштабную торговлю» [2, c. 200].
Заключение
Основные исходные и общие положения калифорнийской школы были изложены во вступительной части статьи, поэтому в заключении целесообразно обратиться к выводам, которые можно сделать на основе сравнения проанализированных подходов. Во-первых, необходимо подчеркнуть особую близость всех рассмотренных подходов к неомальтузианскому и мир-системному анализу. Если первое объясняется самой природой предмета исследования, то второе – скорее, вниманием к «политэкономи-ческим», чем «чисто экономическим» факторам Великой дивергенции и близостью по духу броделевскому ревизионизму школы «Анналов».
Во-вторых, при объяснении феномена Великой дивергенции «калифорнийцы» придают особый вес исторической случайности в качестве фактора исторических изменений (отчасти это следствие методологической установки на преодоление механистического детерминизма в истории). В-третьих, вопреки демонстрации сходств досовременной экономической истории Евразии, никто из «калифорнийцев» не ставит под сомнение тот факт, что и до промышленной революции Европа была довольно динамичным обществом. (А. Г. Франк утверждает лишь, что центром мировой экономики 1400–1800 гг. была Азия, а не Европа, не отрицая всецело динамизма последней.) Тем самым можно сделать вывод, что различия между «калифорнийцами» и сторонниками «глубокой ускоренности» европейского превосходства, чью экономическую историю они подвергают ревизии, не столь уж велики. В конечном счете выясняется, что то единственное отличие Европы, которое уводит ее на иную экономическую траекторию от Азии только в XIX в., имеет в действительности куда более глубокую историю. Например, фактор различий в государственном строительстве Европы и Китая Бин Вона, или открытие Нового света (1492 г.), который позднее превратился в «периферию нового типа» у Померанца, или европейская научная «культура инноваций» Голдстоуна, уходящая корнями в эмпирическую и экспериментальную науку раннего Нового времени и Возрождения.
Выводы «калифорнийцев» о сходстве экономической истории наиболее развитых регионов Евразии обращают внимание исследователей на истоки расхождения внутри европейского и азиатского макрорегионов, т. е. на феномены, которое получили название Малой [европейской], [азиатской] дивергенции («Little divergence»). При этом, стремясь подчеркнуть сходства экономической истории Евразии, «калифорнийцы» часто опускают вопиющие различия. Превращая Великую дивергенцию из исторического «процесса» в «момент» истории, «калифорнийцы» делают свой анализ скорее статическим и компаративистским, чем историко-генетическим. Наконец «калифорнийцы» в большинстве своем вынуждены делать выводы о сходстве различных евразийских макрорегионов на основе достаточно скудных статистических данных, пренебрегая культурными и институциональными особенностями.
Существует еще целый ряд аргументов представителей калифорнийской школы, которые не были рассмотрены. Например, А. Г. Франк утверждает, что шанс преодолеть свое маргинальное положение в мировой экономике выпал Европе только благодаря сжатию азиатских рынков в конце 1700-х г. Как и Франк, Д. Флинн подчеркивает огромные объемы импорта серебра из Нового Света в Китай, единственного товара, которым европейцы могли оплатить импорт китайских товаров, в качестве признака превосходства китайских экономики и производства. (Хотя в конечном счете огромный приток серебра послужил одной из причин нарушения китайского баланса «люди/ресурсы».) Дж. Ли и В. Фэн пересматривают традиционную мальтузиан- скую картину демографических процессов в позднеимперском Китае. Используя компьютерное моделирование, они рассчитали общий коэффициент рождаемости в браке, который колеблется от 5,3 до 6,5 детей на замужнюю женщину в зависимости от статуса и региона. Их оценки аналогичного показателя для Европы составили от 8 до 9 детей.
Несмотря на общность исходных теоретико-методологических установок и отмеченные сходства налицо ряд различий между подходами различных представителей «Калифорнийской школы». Например, если Бин Вон в целом принимает аргумент о роли военного соперничестве между европейскими государствами, то Померанц и Голдстоун – нет. Померанц отвергает саму возможность «военное кейнсианство» отмечая, что, поскольку военный спрос финансировался за счет налогов, постольку он снижал общий спрос [33, c. 195]. Голдстоун аргументированно отрицает тот факт, что военная и религиозная конкуренция в Европе была более острой, чем в азиатских империях. Голдстоун также оспаривает аргумент Померанца о роли угля: «Если бы Китай первым осуществил промышленный прорыв на основе хлопка, то мы все без сомнения с важным видом утверждали бы, что у Британии не было шансов стать лидером промышленного производства хлопка в силу ее географической удаленность от всех источников хлопкового волокна, которые имели решающее значение. Аналогично, если бы богатые угольные месторождения были бы найдены в Бретани, а не в Британии, вполне вероятно, что Британская индустриализация следовала тому же курсу, которому она следовала в действительности, с морскими поставками угля из Бреста, вместо поставок из Ньюкасла, без каких-либо притянутых выводов о национальных ресурсах» [18, c. 360–361]. Со своей стороны Померанц подвергает критике аргумент Голдстоуна [20] о том, что формирование ткацких фабрик в Китае тормозилось исключительно обычаем, запрещавшим ткачихам работу вне дома [33, c. 103–105]. Признавая огромный вклад азиатской науки в развитие европейской, Франк и Голдстоун расходятся во мнениях относительно роли европейской «научной революции» и т. д.
Могут быть выделены три основных типа направления критики калифорнийской школы. Во-первых, это типичная истори-цистская критика со стороны специалистов по Китаю, постулирующих невозможность сравнения Востока и Запада в силу несравнимости культур и прочие аргументы, связанные с ролью культуры и/или институтов. Во-вторых, эта обратная критика защитников аргумента «глубокой укорененности» европейского превосходства. Например, Р. Бреннер утверждает, что причиной расхождения Евразийских экономических траекторий стали рыночный и не-рыночной типы доступа экономических агентов к средствам существования (в основном земле) и проистекающая из этого степень эффективности их использования. В свою очередь разные типы доступа к жизненно важным ресурсам были следствием разной силы классовых конфликтов и их исходов. К 1800 г. средний размер ферм английских крестьян составлял от 100 до 150 акров, с 1600 г. он практически удвоился, в то время как в аналогичный период в Дельте Янцзы происходило дробление крестьянских наделов, средний размер которых составлял 4–5 акров [12, c. 619–621]. Согласно М. Манну, вплоть до 1500 г. развитие «экстенсивной власти» в Европе по сравнению с Азией было всегда догоняющим, в то время как в «интенсивной власти» Европа лидировала начиная с 1000 г.
В-третьих, не-европоцентристская интеллектуальная критика и критика на основе статистических данных [13; 14; 15; 22; 23; 24; 35]. По мнению П. де Фриза, аргумент о превосходстве Китайской экономики на основе огромного импорта серебра из Нового света едва ли возможно обосновать:
-
1) импорт серебра из Нового света не был столь уж большим (только треть китайского импорта серебра приходилась на Новый Свет), куда большим был импорт из Японии; 2) баланс торговли Китая и Британии не говорит об экономической эффективности экономик; 3) маловероятно, что серебро оседало в Китае по причине его экономического превосходства, какие выводы о Великой дивергенции, можно сделать на основе китайского серебряного импорта остается, скорее, неясным [35]. Преувеличивают значение торговли, основные доходы от которой в эпоху меркантилизма происходили не из производственного сектора, а из сектора услуг: перевести и продать в розницу по цене выше оптовой закупочной. В этом отношении Китай мог быть производительнее, но выступающая торговым посредником Англия могла на этом больше зарабатывать.
Дж. Брайант склонен полагать, что эконометрическая историография калифорнийской школы носит крайне спекулятивный характер. Иногда социально-научная (квантифицированная) история ревизионистов расходится с социальной и противопоставляется ей. Например, на основе данных о ценах и зарплатах С. Бродберри и Б. Гупты можно сделать вывод, обратный тому, что делает Померанц: между 1500 г. и 1800 г. предположительно процветавшие области Азии были, скорее, похожи на стагнирующие части Центральной и Восточной Европы, чем на развивающуюся Северную Европу. Ш. Памук приходит к выводу о том, что дивергенция зарплат между Стамбулом и Северной Европой начинается с XVI в. и практически не изменяется вплоть до промышленной революции. Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что осмысление Великой дивергенции далеко от своего завершения, при этом ревизионистский вклад калифорнийской школы в оживление этой дискуссии более чем значительный.
Список литературы Калифорнийская школа экономической истории: ревизионистский подход к феномену великой дивергенции
- Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. -М.: АСТ 2015. -695 с.
- Голдстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500-1850. -М.: Издательство Института Гайдара, 2014. -224 с.
- Гуди Дж. Похищение истории. -М.: Весь Мир, 2015. -432 с.
- Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ. -М.: АСТ, 2012. -752 с.
- Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. -М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. -504 с.
- Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. -М.: ВШЭ, 2016. -510 с.
- Bin Wong R. China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience. -Ithaca and London: Cornell University Press, 1997. -327 p.
- Bin Wong R. The Political Economy of Chinese Rural Industry and Commerce in Historical Perspective//Études rurales. -2002. -No. 161/162. -P. 153-164.
- Bin Wong R. The Search for European Differences and Domination in the Early Modern World: A View from Asia//The American Historical Review. -2002. -No. 2 (107). -P. 447-469.
- Bin Wong R. Сhinese Economic History and Development: A Note on the Myers-Huang Exchange//The Journal of Asian Studies. -1992. -No. 3 (51). -P. 600-611.
- Blaut J. The Colonizer’s Model of the World. Geographical Diffusionism and Eurocentric History. -New York and London: The Guilford Press, 1993. -248 p.
- Brenner R., Isett C. England’s Divergence from China’s Yangzi Delta: Property Relations, Microeconomics, and Patterns of Development//The Journal of Asian Studies. -2002. -No. 2(61). -P. 609-662.
- Bryant J. A New Sociology for a New History? Further Critical Thoughts on the Eurasian Similarity and Great Divergence Theses//The Canadian Journal of Sociology. -2008. -No. 1(33). -P. 149-167.
- Bryant J. The West and the Rest Revisited: Debating Capitalist Origins, European Colonialism, and the Advent of Modernity//The Canadian Journal of Sociology. -2006. -No. 4 (31). -P. 403-444.
- Duchesne R. Between Sinocentrism and Eurocentrism: Debating Andre Gunder Frank’s Re-Orient: Global Economy in the Asian Age//Science & Society. -2002. -No. 4 (65). -P. 428-463.
- Goldstone J. Cultural Orthodoxy, Risk, and Innovation: The Divergence of East and West in the Early Modern World//Sociological Theory. -1987. -No. 2(5). -P. 119-135.
- Goldstone J. East and West in the Seventeenth Century: Political Crises in Stuart England, Ottoman Turkey, and Ming China//Comparative Studies in Society and History. -1988. -No. 1 (30). -P. 103-142.
- Goldstone J. Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the «Rise of the West» and the Industrial Revolution//Journal of World History. -2002. -No. 2 (13). -P. 323-389.
- Goldstone J. Europe vs. Asia: Missing Data and Misconceptions//Science & Society. -No. 2 (67). -P. 184-195.
- Goldstone J. Gender, Work and Culture: Why the Industrial Revolution Came Early to England but Late to China//Sociological Perspectives. -1996. -No. 1 (39). -P. 1-21.
- Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. -Berkeley: University of California Press, 1991. -616 p.
- Huang P. Development or Involution in Eighteenth-Century Britain and China?//Journal of Asian Studies. -2002. -No. 2 (61). -P. 501-538.
- Huang P. Further Thoughts on Eighteenth-Century Britain and China: Rejoinder to Pomeranz’s Response to My Critique//Journal of Asian Studies. -2003. -No. 1 (62). -P. 157-167.
- Huang P. The Peasant Family and Rural Development in the Yangzi Delta, 1350-1988. -Stanford: Stanford University Press, 1990. -421 p.
- Jones E. The European Miracle: Environments, Economies, and Geopolitics in the History of Europe and Asia. -Cambridge: Cambridge University Press. 1981. -276 p.
- Lavely W., Bin Wong R. Revising the Malthusian Narrative: The Comparative Study of Population Dynamics in Late Imperial China//The Journal of Asian Studies. -1998. -No. 3 (57). -P. 714-748.
- Needham J. The Grand Titration: Science and Society in East and West. -Toronto: University of Toronto Press, 1969. -348 р.
- Pomeranz K. Beyond the East-West Binary: Resituating Development Paths in the Eighteenth-Century World//The Journal of Asian Studies. -2002. -No. 2 (61). -P. 539-590.
- Pomeranz K. Chinese Development in Long-Run Perspective//Proceedings of the American Philosophical Society. -2008. -No. 1 (152). -P. 83-100.
- Pomeranz K. Is There an East Asian Development Path? Long-Term Comparisons, Constraints, and Continuities//Journal of the Economic and Social History of the Orient. -2001. -No. 3 (44) P. 322-362.
- Pomeranz K. Political Economy and Ecology on the Eve of Industrialization: Europe, China, and the Global Conjuncture//The American Historical Review. -2002. -No. 2(107). -P. 425-446.
- Pomeranz K. South and East Asia in Global Economic History: An Ongoing Dialogue//Economic and Political Weekly. -2004. -No. 49 (39). -P. 5268-5272.
- Pomeranz K. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000. -392 p.
- Vrees P. What We Do and Do not Know About the Great Divergence at the Beginning of 2016//Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft. -2016. -No. 28. -P. 249-297.
- Vries P. The California School and Beyond: How to Study the Great Divergence?//History Compass. -2010. -No. 7 (8). P. 730-751.