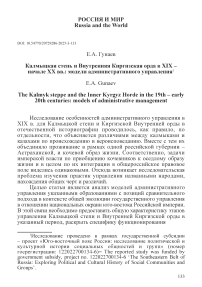Калмыцкая степь и Внутренняя Киргизская орда в XIX – начале XX вв.: модели административного управления
Автор: Гунаев Е.А.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование особенностей административного управления в XIX – начале XX вв. для Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орды в отечественной историографии проводилось, как правило, по отдельности, что объясняется различиями между калмыками и казахами по происхождению и вероисповеданию. Вместе с тем их объединяло проживание в рамках одной российской губернии — Астраханской, и кочевой образ жизни. Соответственно, задачи имперской власти по приобщению кочевников к оседлому образу жизни и в целом по их интеграции в общероссийское правовое поле виделись одинаковыми. Отсюда возникает исследовательская проблема изучения практик управления указанными народами, нахождения общих черт и различий. Целью статьи является анализ моделей административного управления указанными образованиями с позиций сравнительного подхода в контексте общей эволюции государственного управления в отношении национальных окраин юго-востока Российской империи. Использование институционального подхода позволяет осуществить как анализ моделей административного управления, так и определить этапы исторического развития государственных и общественных институтов, властных институтов Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орды в XIX – начале XXвв. В качестве моделей рассматриваются такие формы как наместничество, приставство, попечительство. В отношении указанных этнополитических образований прослеживаются три модели управления: наместничество, приставство и попечительство. У астраханских калмыков эти модели сменяются одна за другой, у казахов Внутренней орды они в первой половине XIX в. применялись наряду одна с другой, как бы формируясь одновременно. Фактически это была одна модель попечительства, которая реализовывалась сначала путем назначения наместника или пристава, затем полностью переходила в ведение Министерства государственных имуществ, затем внутренних дел с соответствующей структурой управления. На низовом и среднем уровне управления применялась улусная (золотоордынская, монгольская) система управления, учитывавшая родоплеменную структуру кочевых обществ. Только в начале XX в. начался переход к общероссийской модели управления, подразумевающее введение земства, который так и не был завершен.
Калмыцкая степь, Киргизская Внутренняя орда, калмыки, казахи, административное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/149149214
IDR: 149149214 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-133
Текст научной статьи Калмыцкая степь и Внутренняя Киргизская орда в XIX – начале XX вв.: модели административного управления
The Kalmyk steppe and the Inner Kyrgyz Horde in the 19th – early 20th centuries: models of administrative management
Исследование особенностей административного управления в XIX в. для Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орды в отечественной историографии проводилось, как правило, по отдельности, что объясняется различиями между калмыками и казахами по происхождению и вероисповеданию. Вместе с тем их объединяло проживание в рамках одной российской губернии – Астраханской, и кочевой образ жизни. Соответственно, задачи имперской власти по приобщению кочевников к оседлому образу жизни и в целом по их интеграции в общероссийское правовое поле виделись одинаковыми. Отсюда возникает исследовательская проблема изучения практик управления названными народами, нахождения общих черт и различий.
Целью статьи является анализ моделей административного управления указанными образованиями с позиций сравнительного подхода в контексте общей эволюции государственного управления в отношении национальных окраин юго-востока Российской империи. В этой связи необходимо предоставить общую характеристику этапов управления Калмыцкой степи и Внутренней Киргизской орды в указанный период, раскрыть специфику функционирования тех или иных моделей управления применительно к каждому этнополитическому образованию и выявить сходные черты условий развития, способствовавших выработке общего подхода по их реформированию к концу XIX – началу XX вв.
Если XIX в. для Калмыцкой степи Астраханской губернии и Большедербетовского улуса Ставропольской губернии – это время дальнейшей постепенной инкорпорации калмыков в систему управления инородцами Российской империи без своего единоначалия, т.н. института наместничества в рамках приставства и в дальнейшем системы попечительства1, то для Киргизской Внутренней орды – это сначала время образования и функционирования в форме ханства с ханом Букеем, а затем его сыном Джангиром, которые фактически являлись наместниками российского престола, и одновременно применения системы попечительства, которая стала всеобъемлющей после смерти Джангира и фактической ликвидации ханской власти2.
На наш взгляд, использование институционального подхода позволяет осуществить анализ моделей административного управления, а также определить этапы исторического развития государственных и общественных институтов в отношении Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орды в XIX – начале XX вв. В качестве моделей можно рассматривать такие формы как наместничество, приставство, попечительство3.
В предлагаемой статье будут рассмотрены модели Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орды в сравнительном аспекте. Источниками исследования выступают опубликованные материалы, включая сборники документов, нормативные акты, отдельные статьи газеты «Астраханский вестник» конца XIX в. и материалы Российского государственного исторического архива (РГИА) по проектам реформирования названных образований в начале XX в.
Калмыки в количестве 136 254 чел. занимали обширную степь в юго-западной части Астраханской губернии, в пределах которой им на правах общего пользования было предоставлено 7 515 759 дес. или 72 267 кв. верст казенной земли. В административном отношении степь делилась на улусы: Малодербетовский, Харахусов-ский, Эркетеневский, Яндыко-Мочажный, Икицохуровский, Александровский, Багацохуровский и Калмыцкий Базар, во главе которых стояли улусные управления, функционирующие как уездные полицейские управления. Состояли они из попечителей и заведующих улусами, их помощников и демчеев, или сборщиков податей4.
Киргизы (казахи) кочевали в северо-восточной части Астраханской губернии, на пространстве 66 633 кв. верст, в количестве 208 706 чел. Киргизская степь делилась на пять частей: Калмыцкую,
Торгунскую, Нарынскую, Камыш-Самарскую, Таловскую и два Приморских округа – первый и второй. Каждой частью и округом управляли правитель и его помощники. На основании указа правительствующего сената от 20 августа 1876 г. за № 30 002, Внутренняя Киргизская орда не вошла в состав Астраханской губернии, а была лишь подчинена губернатору на тех самых основаниях, на которых состояла в подчинении главного начальника Оренбургского края. Управлял ордой Временный совет, состоявший из председателя, двух русских чиновников и двух ордынских (казахских) советников5.
Уже с начала XVII в. «в распорядках калмыцкой жизни принимает участие русская администрация»6, хотя степь и продолжает быть самостоятельным ханством под протекторатом России. В 1771 г. часть калмыков вместе с ханом Убуши ушла с русской территории в Китай, и с тех пор ханство было упразднено, а заведывание передано коллегии иностранных дел. В это время в качестве суда оставались бывшие ханские зарго,2 но с тем изменением, что, вместо назначаемых ханом чиновников, судьями являлись представители народа. В 1786 г. суд этот был упразднен, учреждены были уездные суды, затем военные, и, наконец, в 1825 г., когда степь перешла уже в ведение Министерства внутренних дел, снова был узаконен зарго, в который избиралось 8 чел. от народа, но уже как апелляционная ступень суда, первой же инстанцией являлись улусные суды, также состоявшие из выборных, а кассационной – сенат. Суды функционировали под непосредственным наблюдением русских чиновников – главного и частных приставов. В 1834 г. было издано первое положение, по которому суд зарго был преобразован: председатель и советники стали назначаться из русских чиновников, причем руководствоваться эти судьи должны были калмыцким судопроизводством и уложением, основанных на местных обычаях. «Однако на деле калмыцкое право не применялось, потому что русские чиновники не были и не могли быть, в силу понятного антагонизма, хорошо знакомыми с этим правом и бытом калмыков, так и потому, что слишком были склонны преувеличивать свою власть и злоупотреблять ею, что было в то тяжелое время не редкостью и в российских судах»7. В 1836 г. главный пристав и частные пристава были заменены главным попечителем и улусными попечителями, а в следующем году Калмыцкая степь перешла в ведение министерства государственных имуществ8.
После издания в 1847 г. второго «Положения об управлении калмыцким народом», именно в 1849 г., суд зарго был вовсе закрыт, улусные суды переименованы в улусные зарго, дела же 2-й инстанции переданы в Астраханскую палату уголовного и гражданского суда, которая и заменена была в 1894 г., окружным судом. Утверждалось, что калмыцкого в этих судах практически ничего не оставалось, хотя калмыки во всех деталях сохранили свои бытовые особенности, следовательно, и представление о суде, основанном на началах крепостнических, пережитки которого существовали в степи в форме особой экономической зависимости простолюдинов от нойонов, зайсангов и бакшей. Российские чиновники отмечали, что по обычному праву, «как и у всех вообще малокультурных народов, уголовная ответственность касалась, главным образом, имущества обвиняемых, хотя «ногайка» и «кулак» – аксессуары «высшей ступени цивилизации» – не были совсем изъяты из средств воздействия на нравственность калмыков»9. Однако, калмыки были слишком привержены к своему выборному суду и, если не сохранили его в чистом виде в качестве законного суда, то пользовались им нелегально, чем и объяснялось сравнительно малое количество дел, разбираемых в улусных бюро и окружном суде10.
Киргизы, находившиеся в переходной стадии от кочевого к оседлому состоянию, так как зимой они не кочевали, а жили на определенном месте в постоянных землянках, – с 1805 г. были подчинены русским административным установлениям и находились сначала в ведении министерства иностранных дел, но управлял ими и судил хан и султаны-правители, права и власть которых определялись особыми грамотами, например, от 22 июня 1823 г., и указами, как Указ правительствующего сената от 30 ноября 1839 г. Казахи Внутренней орды судились по своим степным обычаям и законам, причем последний хан Джангир издал, так называемый «Шариат», – свод постановлений по судопроизводству и статей о наказаниях. Имущественная ответственность – «Кун» – в их уголовном кодексе также была на первом месте. Однако, более важные дела, соответствующие уложению о наказаниях, передавались чиновникам Уральского казачьего войска и затем вносились в суд Оренбургской пограничной комиссии. В 1846 г. со смертью хана Джангира его заменил Временный совет, к которому и перешли все права и обязанности ханов, звание которых было упразднено лишь в 1848 г. С 1838 г. Внутренняя Киргизская орда поступила в ведение министерства государственных имуществ. А в 1862 г. была перечислена под управление Министерства внутренних дел. Иных перемен до 1917 г. в управлении ордой практически не было, если не считать, что в 1849 г. существовало предложение приравнять казахов Внутренней орды к казенным крестьянам; в 1875 г. образовать из степи три уезда: Нарынский, Камыш-Самарский и Никольский с упразднением Временного Совета и введением судебной реформы на началах положения об управлении в степных областях по казахским народным обычаям; и наконец, в 1881 г. вопрос о переустройстве Внутренней орды рассматривался в подлежащем министерстве, но одобрен не был11.
Никаких кардинальных перемен за вторую половину XIX в. в Киргизской Внутренней орде не последовало, и Временный совет более полувека считался временным учреждением. В то время как общие законы империи подверглись переменам, специальные правила для Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орды лишь в некоторых частях согласовывались с новыми законоположениями путем кодификации министерских циркуляров и распоряжений местных начальств. Но, как отмечается, «отозваться неблагоприятно на жизни “инородцев” это не могло»12. Поэтому вместе с распространением на Астраханскую губернию закона 12 июля 1889 г., в 1894 г. начались подготовительные работы по проекту преобразования Киргизской Внутренней орды и Калмыцкой степи. В 1895 г. астраханское губернское присутствие представило в министерство внутренних дел проект об административном и судебном реформировании Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орды, с образованием из них пяти уездов и с распространением на них закона о земских участковых начальниках от 12 июля 1889 г. В самой Астраханской губернии в октябре 1894 г. соединенная палата гражданского и уголовного суда была упразднена и заменена окружным судом, сначала без участия присяжных заседателей, а затем с 1 июля 1897 г. был введен и суд присяжных. В 1894 г. в уездах было введено положение о земских начальниках, вскоре же предстояло и введение земства13.
Предполагалось калмыков и казахов Астраханской губернии причислить к казачьему войску, или передать в ведение Министерства внутренних дел, тем более, что министр земледелия и государственных имуществ в том же 1894 г. нашел управление калмыцким народом неудобным и не соответствующим целям и задачам министерства. В начале 1895 г. проект сформулирован был в такой форме: образовать из степей 5 новых уездов, ввести Положение о сельском состоянии и Закон 12 июля с некоторыми изменениями, вызываемом кочевым образом жизни населения14.
Законом от 9 июня 1912 г. «О распространении действия Положения о земских учреждениях на Астраханскую губернию» с 1 января 1913 г. в губернии вводилось земство, за исключением земель, отведенных в пользование кочевым инородцам, а также расположенных в пределах этой губернии земель казачьего войска15.
Так отмечается, что приступая к разработке реформы, Министерство внутренних дел не могло не заметить, что калмыки,
«по образу жизни и своему состоянию, ничем не отличаются от остальных инородцев, входящих в состав населения Империи, почему считало целесообразным в вопросе о реформе управления калмыков Астраханской губернии и в судебном их устройстве держаться тех начал, кои применяются к прочим инородцам и в частности к соседям, их по губернии – киргизам Внутренней Орды»16.
В 1913 г. был разработан проект Временного положения об управлении и судебном устройстве Алексеевского и Павловского уездов Астраханской губернии, в котором устанавливалось, что Алексеевский и Павловский уезды, в порядке управления, подчиняются Астраханскому губернатору и соответствующим губернским учреждениям по принадлежности. Уездное управление составляли: 1) Уездный начальник; 2) Помощники его по административной и полицейской частям; 3) Уездный съезд; 4) Земские начальники и 5) Становые приставы17. Глава 8 «Управление инородческого населения», согласно которой общественное управление оседлого и кочевого населения устанавливалось по правилам, изложенным в Общем положении о Крестьянах, с изменениями и дополнениями для кочевого населения, установленными в указанном Временном положении. Утверждалось, что «кочевые киргизы и калмыки по делам хозяйственным и земельным составляют сельские (аульные и хотонные) общества. Означенные общества для ближайшего управления соединяются в волости»18. Об устройстве судебной части было сказано, что «судебные установления в Алексеевском и Павловском уездах Астраханской губернии образуются на основании судебных уставов Императора Александра II» с изменениями и дополнениями, установленными во Временном положении19.
Одним из завершающих шагов российского правительства по реформированию устройства Калмыцкой степи и Внутренней Киргизской орды стала попытка введения земства на указанных территориях. Согласно Постановлению Временного Правительства «О введении земских учреждений в Калмыцкой степи и в Киргизской Внутренней Орде, Астраханской губернии» от 1 июля 1917 г., в местностях, занятых в Астраханской губернии кочующими калмыками и киргизами Внутренней Орды, вводилось действие Положение о губернских и уездных земских учреждениях, а равно утвержденное Временным Правительством 21 Мая 1917 года Временное Положение о волостном земском управлении20.
Управлениям означенных земель присваивались наименования Калмыцкого Степного и Киргизского Внутреннего Ордынского Земских Управлений. Местопребыванием данных управлений утверждались: в Калмыцкой степи – поселение Элиста, а в Киргизской Внутренней Орде – поселение Ханская Ставка. Улусы в Калмыцкой Степи и части Внутренней Орды, в отношении дел местного управления и общественного хозяйства, приравнивались к отдельным уездам. Указанным управлениям в Калмыцкой Степи присваивалось наименование улусных, а во Внутренней Орде – участковых. Местопребыванием данных управлений назначались поселения, в которых находились улусные участковые управления21.
В отношении приведения в действие названного постановления устанавливалось: распоряжения по приведению в действие указанного постановления в Калмыцкой Степи и во Внутренней Орде возлагались на комиссаров и на Астраханский Калмыцкий и Киргизский Ордынский исполнительные комитеты, по принадлежности. Указанные в статье 1-й действия в улусах и частях возлагались на улусные и участковые исполнительные комитеты или соответствующие им организации. Ближайший порядок действий указанных комитетов, а равно прочие меры по приведению в действие названного постановления должны были определяться наказом министра внутренних дел. Расходы местных учреждений по приведению в действие указанного постановления были отнесены на доходы общественного Калмыцкого капитала Астраханской губернии и капитала Внутренней Киргизской Орды, по принадлежности, а при недостатке таковых доходов – на заимствования за счет этих капиталов22.
В Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орде вводилось в действие, утвержденное Временным Правительством 30 Мая 1917 г. Положение о судах по административным делам, и были отнесены дела, подведомственные окружному суду (по административному отделению) к ведению Астраханского окружного суда. В дополнение к действующим штатам судебных установлений с 1 июля 1917 г. учреждалось по одной новой должности административного судьи в Калмыцкой Степи и во Внутренней Киргизской Орде и две должности секретаря при административном судье23.
Таким образом, правительственные проекты реформирования Калмыцкой степи и Киргизской Внутренней орде начала XX в. планировали постепенное приближение уровня управления в них к общероссийскому уровню, проекты отдельного уездного управления в составе Астраханской губернии и попытка введения земства в 1917 г. признавали этнотерриториальные особенности данных территорий.
Анализ историографии истории административного управления по Калмыцкой степи показал, что большинство исследователей рассматривают модели административного управления как этапы развития системы управления. В основном применяются такие определения для моделей административного управления: «полити- ческая автономия», «административная автономия», «интеграция с губернской административно-территориальной единицей на правах ее особой структуры»24. Исключением является, пожалуй, работа И.К. Очир-Гаряевой «Региональное управление в России: историко-правовой анализ», в которой автор рассматривает наместничество, приставство и попечительство как общественно-политические и социальные институты25.
На взгляд автора, названные институты можно рассматривать и как модели управления в Калмыцкой степи, которые имели разную природу объекта: наместничество – институт главы народа; при-ставство – поначалу больше надзор за знатью, но затем и за всем населением Калмыцкой степи; попечительство – полноценная опека со стороны государства, выстроенная в определенную систему. При этом указанные модели соответствуют этапам истории системы управления.
В начале XIX в. при Павле I была осуществлена попытка воссоединения всех калмыцких улусов под руководством назначаемого наместника, однако после смерти наместника Чучея Тундутова в 1803 г. эта идея не реализовалась. В 1825, 1834 и 1847 гг. принимались различные правила и положения об управлении калмыцким народом, которые де-факто передавали контроль над Калмыцкой степью сначала приставам, а затем попечителям. Система попечительства, внедренная в 1847 г. как временная мера, просуществовала в Калмыцкой степи вплоть до 1917 г. При этом следует помнить, что должность Главного пристава калмыцкого народа была учреждена в 1802 г., то есть еще в период наместничества.
Однако наместничество Ч. Тундутова, ввиду слабой проработанности этой структуры управления и кратковременностью существования, можно исключить из этих этапов. Поэтому применительно к XIX столетию мы можем говорить о существовании двух этапов формирования системы управления в Калмыцкой степи: приставства и попечительства. Следует учитывать, что приставство в Калмыцкой в течение десятилетий эволюционировало и к концу своего существования мало чем отличалось от сменившего его попечительства. То есть с точки зрения анализа модели управления можно говорить о том, что фактически она была одна, но подвергалась эволюционной трансформации с учетом обстановки на местах, внутренних и внешних условий.
Если говорить о Киргизской Внутренней орде, то и здесь мы видим эти три института (модели): наместничество, приставство и попечительство. Однако условия их функционирования и этапы развития были несколько иными. Мы согласны с мнением Ж.А. Ер-мекбая, что Джангир-хан, несмотря на ханскую титулатуру, являлся фактически наместником российского императора, реализовавшим в жизнь политику царской администрации26. Представляется, что в целом институт ханской власти в Киргизской Внутренней орде можно условно считать наместничеством, начиная с 1812 г. (когда султан Букей был утвержден ханом) и до 1845 г. (когда скончался Джан-гир-хан). Однако параллельно с этим неофициально функционировала система приставства, фактически введенная в Киргизской Внутренней орде с начала появления в Астраханской губернии (1801 г.). Почему данная модель характеризуется как неофициальная? Дело в том, что, например, в отличие от Малой орды, где данный пост был введен официально27, была попытка ввести должность пристава во Внутренней орде, однако в последствии было признано отсутствие в этом необходимости28. Д.В. Васильев отмечает, что оренбургская администрация в данном случае «…не смогла реализовать калмыцкую модель местного управления кочевниками»29.
В то же время, по нашему мнению, данный институт существовал де-факто. На наш взгляд, функции приставов осуществляли командиры (войсковые атаманы) Астраханского казачьего войска, в частности П.С. Попов и В.Ф. Скворцов30. Д.В. Васильев отмечает, что генерал-майор П.С. Попов состоял при хане Бокее (Букее – Е.Г. ) «в качестве представителя российской администрации»31. Далее, в представлении султана Шигая оренбургскому военному губернатору П.К. Эссену от 20 апреля 1819 г. о несогласии с назначением в Букеевскую орду постоянного пристава сказано следующее: «Во внимании к сим справедливым обстоятельствам, я осмеливаюсь ходатайствовать об оставлении подвластного мне народа, меня даже самого, под непосредственное влияние г. Скворцова, как уже в расположении, благомыслии и даже самом бескорыстии через столько лет совершенно испытанного. Влияние коего, по связи Астраханского кордона по связи с кочеванием подвластных мне киргизцев, и необходимо, и полезно»32.
В 1828 г., после ревизии сенатора Энгеля, российские власти учреждают при хане Джангере особую должность чиновника со званием попечителя Внутренней Киргизской орды, «для защиты интересов посторонних лиц в суде ордынском и для защиты интересов киргизов в судах русских33, «…и вообще наблюдать за спокойствием и благоустройством всей Орды»34. Выбор указанного чиновника, его определение и увольнение было поручено Министерству иностранных дел, в ведении которого находились казахи. Как отмечает Д.В. Васильев, «введение должности попечителя вызвало резко негативную реакцию среди казахских старшин»35. И данное решение было отложено на некоторое время. Но все-таки во Внутреннюю орду оренбургским военным губернатором ежегодно на несколько меся- цев командировался чиновник «для наблюдения за безопасностью казахов и справедливостью их менового торга»36.
Система попечительства была введена в 1838 г., когда Внутренняя Киргизская орда была передана в ведение Министерства государственных имуществ, а затем с 1862 г. Министерства внутренних дел и существовала (как и в Калмыцкой степи) до 1917 г. Отношение казахов к институту попечителей было различным, зачастую в этой власти они видели ограничение собственных прав37. Д. В. Васильев считает, что «во Внутренней орде утвердилась система, основанная на комбинировании местных традиций и бюрократических реалий империи»38. Хотя Внутренняя орда с принятием Положения 1844 г. об управлении Оренбургскими киргизами осталась в зависимости от Оренбургской пограничной комиссии, все же с 1838 г. она находилась в ведении Министерства государственных имуществ, тогда как казахи Малой орды в ведении Министерства иностранных дел. Отличительной чертой управления Внутренней ордой являлось сосредоточение административной и полицейской власти на уровне назначавшихся ханом родоправителей и старшин39. Как отмечал С. З. Зиманов, «Во Внутренней орде каждый род делился на старшинства, которые совпадали с отделениями и подотделениями рода. Во главе старшинств стояли старшины, которые так именовались независимо от того, какие они имели звания (кроме султанов)»40.
Таким образом, система, основанная на учете родовой структуры общества, сохранялась на протяжении XIX в. и начала XX в. То же самое можно сказать и о системе (модели) управления в Калмыцкой степи и в целом в отношении коренных народов восточных окраин России. Исследователи именуют данную систему улусной или монгольской, золотоордынской41.
В XIX в. Калмыцкая степь и Киргизская Внутренняя орда развивались разными путями как этнополитические образования на юго-востоке Российской империи. Калмыки, известные ранее как ойраты прикочевали в Россию в начале XVII в., однако только в XIX в. стали постепенно интегрироваться в общероссийское пространство, сохраняя во многом прежний быт и порядки. Калмыцкая степь Астраханской губернии являлась основным ядром расселения калмыков в составе Российской империи, поэтому административные реформы, проводимые здесь, можно назвать главной линией имперской политики в отношении данного народа. Обращает на себя внимание более детальное регламентирование основных сторон жизни и быта калмыков нормативными документами Российской империи. В XIX в. это правила 1825 г., положения об управлении калмыцким народом 1834 и 1847 гг. В конце XIX в. важным актом, затронувшим основную массу населения, стала реформа 1892 г., отменившая обязательные отношения между правящим и зависимым сословиями калмыцкого общества, по сути крепостничества.
Киргизская Внутренняя орда только образовалась в начале XIX в., когда султан Букей прикочевал с подвластным населением в междуречье Волги и Урала. Было образовано Букеевское ханство, во второй половине XIX в., со смертью сына Букея хана Джангира, оно ликвидируется, и власть в орде начинает принадлежать Временному совету, во главе которого находился русский чиновник. Особенностями управления Киргизской Внутренней орды являлась двойственность административного подчинения оренбургским и астраханским властям до 1876 г. Модернизационные процессы в орде в первой половине века проводились под российским влиянием ханами Букеевской орды – Букеем и особенно его сыном Джангиром. Однако самовластие ханов имело и негативные стороны в виде чрезмерного роста налогов, обезземеливания беднейшей части населения. Крепостничества, закрепленного законодательно российскими актами в орде, как и во всей Казахской степи, не было, но это не отменяло определенные повинности между правящим и зависимым сословиями, характерными для феодального общества.
В целом к концу XIX в., и особенно в начале XX в., в отношении обоих этнополитических образований российскими властями стали разрабатываться проекты по модернизации управления и интенсификации интеграции обоих народов в общеправовую и экономическую систему государства. Постепенно эти проекты объединяли в плане модернизации управления указанные территории Астраханской губернии, что свидетельствовало о примерно одинаковом достигнутом уровне социально-экономического развития и предпосылок к их реформированию.
В отношении указанных этнополитических образований прослеживаются три модели управления: наместничество, приставство и попечительство. У астраханских калмыков эти модели сменяются одна за другой, у казахов Внутренней орды они в первой половине XIX в. применялись наряду одна с другой, как бы формируясь одновременно. Фактически это была одна модель попечительства, которая реализовывалась сначала путем назначения наместника или пристава, затем полностью переходила в ведение Министерства государственных имуществ, затем внутренних дел с соответствующей структурой управления. На низовом и среднем уровне управления применялась улусная (золотоордынская, монгольская) система управления, учитывавшая родоплеменную структуру кочевых обществ. Только в начале XX в. начался переход к общероссийской модели управления, подразумевающее введение земства, который так и не был завершен.