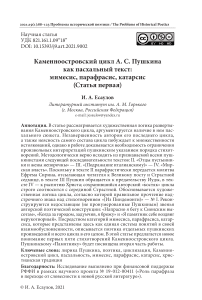Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (статья первая)
Автор: Есаулов Иван Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается художественная логика развертывания Каменноостровского цикла, аргументируется наличие в нем пасхального сюжета. Незавершенность автором его последнего цикла, а также неясность самого состава цикла побуждает к множественности истолкований, однако в работе доказывается необходимость ограничения произвольных интерпретаций пушкинским указанием порядка стихотворений. Методологически верно исходить из признаваемой всеми пушкинистами следующей последовательности текстов: II. «Отцы пустынники и жены непорочны» - III. «(Подражание италианскому)» - IV. «Мирская власть». Поскольку в тексте II парафрастически передается молитва Ефрема Сирина, отсылающая читателя к Великому посту и Страстной седмице, в тексте III Пушкин обращается к предательству Иуды, в тексте IV - к распятию Христа; сохранившийся авторский «костяк» цикла строго соотносится с серединой Страстной. Обосновывается художественная логика цикла, согласно которой правильное прочтение надстрочного знака над стихотворением «(Из Пиндемонти)» - № I. Реконструируются недостающие (не пронумерованные Пушкиным) звенья авторской поэтической конструкции: «Напрасно я бегу к Сионским высотам», «Когда за городом, задумчив, я брожу» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Посредством категорий мимесиса, парафрасиса, катарсиса, которые представлены здесь как единая система понятий в своей взаимообусловленности, описывается поэтика отдельных пушкинских произведений и всего цикла в его целом. В этой статье предлагается новое понимание первых пяти стихотворений Каменноостровского цикла. Пушкинскому «Памятнику» будет посвящена вторая часть работы.
Лирика пушкина, поэтика, циклизация, каменноостровский цикл, пасхальность, мимесис, парафрасис, катарсис, христианская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147227244
IDR: 147227244 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9002
Текст научной статьи Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (статья первая)
Мимесис Страстной седмицы в парафрасисе Пушкина
Памяти Татьяны Георгиевны Мальчуковой
П редметом специального научного изучения стихотворения А. С. Пушкина, написанные на даче петербургского
Каменного острова летом 1836 г., стали начиная с находки Н. В. Измайловым автографа стихотворения «Мирская власть» и публикации им в 1954 г. об этом отдельной статьи [Измайлов]. Основываясь на пушкинских пометах римскими цифрами II, III, IV, VI над несколькими стихотворениями (в последнем случае имеется разночтение, о котором — ниже), Измайлов впервые в пушкинистике назвал каменноостровские произведения лирическим циклом. К настоящему времени имеется уже достаточно обширная исследовательская литература, посвященная выяснению семантики цикла, в которой особо можно выделить работы В. П. Старка [Старк], С. А. Фомичева [Фомичев], И. З. Сурат [Сурат: 150–158], С. Давыдова [Давыдов, 1992–1993, 1994]. Однако приходится согласиться с тем, что последний цикл Пушкина и теперь «составляет <…> одну из актуальных проблем пушкинистики, о нем много пишут, но все еще неясны его состав, композиция, а значит и самый смысл — и таким образом завещание поэта остается пока непрочитанным» [Сурат: 150]. В настоящей статье предлагается наше «прочтение» этого «завещания» при актуализации тех фундаментальных категорий гуманитарной науки, которые вынесены в заглавие работы.
При всех разногласиях в определении «места» каждого стихотворения цикла (и самого его состава), бесспорна следующая последовательность текстов: II. «Отцы пустынники и жены непорочны» — III. «(Подражание италианскому)» — IV. «Мирская власть». Что же касается последнего пронумерованного Пушкиным текста («Из Пиндемонти»), то сам Измайлов, а также большинство исследователей прочитывали римскую цифру в автографе как VI, тогда как Фомичев (впервые), а затем и некоторые другие, тот же графический знак истолковали как № I. Поэтому предлагаемая Измайловым и поддержанная Старком последовательность стихотворений была одной, а Фомичевым — другой.
Не входя пока в обсуждение сложного вопроса о более (или менее) убедительном порядке следования, конечно, имеющем весьма существенное значение для истолкования смысла любого цикла (будь он лирический или прозаический), подчеркнем то, что помимо римской нумерации имеется другой важный источник циклизации (и истолкования того или иного принципа циклизации): это наличествующее в большинстве автографов указание на дату и место написания стихотворений (лето 1836 г., Каменный остров под Петербургом). Хотя и в данном случае также есть известные сложности, связанные с различными вариантами распознавания пушкинского почерка, а, значит, и последовательности их создания.
Как бы мы ни старались «реконструировать» авторский замысел, важнейшим историко-литературным фактом является не только нумерация стихотворений, но и незавершенность Пушкиным этого цикла, предоставляющая нам возможность собственной интерпретацией угадать тот или иной путь его завершения (или, сформулирую иначе, приглашающая как литературоведов, так и читателей [Битов: 281–315], к своего рода сотворчеству).
При этом сама незавершенность (как и неполная ясность с составом цикла, а не только с последовательностью текстов) может оцениваться как досадная «помеха» для исследователей, но в этом можно усмотреть и позитивный момент: как бы дополнительную легитимацию самим «материалом» различных его истолкований. В сущности, конечно, любые интерпретации, даже законченных циклов, как и отдельных художественных произведений, никогда не являются только лишь «приближением» к авторскому «замыслу» (или «интенции»), но более-менее включают догадки и предположения исследователей на основе текста в коннотативный «объем» произведения, в данном же случае мы имеем лишь более острый вариант: истолковывая «предмет» исследования, одновременно совершенно «легально», благодаря незавершенности и не полной ясности с последовательностью и составом цикла, конструируем и этот самый «предмет».
Логичнее поэтому начать рассмотрение с середины цикла (II–III–IV), которая не только бесспорно является его неотъемлемой (авторской) частью, но и располагается в последовательности, исключающей вариативные толкования. Более-менее общепризнанным является убеждение в явной соотнесенности этой последовательности с последовательностью евангельских событий, воспоминаемых на Страстной седмице — в Великие среду, четверг и пятницу. И в самом деле, стихотворение под номером II («Отцы пустынники и жены непорочны»), парафрастически передающее молитву Ефрема Сирина, отсылает как к Великому посту, непосредственно упоминаемому в тексте, так и к Страстной, в стихотворении III («Подражание италианскому») Пушкин обращается к предательству Иуды, в стихотворении IV («Мирская власть») — к распятию Христа. Таким образом, сохранившийся авторский «костяк» цикла строго соотносится с серединой этой Страстной седмицы. Пушкинисты иногда рассуждают о «неизвестных» (возможно, исчезнувших, но, что также вероятно, и не обозначенных отдельными цифрами) стихотворениях, которые бы соответствовали положению I и V. Но, как было указано выше, и VI cтихотворение, возможно, следует читать как № I. Кроме этого, на чем базируется предположение, что цикл состоит именно из шести (или же из четырех стихотворений)? Почему не предположить, что стихотворений может быть (или даже должно быть) и больше (например, семь)?
Ведь цикл, по всей вероятности, переводя на чисто филологический язык то «соответствие», о котором шла речь выше, является своего рода мимесисом по отношению к богослужению Страстной седмицы, но он вовсе не иллюстрирует эту службу (как «Молитва» Пушкина вовсе не обязана буквалистски соответствовать молитве Ефрема Сирина), а поэтически воспроизводит ее. Иначе говоря, основываясь на этом подсказанном нам автором «каркасе» последовательности, а также следуя самому духу Страстной седмицы, далее мы свободны в наших интерпретациях, в нашем читательском сотворчестве (отнюдь не упуская главное: сам вектор пути от Смерти к Воскресению, к пасхальной победе над Смертью).
Авторская последовательность срединной части цикла направляет и те особенности рецепции, которые С. Давыдов не вполне точно определил следующим образом: «Ни одно из них не является подлинным пушкинским произведением; они полностью или частично основаны на чужом тексте нерусского происхождения» [Давыдов, 1994: 103]. Дело в том, что в этих текстах «нерусского происхождения» встречаются две различные культурные традиции1 (а не гомогенный «чужой текст»), парафрасисом которых и является пушкинский цикл: православной, церковно-славянской и западноевропейской, итальянско-французской, католической. Если же расширить характеристику Давыдова на весь цикл в его целом, то можно говорить и о восхождении этих двух планов к «греческому» и «римскому». Ту и другую традицию Пушкин не только «использует» для создания цикла, но они, собственно, и являются циклообразующими, обеспечивая автору то соединение родного и вселенского, которое особо выделил Достоевский в своей Пушкинской речи.
Следует сразу же подчеркнуть и другое: исследовательские «прочтения» (те или иные), памятуя об особенностях незавершенного самим автором и не подготовленного к печати его последнего цикла, если эти интерпретации так или иначе учитывают указанный вектор пути (как-никак, авторское расположение стихотворений ограничивает безбрежную свободу истолкований), вовсе не обязательно разделять на «правильные» и «неправильные», либо «убедительные» и «неубедительные»; они, при резкой несхожести, могут, тем не менее, входить в спектр адекватных интерпретаций [Есаулов, 1995]: в конце концов, и христоцентризм русской литературы хотя и предполагает устремленность ко Христу, но траектории путей могут быть самыми разными, никак не нивелирующими неповторимую личностность человека. Более того, названная выше особенность пушкинского цикла в данном случае как раз является, с нашей точки зрения, позитивным фактором, создающим особый эффект, — объемность видения, которая резко усиливает ту «неисчерпаемость» внутреннего поэтического мира, которой и без того отличается каждый подлинный поэтический шедевр.
Мы уже использовали ранее два из трех терминов, заявленных в заглавии этой статьи. Обратимся к третьему и разъясним необходимость подзаголовка. Следует при этом напомнить, что терминология современного литературоведения восходит еще к эпохе античности. При этом с течением времени происходит значительная трансформация исходных смыслов древнегреческих слов, достаточно вспомнить хотя бы теорию метафоры. Такого рода расширение объема понятий является неотъемлемой частью истории филологической науки. Как относиться к подобному расширению? Есть два различных, даже противоположных, способа. По необходимости кратко обозначим каждый их них.
Первый. Можно попытаться по возможности вернуть исходный смысл понятий, борясь с историческим «искажением», как это пытался делать А. Ф. Лосев. Второй же вариант использования античного наследия состоит в том, чтобы принять историческую трансформацию как раскрытие тех смыслов, которые в исходных терминах имелись только как потенциальная возможность развертывания. Это практика М. М. Бахтина.
Однако имеется и третий путь для исследователя. Он состоит в актуализации «более высокого смысла» греческой по происхождению терминологии, такого смысла, который был еще недоступным для самой античной культуры, но проявился в культуре иного типа — христианской .
Если два первых термина, вынесенных в заглавие (катарсис и мимесис), являются самоочевидно универсальными, своего рода базовыми для любого человека, обращающегося к поэтике, то термин парафрасис (парафраз, парафраза) как будто явно более локальный. Может показаться, что по объему он совершенно несопоставим с двумя другими и вряд ли может претендовать на универсальность. Но так ли это?
Прямое значение терминов: подражание (для мимесиса), очищение (для катарсиса), перевод (для парафрасиса). То семантическое расширение, которое наблюдается в истории филологии в первых двух случаях (мимесис, катарсис), мы предлагаем реализовать и по отношению к парафрасису.
Попытаемся в предельно сжатом виде представить систематизацию нашей триады. Парафрасис — это мимесис по отношению к предмету подражания с целью достижения катарсиса у читателя. Мимесис — это парафрастическое изображение предмета художества, при котором возникает катарсис. Катарсис же — это особое состояние читателя, когда он воспринимает парафрастический текст как воплощение авторского мимесиса.
Иными словами, если мимесис — это сама писательская деятельность, которая относится к сфере автора, а парафра-сис — результат писательской деятельности, ее текстуальный продукт, то катарсис — итог рецепции, относящийся уже к сфере читателя .
Если от предложенной общей терминологической системы перейти к собственно русской словесности — ее письменного периода, то, по-видимому, можно говорить о парафрастич-ности русской культуры вследствие усвоения ею «греческой» (православной) веры. Этот парафрасис был осложнен, но не отменен в Новое время сначала восточноевропейским (преимущественно польским), а затем и западноевропейским воздействием [Есаулов, 2019].
После этого терминологического экскурса, необходимого нам в дальнейшем изложении, вернемся к пушкинскому циклу: на этом материале мы и намереваемся показать перспективность для русской филологии заявленного выше третьего пути использования «старой» терминологической системы.
Следуя определенной научной традиции истолкования, используя аргументацию ряда пушкинистов (она будет по мере необходимости излагаться далее), а также учитывая те обстоятельства, которые подчеркивались выше, мы предлагаем следующую последовательность Каменноостровского цикла Пушкина, состоящего, как нам представляется, из 6+1 текстов: 1. «(Из Пиндемонти)» (+ «Напрасно я бегу к Сионским высотам»);
2. «Отцы пустынники и жены непорочны»; 3. «(Подражание италианскому)»; 4. «Мирская власть»; 5. «Когда за городом, задумчив, я брожу»; 6. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Однако же заметим сразу: определение «места» в цикле 5 и 6 текстов входит в продуктивную «зону неопределенности» и зависит от той или иной исследовательской интерпретации целого.
***
Первое стихотворение цикла («№ I»2) представляет собой — в первой своей части — декларативное и воинствующе провозглашаемое автором отталкивание от утопических надежд на правовое «законничество». Тройное «не», с которого начинается этот текст, —
«Не дорого цѣню я громкiя права, Отъ коихъ не одна кружится голова. Я не ропщу о томъ, что отказали боги Мнѣ въ сладкой участи оспоривать налоги…»3, согласуясь с последующим усилительным — также тройным — «ни» («ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи») в этом стихотворении, словно рифмуется с финальным тройным «не» пушкинского «Памятника» (одно из формальных «доказательств» того, что этот текст призван был завершать цикл: начало и конец цикла-круга сомкнулись):
«Обиды не страшась, не требуя вѣнца, Хвалу и клевету прiемли равнодушно И не оспоривай глупца» (215).
Особого рода финальное бесстрастное равнодушие («прiемли равнодушно»), которым заканчивается цикл, явно согласуется с начальным «Не все ли намъ равно?» (213) (которое, впрочем, тоже ведь можно счесть по-своему итоговым: оно завершает первую часть первого стихотворения). Важно отметить, что в том и другом случае поэт апеллирует не к «я» (начиная как раз именно с «я» в первых строках текста), но выходит за пределы этого «я»: обращением к «мы» (в начальном стихотворении цикла) или к «ты» (Музе). Однако еще более важно, что в том и другом случае альтернативой посюстороннему земному тщеславию становится небесный ориентир. По-видимому, в этой же перспективе значим и переход от нейтрального голова во второй строке первого стихотворения к торжественному глава («главою») в третьей строке последнего.
Недолжные «громкiя права» можно понять как частный случай того осуждаемого христианской традицией пустословия (или празднословия ), к которому отсылает пушкинское цитирование «Гамлета» («слова, слова, слова»4) и которое — в контексте всего Каменноостровского цикла как целого — противопоставлено тому единому и единственному Слову, которое есть Бог5, как кружение , проступающее во второй строке начального стихотворения ( «отъ коихъ не одна кружится голова» (212) ) , заставляющее вспомнить бесовские потехи — «въ полѣ бѣсъ насъ водитъ, видно, / Да кружитъ по сторонамъ» (130)6, противоположно иному — прямому — пути к «Сiонскимъ высотамъ» (эта цель становится ясной по мере развертывания цикла). Да и упомянутая уже выше оппозиция голова / глава имеет явно оценочный характер, сопровождаемая кружением в первом случае и вознесением во втором. По-видимому, и финальные «хвалу и клевету» также вполне возможно понять как такие же «слова, слова, слова», которые истинному поэту надлежит ценить «не дорого». Ведь хрестоматийно знаменитое «не оспоривай глупца», несколько странно, как может показаться, завершающее одический «Памятник», если мы его будем рассматривать опять-таки в контексте всего цикла, имеет единственное полное семантическое соответствие только со строкой — «оспоривать налоги».
Ироническое «отказали боги» самым очевидным образом контрастирует с упоминанием Бога истинного: при этом мудрое «Богъ съ ними»7, представляя собой переход ко второй части стихотворения, одновременно уже готовит читателя к тому, чтобы от возможного осуждения чужой греховности обратиться к своей собственной (как в стихотворении «Напрасно я бегу», набросок которого расположен именно в черновой копии «Из Пиндемонти», так и в последующем тексте цикла: ср. «Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья» (213)). В целом же переход от земной суеты к «Божественнымъ природы красотамъ» невозможен без оставления «олухам» (ср. уже упомянутого «глупца» из «Памятника») их упражнений в празднословии (парламентских ли, журнальных ли)8. Немаловажно, что гипотетическое участие (сладкая участь) в законнически-правовом регулировании жизни у Пушкина передается через негативно-законническое же стеснение, о-граничение, наложение ограничительных рамок на других (а не свободное собственное творчество): отсюда и глаголы «мешать», «оспоривать», подчеркивающие сомнительность для автора этой законнической «сладкой участи». Это сфера недолжного земного («мiрского»), не имеющего отношения к духовному (разве только как его антитеза), ложная самость, самоутверждение (ср. оппозицию Закона и Благодати у митрополита Илариона).
Поэтому текстологически неоправданным представляется предпочтение в современных изданиях зачеркнутого Пушкиным слова Царя в строке «Зависѣть отъ Царя властей, зависѣть отъ народа» (212)9: прав В. А. Грехнев, по ходу своей интерпретации «восстановивший», так сказать, исходный пушкинский вариант этой строки: «Зависимость “от властей” и зависимость “от народа” в стихотворении <…> уравниваются». К сожалению, продолжение этой фразы: «…и современный мир в итоге предстает как царство тотальной и безысходной зависимости» [Грехнев: 411] — редуцирует пушкинский вселенский охват: не «современный мир», а мир (мiръ) как таковой (с его любыми «властями» и, увы, любым же «народом»), да и нет у Пушкина никакой охоты «бороться», так сказать, с этой «безысходной», как формулирует исследователь, зависимостью, ибо подобная борьба — на земле — вполне бесполезна и бессмысленна, поэтому и заканчивается этот семантический ряд «недолжного», где столь остраненно-равно-душно упомянуты права человека, свобода слова, независимость печати, цензурные притеснения, вполне примирительным «Богъ съ ними».
Вторая часть начального стихотворения вся построена на том, чтобы как-то словесно передать «иныя, лучшiя», отличные от законнических, «права» (это «права» сверхзаконные, другими словами, в русской духовной традиции — благодатные), как и «иную, лучшую», нежели правовая «свобода печати» для
«балагура» (который, заметим, «морочитъ олуховъ»-читателей), свободу. Инфернальное кружение в тексте сменяется душевным трепетанием . Не в законническом «правовом поле», связанном с теми или иными ограничениями, но в свободе христианской, когда человек (в первом стихотворении) не озабочен, не стеснен никакой земной локализацией, может быть реализована не правовая («свобода ихняя», как затем сказал старец Зосима Достоевского), а истинная свобода: «По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ » (213).
Именно на просторах вольного скитальничества, когда скиталец ( очарованный странник , как затем это сформулировал другой русский писатель) — зритель и восхищенный («трепеща радостно») созерцатель божественных красот и созданий «искусствъ и вдохновенья», которые, как совершенно понятно, боговдохновенные: эти создания потому и стоят в тексте рядом с божественными красотами, что истинный создатель того и другого отнюдь не Пиндемонти, но Бог. Если в первой части сопоставлены недолжные и должные права и свободы , то в последней строке звучит (единственный раз в цикле) слово счастье («Вотъ счастье!»). Восклицательное предложение подчеркивает значимость слова для самого автора. Конечно, в данном случае это земное счастье, которое оказывается все-таки возможно (в отличие от убеждения, высказанного автором в 1833 г.), хотя оно и здесь намечено отнюдь не как прозаическая реальность, но как мечта. Однако последняя ли эта свобода, достигнута ли цель странниче-ства10? На этот вопрос попытаемся ответить далее. В финале первого произведения цикла — катарсическое земное умиление ( «Трепеща радостно въ восторгахъ умиленья» (564) ) , предвосхищает для читателя катарсис уже иного, так сказать, порядка, которым — затем — и завершается Каменноостров-ский цикл как таковой.
***
Если в первом стихотворении цикла из всех частей тела человека упомянуты голова (которую сменит глава в завершающем цикл стихотворении) и шея (оба раза с отчетливыми негативными коннотациями), то во втором дважды упомянуто сердце — поэтическое движение от кружащейся головы к сердцу, разумеется, само по себе значимо — и единожды уста (здесь существенно употребление высокой церковно-славянской лексики, впервые в цикле). Таким образом, следуя намеченной нами последовательности текстов цикла, если сопоставить начало первого и второго стихотворений, то от кружения и шума сонмища празднословных витий читатель переходит к отцам пустынникам и женам непорочным, которые «сложили множество божественныхъ молитвъ». Если же продумать в целом направленность движения, то мы видим переход от любования божественными (созданными Богом) красотами и вдохновленными Им же «созданьями искусствъ» (первое стихотворение) к великопостной молитве Ефрема Сирина.
На том же самом листе, на котором расположен автограф стихотворения «Из Пиндемонти», Пушкин набросал несколько строк11 другого текста: «Напрасно я бѣгу къ Сiонскимъ высотамъ» (189). Этот текст одновременно и примыкает к № I цикла, и готовит переход к тексту II. Ведь речь идет о Граде небесном, очевидным образом противопоставленном земным страстям и мирским занятиям, от которых пытается уклониться, не «оспоривая» их, лирический герой первого стихотворения. Исследователи зачастую слишком буквалистски истолковывают первое слово этого наброска. Тогда как в нем передана не бесполезность намерения избавиться от греха12, а, так сказать, совершенно «нормальное» для любого христианина ощущение своей неизбывной греховности — отсюда и сокрушение сердечное.
«Грѣхъ алчный», который не только подстерегает как автора, так и любого читателя на пути к «Сiонскимъ высотамъ», но и буквально «гонится» за каждым «по пятамъ», важно еще опознать в своем: ведь II cтихотворение (молитва) именно об этом. Грех постоянно преследует человека, пока его жизнь не завершена, что подчеркивается самой формой глагола («бѣгу»). Персонификация греха, традиционно представленного львом (ср. «лев рыкающий»), позволяет в данном случае создать чрезвычайно выразительную картину, когда именно потому грех / лев и может настигнуть грешника / оленя, что последний как бы пропах грехом (отсюда «бѣгъ пахучiй»: так «запах» греха препятствует достижению Сиона (святости: Иерусалима небесного)). «Песокъ сыпучш», в который уткнул свои «ноздри» лев / грех, алчущий / голодный, ибо желает догнать как раз еще при жизни грешника / странника, дабы тот не успел достичь «Сiонскихъ высотъ» (спасения), не только одним штрихом живописует географическую реальность — окружение Иерусалима земного, т. е. пространственные его атрибуты, но и передает ощущение конечности человеческой жизни, поскольку сыпучий песок вызывает в памяти песочные часы. Прилагательное же голодный, относимое ко льву, затем в контексте Каменноостровского цикла укрепит свою прямую связь с алчным грехом, сублимируясь в церковнославянизме «геенна гладная». Итак, в пушкинском наброске убегающий «я» остро осознает самого себя грешником (и в данном случае мы видим уже не противопоставление недолжного, сковывающего личность правового ограничения свободы вольному скитальничеству, но контраст Сионских высот и грешного «я»). Эта острота переживания передается и экстатическим «бѣгу» (а, например, не более нейтральным «стремлюсь»).
Однако же, оказываясь в ряду церковнославянизмов, передающих особое покаянное настроение, а также попадая в зону воздействия парафрастической передачи богослужения Страстной седмицы, некоторые слова могут не только обогащаться неожиданными добавочными значениями, но и обретать иные смыслы13. Если в этой ретроспективе мы исследуем уходящие в корневые, донные глубины нашего языка, а одновременно возвышающие его над прозаической обыденностью обертоны, проявляющиеся, согласно М. Хайдеггеру, прежде всего в поэтической речи, то в слове «напрасно» обнаружим церковнославянское «внезапно, неожиданно»14. В таком случае пушкинский набросок может истолковываться кардинально иначе, чем при редуцированном, обрезанном истолковании слова «напрасно». Является ли эта интерпретация субъективистским произволом? Вряд ли: в процитированном выше источнике как на пример названного словоупотребления указывается Великий покаянный канон Андрея Критского, читаемый как раз в начале Великого Поста, а также на пятой его седмице, иными словами перед нами еще одна — и, кажется, до сих пор никем не замеченная — связь между этим наброском и, очевидно, следующим сразу же за ним в цикле пушкинским переложением молитвы Ефрема Сирина. В одном из тропарей, который начинается со слова «напрасно» («Напрасно восхи-щенныя, попаляемыя отъ молнiи»15), можно заметить и значение «быстро», вполне проясняющее пушкинское сравнение убегающего от греха грешника с бегом оленя.
***
Как уже подчеркивалось выше, «грѣхъ алчный» нужно еще опознать в себе: именно этому посвящено второе произведение цикла, в котором мы видим переход от любования божественными (сотворенными Богом) красотами и вдохновленными Им же «созданьями искусствъ» (первое стихотворение) к великопостной молитве Ефрема Сирина (213). Каков кругозор и каково окружение лирического героя? С одной стороны, недолжная мирская жизнь, с другой — духовный мир, ей явно контрастный. От кружения и шума сонмища празднословных витий вслед за автором читатель переходит к отцам пустынникам и женам непорочным, которые «сложили множество божественныхъ молитвъ» (213). И если в первом тексте цикла достаточно волевого императива для отречения от мирских соблазнов (обратим внимание на множественное число декларируемого должного: «красотамъ», «созданьями»; «здѣсь и тамъ» также говорит о разности путей вольного скиталь-ничества), то в тексте втором, согласно нумерации Пушкина, ему необходима особая духовная сосредоточенность. Ведь здесь речь идет не о переходе от множества мирских соблазнов к ряду божественных и человеческих «созданий», но от «множества молитвъ» к одной-единственной, покаянной.
Любопытно, что сами-то отцы пустынники и жены непорочны сложили «множество» молитв (и эта множественность роднит, разумеется, на другом уровне, их духовные пути с былой множественностью должных путей первого стихотворения), да и горний мир здесь передается множественным числом — «во области заочны». Может быть, в данном случае, эта множественность обусловлена тем, что предназначение молитв — не только вознесение над мирской повседневностью («чтобъ сердцемъ возлетать»), но и укрепление самого сердца «средь дольнихъ бурь и битвъ». Однако, по-видимому, эти битвы отнюдь не только и не столько со здешними (внешними) врагами, но и, как показывает вторая часть произведения, с духами злобы поднебесной (и вообще это стихотворение, помимо прочего, учит еще и необходимости различения духов, распознаванию разных типов духовности). В контексте же всего цикла мы видим в начале второго произведения переход от множественности путей земных («здѣсь и тамъ») к множественности путей небесных (или путей к небесному).
Следуя авторской интенции, сформулируем: падший здесь не кто-то другой, вместо меня (ясно, что ранее — в христианской перспективе, а также согласно логике цикла, — «падшие», то есть отпавшие от духовной жизни, — это те самые отчужденно и несколько насмешливо изображаемые словесные витии), а именно я сам. И только почувствовав себя падшим , которого настигает «грѣхъ алчный», духовно сосредоточившись на одной-единственной, повторяемой священником, молитве, я могу от катарсического умиления первого стихотворения перейти к другому умилению («Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ, / Какъ та…»): «чтобъ сердцемъ возлетать», подобно «отцамъ» и «женамъ», необходимо оживить в собственном сердце «духъ смиренiя, терпѣнiя, любви / И цѣломудрiя». Форма слова — о-живить (предполагающая некую мертвенность, о-мертвелость сердца падшего человека), уже имеет в себе пасхальное зерно, так как обращена к Богу («Владыко дней моихъ»), только Он может помочь увидеть мне мои собственные грехи.
Строка «Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣшенья» не случайно осложнена вторичным обращением к Богу: помимо прочего, пауза (вызываемая не только обращением, но и метрически цезурой в александрийском стихе) после слова мои (а не брата моего) акцентирует новое углубление в свою собственную греховность, без чего невозможно Воскресение. В сильной позиции, таким образом, производные от я: «дней моихъ» (десятая строка), «душѣ моей» (двенадцатая), «мои» (тринадцатая), «отъ меня» (четырнадцатая): речь идет не о гордом избранничестве, но о смиренном признании своей собственной греховности (ср. «прегрѣшенья»), падшести своей натуры (ср. «падшаго крѣпитъ»), дабы и я мог «сердцемъ возлетать во области заочны» (ср.: «въ сердце оживи»). «Духъ <…> цѣломудрiя», завершающий в ряду «смиренiя, терпѣнiя, любви» должный семантический ряд, восстанавливает целостность, единство моего я, отсюда, по-видимому, и обращение к единственной (из многих) молитве. До конца же рационально «объяснить» это воздействие человеку все-таки невозможно, да и нечего пытаться (отсюда и «невѣдомою силой»), нужно просто молиться. Можно обратить внимание и на то, что другие молитвы также, очевидно, приходят «на уста» герою (однако эта — «всѣхъ чаще»): как окажется, эта молитва необходима перед самым страшным стихотворением цикла — о недолжном посмертном воскресении.
***
Да, в «Подражании италианскому» показано не предательство Иуды, как это иногда полагают (о поцелуе Иуды, и то косвенно, упоминается лишь в последней строке), а также не его самоубийство, но воскрешение и его посмертная судьба. Падение (как гнилого «плода» бесплодной смоковницы: упоминание о «древе» можно истолковать и так) тела «предателя-ученика», который в буквальном смысле падший, словно предостерегает как самого автора, так и читателя от повторения этой же смертной и посмертной судьбы. Во всяком случае, намерение Иуды покончить счеты с жизнью в поэтическом космосе Пушкина (как и в христианской традиции, в том числе в итальянском «оригинале» пушкинского парафразиса) не может быть реализовано, этот «план» — «сорвался», не случайно это первый глагол (и единственный, относящийся к собственной «активности» героя стихотворения): вполне умереть своей волей, так «наказав» самого себя за предательство Христа, не получилось. Иуда не может уйти навсегда, навечно: предав Христа, он только лишь переходит, помимо своей воли, в иной мир, лишенный Спасителя и спасения, где этого героя (и одновременно «всемiрнаго врага») встречают, так сказать, аплодисментами ( «радуясь и плеща» (212) ) .
Вообще следует заметить, что этот текст — единственный в цикле — насыщен бурной радостью, веселием и хохотом, однако же «карнавальный» комплекс имеет здесь сугубо инфернальный характер. Наиболее шумные в этом мире — бесы, которые Иуду «прiяли съ хохотомъ», но и сатана здесь изображен «съ веселiемъ на ликѣ». То, что ни у Джанни, ни у Дешана не было смеха, а в пушкинском аду этот смех (хохот) не только появляется, но и становится доминантной его особенностью, заставляет вспомнить русское отношение к смеху (см.: [Аверинцев]). Не стоит удивляться подобной карнавализован-ной инфернальной радости сил зла: ведь, согласно литургическому времени, все происходящее соответствует уже не Страстному четвергу, а Страстной пятнице: времени смерти Христа.
Согласно С. Давыдову, «в сатанинском творении все вырождается в свою противоположность: поцелуй становится средством предательства, вознесение оборачивается низвержением, жизнь смертью, награда наказаньем, любовь ненавистью». Даже сами слова в этом пушкинском стихотворении «постоянно предают свое подлинное положительное значение», совершенно справедливо замечает исследователь [Давыдов, 1994: 108, 109]. Однако такого рода «применение слов положительной окраски в извращенном контексте» [Давыдов, 1994: 109] можно заметить (на что не обратил внимание цитируемый нами ученый) и в первом стихотворении цикла: ведь выродившиеся «слова, слова, слова», потерявшие память о своей глубинной связи со Словом, тем самым уже чреваты извращением подлинности, а в конечном итоге, утратой благодатного смысла, корневым отречением от Христа и, как следствие, обретением инфернальных коннотаций.
Также добавим от себя главное: в пасхальном цикле Пушкина (ведь и Великий Пост, и Страстная седмица не что иное, как паломничество к Пасхе) первым изображается (и чрезвычайно детализировано) не истинное, а ложное, обманное, «перевернутое» воскресение, которое на самом деле означает вечную погибель для падшего: то, что противоположно «Сiонскимъ высотамъ». Это структурно соответствует и логике цикла, начинающегося с отрицательного «не-».
С. Давыдов показал в цитируемой работе значение звукописи для поэтики пушкинского текста, особенно же анаграммы АД, что, так сказать, вполне «органично» для стихотворения об аде. Хотелось бы на этом «уровне» произведения продолжить его изыскания. Так, обращает на себя внимание самая длинная строка этого текста: «Дхнулъ жизнь въ него, взвился съ своей добычей смрадной» (212). В первом и последнем слове этой строки мы видим нагромождение согласных звуков — ДХН / СМР, в первом слове (которое задерживает на себе читательское внимание странной формой — единственной гласной в ряду четырех согласных), в последнем же слове шесть согласных и только две гласные. Такого рода особая насыщенность согласными как-то направляет читательское внимание и на другие аллитерации в этом тексте. Нет сомнений, что ключевой концепт текста — предательство, дважды эксплицированное (предатель, предательскую). Помимо анаграммы АД (ат) в этом слове имеются также начальные согласные ПРДТЛ (особенно же начальные ПР). Если мы попытаемся выделить этот звуковой комплекс во всем тексте, то выясняется любопытная картина.
Слова ученик, владыка, ночь (в которых практически отсутствует звуковой комплекс, отсылающий к предательству — ПРДТЛ), имеют вообще-то сугубо положительные коннотации ( в последнюю ночь в Гефсиманском саду Христос ( Владыка) окружен будущими апостолами ( учениками)). Они обретают зеркально противоположную семантику исключительно посредством добавлений — « предатель -ученикъ», « проклятому владыкѣ», « предательская ночь», в каждом из которых имеются обозначенные нами звуки, ассоциативно связанные с предательством (в среднем слове — ПРЛТ). Более того, в начальном слове названия фонетически присутствует уже тот же самый комплекс — ПДР, хотя звуки и располагаются в несколько другом порядке. Подобного рода изначальная связь семантики и звукописи присутствует например в комплексе СМР (смерть) в державинском «На СМеРть князя МещеРСкого» (cм.: [Есаулов, 2016]), так что пушкинское СМР (в слове «смрадной»), возможно, отсылает читателя к этой же семантике.
В таком случае звукопись, передающая возможное предательство со звуковым комплексом ПРДТЛ, в полном или же редуцированном виде, начинающаяся с первой же строки, охватывает и заглавие («ПоДРажанiе итаЛьянскому»), и завершение («Въ ПРеДаТеЛьскую ночь…»), она наличествует в строках второй («дiаволъ ПРилеТѣЛъ <…> ПРиникъ»), шестой («ПРiяЛи»), седьмой («ПРокЛяТому»), восьмой («ПРи-всТавъ»), девятой («ПРожегъ»). В десятой, последней, звуковой комплекс предательства представлен уже в полном, а не в редуцированном виде. Весь текст, таким образом, словно бы пропитан этим предательством.
Не нужно забывать, что воспоминание («не как Иуда») звучит на каждой православной литургии; напрашивающаяся в связи с этим аналогия не произвольна, ведь заканчивается текст не прожиганием уст предателя-ученика, а называнием (первым в цикле) Христа («…лобзавшiя Христа»). С. Давыдов в таком завершении видит «первичность высшей власти <…> Отступничество завершилось теодицией» [Давыдов, 1994: 111]. У нас лишь два — исключительно структурных — дополнения к этому соображению. Во-первых, учитывая положение этого текста в пушкинском цикле, последнее слово текста III является прямым переходом к тексту IV, единственному в цикле прямо обращенному ко Христу. Во-вторых, и это, возможно, главное: все-таки во время Страстной седмицы каждый христианин особо остро чувствует страх Божий (в данном случае этот страх и связан с посмертной судьбой Иуды, ведь целование креста может стать не только свидетельством верности, но и слишком легко — поцелуем Иуды).
***
В четвертом стихотворении цикла «Мiрская власть» («Когда великое свершалось торжество» (211)) сопоставлено суетное земное («мiрское») как таковое и небесное, поэтому постоянно приводимые исследователями «разъясняющие» свидетельства князя Вяземского о «страже» именно Казанского собора не приближают, а удаляют нас от понимания подлинного смысла этого текста. «Грозные часовые» отсылают к мiрской власти на земле (начиная с римских солдат, поставленных у Распятия, до сего дня), а в подтексте и к власти «князя мiра сего», того самого недолжного владыки из предыдущего текста цикла, которого теперь сменяет искупивший «родъ Адамовъ» Владыка подлинный — Царь царей. Само название стихотворения прямо отсылает не к частному эпизоду современного Пушкину миропорядка, локализованного каким-либо санкт-петербургским храмом (или даже пространством Российской империи), но изначально задает совершенно иную временную перспективу.
Предыдущее стихотворение начиналось не с «Когда», подобно этому, а с «Как»: отсутствие примет линейного времени, актуализирующее и значимость христианского предания (традиции), и литургическое вневременное время, «литургическое сегодня»16 непосредственно вовлекает читателя (что пушкинской эпохи, что нынешней) в описываемые события, словно бы ставя его в необходимость сделать тот или иной личностный выбор. В рассматриваемом же тексте сопоставлены «Когда — тогда» и «теперь». Однако крест (дважды упоминаемый) — тот же самый (и «тогда», и «теперь»). Присутствуют в тексте также и распятие , и его стороны («по сторо-намъ»): всякий христианин сразу же вспоминает двух разбойников (благочестивого справа и хулящего Христа слева).
Каждый раз в мiру происходит со-распятие Христа, и у креста («животворяща древа», сменяющего «древо», с которого сорвался «предатель-ученикъ») можно быть со Христом, подобно Марии-грешнице , но можно и уподобиться также упомянутым в этом тексте мучителям , терзающим плоть Христа.
Подножие креста саркастически сравнивается (в попытке передать логику «мiрской власти») с крыльцом «правителя градского» («какъ будто у крыльца»). Внутренняя форма слова правитель заставляет вспомнить о недолжных правах , с отталкивания от признания самодовлеющей важности которых для человека и начинается пушкинский цикл. Рифмовка «правителя градского / креста честного» сталкивает в «бинарной оппозиции» мiрское и духовное. Наконец, автор прямо свидетельствует, обращаясь к «мы», т. е. апеллируя к нашему читательскому опыту (опыту жизни в мiру), о замене, подмене одного (должного) другим (недолжным): поставленных
« на мѣсто женъ святыхъ». С одной стороны — мирской порядок, с другой — святость. Торжественный архаизм («зрим», а не «видим») отсылает к «Молитве» ( «Но дай мнЪ зрЪть мои...» (213)) — тем самым, не позволяя говорить об осуждении внешней для созерцателя недолжной ситуации: нет, его молчание о земном переворачивании иерархии святого, спасительного и мiрского, профанного является его (а тем самым и нашим) грехом перед Спасителем. Но тот же самый архаизм, будучи поставлен в соседство с другими («градского», «женъ святыхъ»), не позволяет ограничивать описываемое малым временем пушкинской эпохи.
Конечно, в тексте имеются явные следы этого пушкинского «теперь»: ружье, кивер; наконец, гуляющие господа. Но «теперь» не противопоставляется «тогда», а сопоставляется с ним, в конечном же итоге, включается в переживание «днесь» пятницы Страстной седмицы. Так, одна из последних строк завершается упоминанием о копие (оружия другой — римской — хранительной стражи); при этом ружье, как и его прообраз, употреблено в единственном числе. Как известно, копие, относящееся к священным сосудам, участвует в евхаристии, символизирует копье римского воина Лонгина, которым он проткнул подреберье распятого Христа. Однако обратим внимание и на последовательность в строке «Бичамъ мучителей, гвоздямъ и копiю»: ведь здесь в «единстве и тесноте стихотворного ряда» (Ю. Н. Тынянов) представлен крестный путь Христа, Его распятие и Его смерть на кресте. Точнее, не сама смерть, но свидетельство о земной смерти (Лонгин не убивает Христа копьем, он лишь протыкает им плоть уже умершего Спасителя, дабы засвидетельствовать эту смерть). Одновременно такая именно последовательность, укрепленная рифмующимся с копием (а не копьем!) завершением предшествующей строки «плоть Свою», символизирует и будущую пасхальную надежду: следы того же копия на просфоре, будущее причастие телу («плоть Свою») и крови Христа (вытекшую после прободения Его плоти копьем Лонгина, передающееся здесь уже освященным христианской традицией копием) проступает в этом произведении, соотносимом со Страстной пятницей: как копье преображается в копие, так и Его смерть, воспоминаемая на Страстной седмице, искупительная вольная жертва, сменяется пасхальным Воскресением.
При этом саркастическое «иль покровительствомъ спасаете могучимъ » сопоставлено со слабостью («двѣ слабые жены») верных Спасителю, пришедших разделить с Ним (не только «тогда», но и в каждую Страстную пятницу) Его муки. Ведь в этом тексте изображается не Христос торжествующий (о великом торжестве речь идет в первой строке), но «свершалось торжество» не по случаю казни Христа, которой мог порадоваться разве что сатана из предыдущего текста ( «съ веселiемъ на лик^» (212) ) , а потому что эта казнь «весь родъ Адамовъ искупила» (211): речь идет, таким образом, именно о нашем искуплении, нашем спасении.
В пушкинском же тексте грозные часовые , эта «хранительная стража», именно что — мiрской властью — не пускает «теперь» христиан в минуты кончины («кончалось Божество»), здесь и сейчас разделить с Христом его муки. В этом четвертом в цикле тексте кончающийся на кресте в муках Христос «вѣнчанъ» как раз «тернiемъ <…> колючимъ». Тем самым, мiрская власть словно бы сораспинает Спасителя, к тому же не позволяя грешникам ( черни, простому народу ) соборно быть со Христом. В сущности, христиане во власти (а власть хотя и мiрская, но, очевидно, все-таки христианская) рискуют повторить судьбу предателя-ученика из предыдущего стихотворения: во всяком случае, они своим запретом по-своему предают Христа, предавшего / передавшего Себя: « предавша-го послушно плоть Свою».
Одновременно этими словами о послушании Христа предвосхищается финальное «Велѣнью Божiю, о муза, будь послушна » (215); простой народ , но уже в более обобщенной форме — народ — возникнет в том же стихотворении в народной тропе и «любезенъ я народу»; возможное увенчание отвергается («не требуя вѣнца»). Однако самая, может быть, важная параллель, связующая тексты цикла в особое единство, состоит в том, что « родъ Адамовъ» (корневая форма слова народ ), искупленный казнью Христа, в следующем же тексте, словно бы ожидает пасхального Воскресения, покоясь на кладбище родовом .
***
Предпоследняя строка рассмотренной части цикла — «И чтобъ не потѣснить гуляющихъ господъ» (212) — разрастается в последующей ( «Когда за городомъ задумчивъ я брожу» (213) ) , в сущности, до размеров первой половины текста. Ведь при земной жизни так заботливо огражденные мiрской властью от тесноты эти господа (даже и во время Страстной пятницы они изображены вольно гуляющими , но не молящимися) после своей смерти оказываются «въ болотѣ кое-какъ стѣсненные рядкомъ» (214).
Следует сразу же заметить, что только лишь в пятом и шестом текстах художественное пространство определенно соотносится с имперским Санкт-Петербургом (и уже этим принципиально сближаются два финальных стихотворения цикла). Если в предыдущем стихотворении столичные реалии могут быть реконструированы исключительно исходя из частного суждения князя Вяземского (и мы уже отмечали сомнительность чрезмерной акцентуации на подобной реконструкции), то в двух последних произведениях сразу же непосредственно в их текстах заявлен именно столичный масштаб. Правда, кажется, он для того и возникает, чтобы Пушкин демонстративно этот масштаб превращал в контрастирующий фон для чего-то куда более значимого. В том и другом случаях это запредельное, но решающее «нечто» — посмертная участь человека: то, что находится за пределами его земной жизни. Однако, констатируя эту особенность цикла, не стоит при этом забывать и то, что сам переход от смертного к посмертному задан как раз четвертым и пятым по счету текстами, где последовательно изображены недолжный и должный переходы в мир иной. Только в предшествующих текстах автор отсылает читателя ко времени земной жизни Христа, а в тех, к рассмотрению которых мы переходим, уже ко времени его современности, которое затем назовут «пушкинской эпохой».
В пятом стихотворении «всѣ мертвецы столицы», каждый из которых, а не только лишь Пушкин или Гораций с Державиным (не следует этого забывать), уже имеет и свой собственный посмертный «памятник» («надписи и въ прозѣ, и въ сти-хахъ» на них словно бы предвосхищают земные же состязания в славе: ведь это и есть те самые «слова, слова, слова», упоминаемые в таком же безблагодатном контексте в первом произведении цикла), гниют в неволе, «кое-какъ стѣсненные рядкомъ», тогда как чаемое автором «кладбище родовое» представляет собой, напротив того, простор, свободу от посмертного стеснения. Так что теснота, заявленная в предшествующем стихотворении, имеет, так сказать, долгое и зачастую непредсказуемое на земле эхо (пока не будем касаться и другой подразумеваемой «тесноты» — гортани геенны, о ней — ниже).
«Столбики» (малые столпы ), «гробницы», «мелкие пирамиды» (напоминающие, но в уменьшенном масштабе, египетские реалии), наконец, уже прямо названные «столбы» этого текста готовят внимательного читателя к венчающему весь этот ряд «александрiйскому столпу» (о некоторых коннотативных особенностях которого — в следующей статье). Пока же следует заметить, что воры , саркастически упомянутые — по отношению к Распятию — в предыдущем тексте цикла ( «Или распятiе — казенная поклажа» (211) ) , непосредственно материализуются теперь : воров следует бояться мiрской власти тогда, когда она перестает уже сама властвовать в земной жизни; воры (во множественном и единственном числе) дважды эксплицированы (притом во втором случае они, будучи не в силах что-либо непотребное совершить на кладбище родовом , похищают, так сказать, бледность достойных «женъ святыхъ» ( ср.: «бледный воръ» — 214)) — так, на лексическом уровне продолжается уже знакомый нам по прошлым текстам цикла механизм подмены и замещения недостойными достойных… В первой же части они уже результативно потрудились («ворами со столбовъ отвинченныя урны»: тем самым происходит суетное состязание «создателей» этих столбов , упражняющихся в своего рода творчестве (штамповке), продукт которого «дешеваго рѣзца нелѣпыя затѣи» — и их «потребителей» — воров).
Подобный сарказм мог бы быть интерпретирован сугубо в рамках тривиальной «кладбищенской» тематики (тщете всего земного), если бы в тексте не имелись, порожденные проблематикой пасхального цикла, прозрачные инфернальные коннотации. При этом болото, в котором как будто бы весьма прозаически «гнiютъ всѣ мертвецы столицы» (213) (уж, во всяком случае, судя по дальнейшей детализации, отнюдь не бедные), явно отсылает читателя к упомянутой в третьем тексте геенне. Можно заметить, что так вводится и особый запах гниения. Впервые упоминание о запахе (запахе греха) можно констатировать в наброске «Напрасно я бѣгу…» (189). Ведь именно передачей запаха заканчивается этот короткий текст («оленя бѣгъ пахучiй»): как раз по запаху лев («ноздри пыльныя уткнувъ въ песокъ сыпучiй») и выслеживает («слѣдитъ») грешника (заметим и эпитет «голодный», он нам далее пригодится); затем — в этом же инфернальном ряду — возникает смрадный Иуда, ставший желанной «добычей смрадной» для Ада. Так что гниющие «мертвецы столицы», увы, определенно соотносятся в контексте цикла с этой «добычей». Далеко не случайно поэтому и упомянуты «могилы склизкiя»; нет, это вовсе не «реалистическая зарисовка» особенностей погребения в северной столице. Ровно как и воскрешенный диаволом Иуда становится по ту сторону земной жизни живым трупом, мертвецы столицы отнюдь не просто трупы: они становятся жильцами этих склизких могил. Однако самый выразительный образ — это инфернальное соединение скуки и ожидания. Выходит, что не только земные воры ожидают все новой и новой добычи, не только обманутые рогачи могут теперь мучиться, вечно читая лживые строки о себе и слыша неуместный «вдовицы плачъ амурный», мертвецам столицы уготована куда горшая участь:
«Могилы склизкiя, которы также тутъ, Зѣваючи жильцовъ къ себѣ на утро ждутъ…» (214).
Склизкие могилы — это наглядный образ, очевидно, такой же склизкой гортани гладной ( ср. «гортань геенны гладной» (212) ) : во всяком случае, голодный лев, гладная геенна по-своему разъясняют, на первый взгляд, не очень уместное сравнение рядов ( рядков ) могил с «гостями жадными за нищенскимъ сто-ломъ» (214) (и отзвук былой аллитерации — тройного повтора звука «г» — явно улавливается в упоминании о гостях : ряд этих голодных (на что указывает отсылка к нищете), но одновременно и жадных гостей странным, но жутким образом соотносится с рядом пустых могил, ждущих для себя утренней «пищи»).
Многажды констатировалась несомненная связь этого произведения с парафразом «Сельского кладбища» Грея Жуковским (первого из них, поскольку второй был создан уже после смерти Пушкина). В нем имеется и типичное для «кладбищенской» поэзии противопоставление «надменного мавзолея» наперсников фортуны (да и прочих рабов сует ) смиренному покою почивших праотцов села , и тот же самый, что затем и у Пушкина, «селянин», который «медлительной стопою (но у Жуковского не александрийской. — И. Е .) / Идетъ, задумавшись, въ шалашъ спокойный свой»17. Правда, на английском кладбище, в отличие от пушкинских «камней вѣковыхъ, покрытыхъ желтымъ мохомъ», и у каждого из скромных праотцов все-таки имеется столь же скромный, но все-таки приличествующий состоянию «памятникъ», хотя и «съ непышной надписью и рѣзьбою простою»18.
Если в парафразе Жуковского, как и в английском оригинале, «повсюду тишина, повсюду мертвый сонъ»19, то завершающие образы пушкинского текста — русский простор , контрастирующий с теснотой публичного кладбища (ср. «рѣшетки» — первое слово, определяющее это кладбище: тем самым иерархия значительного и незначительного Грея переворачивается), широта и не неподвижные черные сосны и вязы, как у Грея-Жуковского, а шумящий дуб.
У Пушкина мы видим переход от праздной болтовни о земных заслугах (на определенном уровне обобщения не только могильные «надписи и в прозе и в стихах» могут быть соотнесены с цитированной уже строкой из «Гамлета»: на читателя обрушивается нагромождение существительных, словно бы гвалт множества слов, их обозначающих, — решетки, столбики, столбы, нарядные гробницы, урны, мавзолеи, купцы, чиновники: существительные, которые в тексте «кое-какъ стѣсненные рядкомъ», буквально оглушают: это также «слова, слова, слова») к «вечерней тишинѣ», к торжественному покою — и только после этого возникает иной образ. Последняя строка пушкинского текста — «Колеблясь и шумя…» — своей динамикой (ведь эти динамические определения относятся к своего рода символу устойчивости — дубу) — уже предвосхищает будущее Воскресение, словно бы не позволяя дремлющим навечно уснуть в смерть. Поэтому первая часть стихотворения завершается безблагодатным унынием («злое на меня унынiе находитъ»), вызывая желание «плюнуть, да бѣжать», а вторая часть начинается с умиления («Но какъ же любо мнѣ»).
Несколько странно для русского христианского сознания, но в сентименталистской элегии Грея (как и в ее первом, и во втором отечественном парафразе Жуковским) отсутствует не только пасхальная перспектива, но нет и, собственно, молитвы за почивших, есть лишь вздох , к которому призывается «прохожий» и, соответственно, чувствительный читатель: «помолиться» же предлагается не за праотцев села, но за поэта (певца этого кладбища). Однако же, возможно, завершающие строки этой элегии, повествующие о поэте (и представляющие собой не что иное, как эпитафию ему), вовсе не нашедшие себе места в сотворческом Грею-Жуковскому пушкинском стихотворении, эхом отзовутся уже в следующем тексте Каменноостровского цикла. Во всяком случае, в тексте этой эпитафии уже упомянута муза (во втором парафразе Жуковского небесная муза ), своим сродством с душой почившего певца так напоминающая позднейшую пушкинскую лиру .
В пушкинском же тексте читатель сталкивается не только с оппозицией «города» и «деревни», тщеславия и простоты, «мертвецов» и «мертвых», перед ним раскрывается (и это главное) еще и различная посмертная судьба, чего нет ни у Грея, ни у Жуковского, поскольку у них вовсе никак, ни единым намеком не показан пасхальный горизонт. Напротив, акцентируется совсем иное: «ничто не вызоветъ почившихъ изъ гробовъ»; эти праотцы села «сномъ непробуднымъ спятъ»20 (в пушкинском же тексте мертвые кладбища родового даже и не спят, но «дремлютъ»). Да и в целом у Грея-Жуковского сельское кладбище хотя и противопоставлено своим надменным аналогам, но это противопоставление почти исключительно относится лишь к земной участи упокоившихся там и там мертвых: кто-то к гробу шел «путемъ величiя», а кто-то и «скрываясь отъ мiрскихъ погибельныхъ смятенiй»21. Хотя, очевидно, и в самом деле «не слаще мертвыхъ сонъ подъ мраморной доскою», но никакого сарказма, подобного позднейшему пушкинскому, по отношению к этим иным мертвым, которые «подъ мраморной доскою», нет; совсем напротив, имеется лишь сентиментально-грустная тональность:
«На всѣхъ ярится смерть; царя, любимца славы, Всѣхъ ищетъ грозная… и нѣкогда найдетъ»22.
У Пушкина, при всех отмеченных выше, а также и не перечисленных нами перекличках, лексических повторах и созвучиях, смысл произведения в другом. Если зев склизких могил публичного кладбища отсылает читателя к упомянутой в третьем стихотворении цикла «гортани геенны гладной», ожидающей Иуду, то мертвые родового кладбища, завершая (но не вполне завершив) уготованный смертным путь ( отсюда упоминания об осени , а не зиме («осеннею порой») и о вечере , но не ночи («въ вечерней тишинЪ») ) , «въ торжественном покоЪ», как и полагается в Страстную субботу, отнюдь не «гниютъ», но, как уже подчеркнуто выше, «дремлютъ», ожидая пасхального Воскресения. При этом важна и молитва, которая соединяет их с живыми («Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ»). Итак, перед читателем возникает пасхальный горизонт ожидания (переводя на русский язык ключевой термин рецептивной эстетики Х.-Р. Яусса Erwartungshorizont), но еще не само Воскресение, не посмертная жизнь. Да и хронологически последние стихотворения, сопровождаемые пушкинской пометой «Кам. остр.», это «Когда за городомъ задумчивъ я брожу» (14 августа 1836 г.) и «Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный» (21 августа того же года). Предпоследнее мы рассмотрели, истолкование же пушкинского «Памятника», являющегося, по нашему убеждению, неотъемлемой частью цикла, будет представлено в следующей статье.
Список литературы Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (статья первая)
- Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе: сб. в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. М.: Рос. ун-т, 1993. С. 341-345.
- Битов А. Г. Пушкинский том. М.: Редакция Елены Шубиной, 2014. 409 с.
- Грехнев В. А. Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород, 1994. 464 с.
- Давыдов С. Пушкин и христианство // Записки Русской Академической Группы в США. Нью-Йорк, 1992-1993. Т. 25. С. 67-94.
- Давыдов С. «Подражание итальянскому» и его источники // Проблемы современного пушкиноведения. Псков, 1994. С. 103-111.
- Долгушин Д., Цыплаков Д. Пасхальная тема в последнем лирическом цикле А. С. Пушкина // Источниковедение в школе. 2007. № 1. С. 24-37.
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ 1995. 102 с.
- Есаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип Пушкина и Гоголя // Гоголь и Пушкин: Четвертые Гоголевские чтения. М.: Книжный дом «Университет», 2005. С. 100-108.
- Есаулов И. А. Стихотворение Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского»: интерпретация одного созвучия // Православие и русская литература. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. С. 133-137.
- Есаулов И. А. Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 2019. Т. 17. № 2. С. 30-66 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561976111.pdf (25.09.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6262
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 5-20 [Электронный ресурс]. URL: https:// poetica.pro/journal/article_en.php?id=2511 (25.09.2020). DOI: 10.15393/ j9.art.2001.2511
- Измайлов Н. В. Стихотворение Пушкина «Мирская власть»: (Вновь найденный автограф) // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. XIII. Вып. 6. С. 548-556.
- Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997-2002. Кн. 1-3.
- Моторин А. В. Духовные направления в русской словесности XIX века. Великий Новгород, 2012. 504 с.
- Мурьянов М. Ф. Пушкин и Германия. М.: Наследие, 1999. 445 с.
- Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л.: Наука, 1974. 166 с.
- Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны.» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: исследования и материалы. Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 193-204.
- Сурат И. З. Пушкин: Биография и лирика: Проблемы. Разборы. Заметки. Отклики. М.: Наследие, 1999. 240 с.
- Сурат И., Бочаров С. Пушкин: краткий очерк жизни и творчества. М.: Языки славянской культуры, 2002. 240 с.
- Тоддес Е. А. К вопросу о каменноостровском цикле // Проблемы пушкиноведения: сб. науч. тр. Рига, 1983. С. 26-44.
- Фомичев С. А. Последний лирический цикл Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л.: Наука, 1985. С. 52-66.