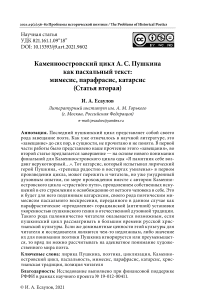Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (статья вторая)
Автор: Есаулов Иван Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Последний пушкинский цикл представляет собой своего рода завещание поэта. Как уже отмечалось в научной литературе, это «завещание» до сих пор, в сущности, не прочитано и не понято. В первой части работы было представлено наше прочтение этого «завещания», во второй статье предлагается завершение - на основе нового понимания финальной для Каменноостровского цикла оды «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Тот катарсис, который испытывал лирический герой Пушкина, «трепеща радостно в восторгах умиленья» в первом произведении цикла, может пережить и читатель, но уже умудренный духовным опытом, по мере прохождения вместе с автором Каменноостровского цикла «страстнόго пути», преодолением собственных искушений в его стремлении к освобождению от ветхого человека в себе. Это и будет для него подлинным катарсисом, своего рода поэтическим мимесисом пасхального воскресения, переданного в данном случае как парафрастическое «преодоление» горацианской (античной) установки укоренностью пушкинского гения в отечественной духовной традиции. Такого рода паломничество читателя оказывается возможным, если пушкинский цикл рассматривать в большом времени русской христианской культуры. Если же доминантные ценности этой культуры для читателя и исследователя являются чем-то недолжным, либо значение их для понимания поэтики Пушкина игнорируется или преуменьшается, то вряд ли можно рассчитывать на адекватное понимание художественного мира поэта.
Лирика пушкина, поэтика, циклизация, каменноостровский цикл, пасхальность, мимесис, парафрасис, катарсис, христианская традиция, позиция читателя
Короткий адрес: https://sciup.org/147227258
IDR: 147227258 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9602
Текст научной статьи Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (статья вторая)
« Exegi monumentum»: пасхальное увенчание Александрийского столпа и проблема читательского катарсиса
В настоящее время в нашей филологии все еще доминирует тенденция рассматривать пушкинскую оду «Я памятникъ себѣ воздвигъ…» изолированно, либо в контексте всего творчества Пушкина, но, вопреки помете поэта «1836. Авг. 21. Кам. остр.», не как неотъемлемую часть Каменноостровского цикла. Ясно, что таким образом произведение уже словно бы изымается из «страстн о го» окружения, а тем самым и редуцируются его православные ценностные коннотации1. Впрочем, как мы увидим далее, даже и непосредственно христианская образность, присущая этому тексту, зачастую редуцируется и переводится при его истолковании в какой-то иной, абстрактнометафорический план. К сожалению, и Н. В. Измайлов, первооткрыватель, так сказать, Каменноостровского цикла именно как цикла, а не только набора пушкинских стихотворений, написанных в определенное время в местности под Санкт-Петербургом, выдвинувший предположение о «Памятнике»2 как части цикла (при этом поставив это стихотворение на первое место [Измайлов: 554–555]3), после резких возражений М. П. Алексеева, Н. Л. Степанова и Р. Д. Кейля вынужден был отказаться от своей гипотезы.
Тем не менее в современной пушкинистике имеется и другая линия истолкования. Так, С. А. Фомичев завершает свою работу достаточно осторожным выводом: «Если уж и включать стихотворение “Я памятник себе воздвиг…” в “каменноостров-ский цикл” <…>, то, несомненно, не в качестве зачина, а именно в качестве финала, апофеоза» [Фомичев: 66]. Исследователь, сопровождая свои соображения не менее осторожным «возможно», предполагает, что «Пушкин все же “для себя” дописал его (цикл. — И. Е.), вполне завершив заданный в первых четырех стихотворениях сюжет “крестного пути” поэта, который наперекор “жестокому веку” “смертью смерть попрал”» [Фомичев: 66]. Однако, по справедливому замечанию Дж. Майкльсо-на, Фомичев «не поясняет, как содержание “Памятника” связано с “каменноостровским” циклом…» [Майкльсон: 128–129]. Тот же самый вывод мы находим и в разборе И. З. Сурат, заканчивающемся тезисом о том, что в «Памятнике» «мощно звучит тема Воскресения» [Сурат: 157]. В примечании к последнему слову, впрочем, исследовательница замечает: «Здесь упомянуты не все каменноостровские стихи, так как нами не ставилась задача полного анализа цикла» [Сурат: 158]. В том и другом случае возможная пасхальность последнего каменноостровского стихотворения скорее декларируется, нежели аргументируется. Дж. Майкльсон, основываясь на «фразеологических перекличках» Каменноостровского цикла, резонно, как мы полагаем, утверждает, что «пушкинский “Памятник” явно принадлежит к этому циклу, что значение отдельных его выражений и строк проясняется и обогащается в соотнесении с другими стихотворениями и что через весь цикл отчетливо проходит религиозная трактовка источника вдохновения поэта…» [Майкльсон: 137]. Наконец, работа свящ. Д. Долгушина и диакона Д. Цыплакова, посвященная пушкинскому циклу, имеет отчасти компилятивный характер, в ней «Памятник» цитируется, но никак не интерпретируется, несмотря на исследовательское внимание к «пасхальной теме» [Долгушин, Цыплаков].
В завершающем Каменноостровский цикл стихотворении на уровне самой его структуры обнаруживается возвращение к началу: как и в открывающем цикл тексте, в первой же строфе имеется троекратное отрицание («нерукотворный», «не заростетъ», «непокорной»4), как и в первом тексте, в последнем этим первоначальным отталкиванием от недолжного автор не ограничивается: в завершающей строфе мы вновь видим те же три «не» («не страшась», «не требуя», «не оспоривай» (215)); обращает на себя внимание и не раз фиксировавшееся буквальное удвоение в финале негативного оспоривать, возвращающее читателя цикла к столь же негативному начальному изображению тех, кто счастлив «оспоривать налоги» (212). Таким образом, цикличность проявляется еще и в том, что круговое возвращение к началу происходит и на уровне всей конструкции (начало первого и последнего текста, начало первого и конец последнего), и на уровне части этого целого (начало и конец завершающего стихотворения).
Заявленная в первом же тексте цикла его парафрастичность «(Из Пиндемонти)», подкрепленная прямой цитатой из «Гамлета», затем, осложняясь православной церковно-славянской традицией, проходя красной нитью через весь цикл, в последнем тексте выходит на новый уровень, будучи эксплицирована столь же нарочитой — уже как эпиграф — цитатой из Горация5. Почему «нарочитой»? Собственно говоря, для сколько-нибудь культурного читателя такая отсылка является словно бы лишней: ко времени создания пушкинского текста каждый помнил хотя бы парафрасис Державина (да и не только), но Пушкин счел нужным подчеркнуть сам «исток» своего вдохновения6. Такого рода экспликация порождает дополнительный циклообразующий эффект: ведь несколько утрированная парафрастичность является одной из особенностей Каменноостровского цикла.
За без малого двести лет много было написано о странном словосочетании, избранном Пушкиным для передачи собственного парафрастического подобия горацианского «mo-numentum»7, но так и нет сколько-нибудь общепринятого мнения — почему избрана для этого Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга? Воздвигнутая Монферраном в 1834 г., она не только должна была, по мысли Николая I, засвидетельствовать победу над Наполеоном, одержанную в период царствования его старшего брата, но и уже в своем замысле несла в себе идею соперничества, хотя и не поэтического: она должна была быть непременно выше парижской Вандомской колонны, прославляющей прежние победы Наполеона. Однако же, помимо общей идеи состязательности, победительности, которая не может так или иначе не проступать у любого поэта, вздумавшего парафрастически передавать Горация, заявлявшего о своем превосходстве над другими, чрезвычайно важна александрийская звуковая оболочка («состязание» двух Александров): ведь как Александрийская колонна в 1834 г. отсылала зрителя к русским победам 1812 г., так введенное Пушкиным слово «Александрийского», вторгаясь в горацианский тематический комплекс, становилось последним, завершающим отзвуком александрийского стиха, которым написаны предыдущие тексты Каменноостровского цикла8: как колонна на Дворцовой площади, будучи самым большим в мире цельным продуктом из розового гранита, увенчалась фигурой ангела с крестом, так и пушкинский цикл, написанный александрийским стихом, увенчивает произведение уже другой ритмической природы (но с лексической отсылкой к прежнему метру).
Эйдос же победительности, который как в античном инварианте, так и в александрийском его каменном санкт-петербургском аналоге хотя и передается наглядно земной высотой колонны (отсюда и слово «выше», имеющееся и у Горация, и у Державина, и у Пушкина), в пушкинском парафрастическом тексте, перерастая заданную античностью земную перспективу в соответствии с логикой последовательности пасхального цикла, являет читателю иную победу — пасхальную победу над смертью.
Во всяком случае, в первой же строке пушкинского «Памятника» имеется отсылка («нерукотворный») к пророческим словам Христа (Мк. 14:58) о Его будущем воскресении9:
трмн ДЕНТИН HHii НЕр^КОТЬОрЕН^ ССЗНЕКдЙ.
Да и петербургская колонна увенчивается все-таки не фигурой победительного Александра (как вандомская колонна — фигурой Наполеона), а ангелом и крестом. Идея святости уже, так сказать, подразумевалась русским монументом: и установка колонны на пьедестал, и открытие памятника состоялось 30 августа (по юлианскому стилю): это день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, главный день его празднования. Так что, кроме «двух Александров», в сознание пушкинских современников мог входить и третий Александр. Открытие же памятника сопровождалось торжественным богослужением у подножия колонны, которое соотносилось с победным молебном русских войск в Париже в день православной Пасхи 29 марта 1814 г. Может быть, еще и поэтому слово «столп», как много раз замечалось, не использовавшееся — до Пушкина — по отношению к Александровской колонне, но зато прямо отсылающее к православной традиции (включающее в себя и святость, и столпничество, и Церковь как «столп и утверждение Истины»), завершает первую строфу этого произведения.
Может возникнуть напрашивающийся вопрос: а нет ли в таком случае некоего проявления пушкинской гордыни в утверждении «выше», как и «главою непокорной», если этот Александрийский столп имеет столь высокие коннотации? Но об этом — ниже.
Слово «умру», возникающее в начале второй строки, не только актуализирует державинское «весь я не умру», буквалистски продолжая парафрастическую традицию переложения горацианского текста, но и, будучи введено в циклический контекст Страстной седмицы, переводит читательское внимание в иной план. Последовательно, по порядку в соседних текстах цикла осмысливаются смерть Иуды (с ее потусторонней «отменой»), смерть Христа (с пасхальными коннотациями), смерть других (с различными вариантами того, что с ними будет потом ), наконец, уже не других, но в ряду этих других (включая Иуду, Христа, мертвецов столицы и усопших кладбища родового) собственная будущая смерть, смерть пиита: во всяком случае, выражения «мой прах» нет ни у Ломоносова, ни у Державина.
Ни в одном парафразе Горация как до Пушкина, так и после (ср., например, поэтические опыты Брюсова), нет никаких собственно пасхальных коннотаций, в них речь идет исключительно о сохранении в памяти потомства своей «части», поэтического инобытия своего человеческого «эго». Как справедливо подчеркивалось многими исследователями, лишь в пушкинском парафразе появляется слово душа, манифестируется глубинная связь между душой и творчеством («Душа въ заветной лирЪ» (214)). Это таинственное и небывалое соединение, кажется, намеренно помещенное Пушкиным в ту же самую строку, которая открывается буквальным повтором державинского парафраза, дабы подчеркнуть выход за пределы земного как такового, можно было бы и прочитать исключительно метафорически, но ведь душа непосредственно (и совершенно в данном случае «традиционно», если говорить о христианской, а не античной традиции) контрастирует с телесностью («прахом»): ведь не «лира» же поэта переживет его бренное тело, нет, именно его душа, хотя и «въ завѣтной лирѣ».
О «славе» же речь идет уже во второй части этой строфы, и эта «слава», в данном случае, весьма и весьма близкая именно античному (горацианскому) представлению (cм.: [Мальчу-кова, 1998: 190–193]), отнюдь не выше, а как раз ниже иерархически моей бессмертной души (отсюда и определение подлунный мир, а никак не «подсолнечный»10: иерархия солнца и луны, истинного света и света отраженного, семантически и духовно значима и известна в русской словесности со времени митрополита Илариона [Есаулов, 1994: 38, 52–53]). Существенна, разумеется, и замена нейтрального поэт на церковнославянское пиит — тем самым расширяются временные рамки: они не сводятся ни к пушкинскому времени, ни к нашему, ни к тому, что последует за нашим, но все-таки речь идет именно о временном, земном, а не вечном, небесном: речь идет о «подлун-номъ мiрѣ» и о славе в этом подлунном 11 мире…
Во всяком случае, несмотря на уверенность поэта в могуществе «Руси великой», современный читатель может и задаться вопросом — где же ныне упоминаемый по отношению к ней «финнъ»? Увы: этот «сущiй въ ней языкъ» нынче уже не «въ ней», этот «языкъ»-народ вне пределов этой самой подлунной, т. е. земной, Руси , что не может не заметить и «гордый внукъ славянъ»: да, изменчивый подлунный мир именно таков.
Предчувствовал ли нечто подобное Пушкин? Биографический Пушкин — вряд ли, а вот Пушкин-пророк, у которого в творчестве сказалось больше, чем он, возможно, и хотел сказать, да. Ведь он не написал, скажем, вечно «буду тѣмъ лю-безенъ я народу», но «долго буду»: «долго», как понятно каждому, отнюдь не означает «вечно». На вечность уповал как раз Гораций, а также верно передавший в первой же строке своего переложения его упования Державин: «Я памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный»12. Но не Пушкин. Вспомним в этой связи финал карамзинского Предисловия к «Исторiи Государства Россiйскаго» (1815 г.): «…да цвѣтетъ Россiя… по крайней мѣрѣ долго, долго, если на землѣ нѣтъ ничего без-смертнаго, кромѣ души человѣческой!»13.
«Милость къ падшимъ», как и прославление свободы , в редуцированной традиции истолкования пушкинского парафраза слишком часто воспринималась в малом времени его жизни. Есть ли в рассматриваемом тексте какие-то основания для этого? Да, есть: это определение поэтом своего века как жестокого : «…въ мой жестокiй вѣкъ» (215). Пушкин, по-просветительски надеявшийся на постепенные преобразования и смягчение нравов, не мог предугадать тех мясорубок для «просвещенного» человечества, которым оно подвергнется в веке XX (если уже и пушкинский век — жестокий, то как тогда определить следующий за ним?), ровно так же, как и мы не можем знать, что еще сулит миру век XXI…
Если же мы будем рассматривать пушкинский «Памятник» как финальное стихотворение всего Каменноостровского цикла, а одновременно и в большом времени христианской истории, то четвертая строфа текста, наряду с оппозицией временного и вечного, приоткрывает и совсем другие смыслы. Тогда восславляемая здесь «свобода» непосредственно отсылает читателя к первому тексту цикла ( «иная, лучшая, потребна мнЪ свобода» (212) ) ; это не свобода «права» или «печати», а, в конечном счете, христианская свобода от греха. Падшие в этом контексте — это не только другие (у которых, по-видимому, в силу некоторого их самоослепления правами , «кружится голова»), но и в целом все люди, отягченные грехом, опять-таки, как и я сам, за кем «гр^хъ алчный гонится», — падший ( «и падша-го крЪпитъ неведомою силой» (213) ) . Поэтому и в слове «милость» можно прозреть то, что, будучи выше Закона, заставляет вспомнить вызываемое молитвой христианское умиление ( «Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ, / Какъ та» (213) ) . В таком случае финальные глаголы второй и четвертой строк этой четвертой строфы «пробуждалъ» и «призывалъ», относимые поэтом к самому себе (и чем, собственно, он предполагает быть любезным народу), никак невозможно дистанцировать от другого пушкинского парафраза — молитвы Ефрема Сирина.
Последнее его слово, обращенное к Богу, — «о-живи» (то есть мертвое сделай живым, иными словами, воскреси 14): слово «пробуждалъ» в контексте цикла становится словно бы мимесисом — со стороны поэта — божественному «оживи». В предыдущем тексте цикла речь идет о дремлющих мертвых: семантика пробуждения от смертного сна включает в себя не только сугубо земную прагматику, но и скрытые в слове «пробуждение» сакральные коннотации.
Так что заветная лира не только прославляет самого поэта («и славенъ буду я»), не только восславляет свободу (в том числе, с теми коннотациями, которые мы отметили), но и подражает в своем творчестве Богу-творцу. Но это еще и христианский Бог. Для того чтобы убедиться в христианском, а не абстрактно «общечеловеческом» значении слов «чувства добрыя» и «милость къ падшимъ», достаточно сопоставить эту часть пушкинского парафраза с горацианским инвариантом, где ничего подобного нет, что, конечно, не означает того, что в античном (или христианском) типах культур нет ничего, созвучного людям иных культур: просто и античный, и христианский образы мира имеют свою собственную аксиологию: их различие хорошо понимал Пушкин, рассуждая о христианстве как о величайшем перевороте планеты, как о «священной стихии», в которой «исчез и обновился мир»15.
Однако именно в венчающем цикл тексте отпадение этих падших осмысливается в новом свете: та высота, которая задана уже горацианским инвариантом и которую дублирует Пушкин, вслед за Ломоносовым и Державиным, — «вознесся выше», только у него получила языковое сродство с христианским Вознесением: потому, в частности, «выше» даже и рукотворного монферрановского ангела с крестом, что обнаруживает другое сродство — уже посредством циклообразующих коннотаций: ведь пушкинский парафраз молитвы Ефрема Сирина текстуально выстроен особенным образом: сложили «множество божественныхъ молитвъ» отцы и жены как раз для того, «чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны» (213): глаголы «возлетать» и «вознесся» в равной степени свидетельствуют о Вознесении. Да и разве не к той же самой — нерукотворной — высоте отсылают и Сионские высоты? Речь идет о таком Граде небесном, который в русской традиции сопри-роден исключительно святости: так что не нужно словно бы укорять поэта, который покаянно свидетельствует о том, что «средь дольнихъ бурь и битвъ» слишком трудно, почти невозможно падшему человеку достичь ее…
Можно заметить, что в завершающем тексте цикла «я» поэта имеет как бы три ипостаси: в первой строфе это «он» (памятник), в последней — она (муза), в трех же срединных — я «весь» и моя «душа» ( «въ заветной лирЪ» (214) ) . Визуализация при этом хотя и наличествует исключительно в первой строфе (резкий контраст сравнительно с предыдущим текстом, перенасыщенным посмертно-кладбищенской предметностью), но и в ней — в силу нерукот-ворности образа, если рискнуть в данном случае использовать игру слов, она сублимирована и уже не вполне соотносится с исключительно земными реалиями.
Свобода (как мы уже подчеркнули, «иная, лучшая», нежели ее истолковывали обычно журнальные балагуры , комментируя Пушкина) вовсе не так уж противоположна тому послушанию , которое неожиданно для читателя, хотя бы сколько-нибудь ориентирующегося в русском парафрасисе горацианского инварианта, возникает в последней строфе стихотворения (и всего цикла). Для того чтобы оценить степень неожиданности, достаточно вспомнить финальное державинское:
«О Муза! возгордись заслугой справедливой, И, презритъ кто тебя, сама тѣхъ презирай »16.
Для того чтобы понять со всей возможной отчетливостью, как античная гордость этой Мельпомены-Музы (ср. исходное горацианское «Испытай же гордость, снисканную твоими заслугами»17) могла преобразиться в христиански-смиренное «будь послушна», как нам представляется, недостаточно только рамок завершающего цикл текста, для этого нужно вернуться к его началу.
Воспеваемая там свобода (но уже иная , нежели обычно представляют) соотносится не столько с человеческим, мiрским, сколько как раз с «божественным»:
«По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ, Дивясь божественнымъ природы красотамъ» (213).
Однако же в этом начальном тексте цикла, хотя и там говорится уже о божественном , еще имеется все-таки слишком человеческое упование на себя, на свои собственные силы. Поэтому и смиренное «Богъ съ ними», обращенное в равной степени и к ценящим «громкiя права» парламентским говорунам, и к олухам , слишком близко к сердцу принимающим цензурно-журнальные тяжбы, обнаруживает неожиданные семантические последствия: если действительно Бог с ними , с этими падшими грешниками, то что же остается тогда поэту? «Одиночество и свобода» (Г. Адамович): в пушкинском тексте появляется уникальная во всем цикле стихотворная строка, состоящая из одного-единственного слова: «Никому».
Продолжение-анжамбеман, поясняющее, конечно, это стремление к какой-то совсем уже предельной (или запредельной) независимости, на самом деле, только лишь акцентирует «права» (хотя и «иныя, лучшiя») человеческого «я»:
«Отчета не давать; себѣ лишь самому Служить и угождать <…>
По прихоти своей скитаться…» (213).
Тогда как в последнем тексте цикла мы видим существенную переакцентировку: то представление о личной свободе , о котором ведь, в сущности, и было сказано ранее «Вотъ счастье! вотъ права!..» (213), углублялось и переосмысливалось на протяжении всего пушкинского поэтического мимесиса Страстной седмицы, чтобы прийти к иной формуле:
«Велѣнью Божiю, о муза, будь послушна» (215).
Это сочетание свободы и послушания, свободное послушание , является подлинным поэтическим открытием Пушкина. Ранее в цикле оно относилось к отцам пустынникам и женам непорочным , однако в финале соотносится уже не только с Музой, его музой, но и, будучи финальным образом, с собственной творческой интенцией поэта.
Не будем забывать, что в цикле есть и другое веление, отнюдь не Божие, но мiрское: им-то и завершается стихотворение «Мiрская власть»: «Пускать не велѣно сюда простой народъ» (212). И если быть послушным этой мiрской (земной) власти для свободной музы постыдно, то быть послушным «велѣнью Божiю» — цель творчества.
Поэтому народная тропа (и для «простого», но и для всего народа), которая, в уповании поэта, «не заростетъ»18 к нерукотворному памятнику, прославляет не только и не столько мое поэтическое «я», но подлинного Создателя-Творца. Во всяком случае, поэтическая логика цикла такова: если я сам (в первом тексте) способен испытывать восторги умиленья «предъ созданьями искусствъ и вдохновенья» (213), божественными созданиями, в конечном итоге, то почему не утешиться тем, что и народу я буду любезен потому, что «счастье» и «права» он найдет в моей «завѣтной лирѣ»? Однако пушкинский завершающий текст еще и о другом.
Как уже было отмечено выше, тройное «не» последней строфы не только таким образом оцельняет последний текст, поскольку возвращает читателя к его первой строфе (конечно, особым образом: тройные «не» первой строфы, обращенные не к Музе, но к памятнику, имеют позитивные коннотации, тогда как завершающие открыто негативны), но и взаимодействует с тройным отрицанием в начале всего цикла. Что такое хвала и клевета ? Увы, то и другое, «видите ль», как иронически обратился к своим читателям Пушкин, «слова, слова, слова»: отсюда и должное равнодушие , с которым следует музе к ним относиться. Сказано же уже в первом стихотворении как раз об этом: «Не все ли намъ равно ?» (213).
Предполагаемая обида , о которой также идет речь в последней строфе, может исходить от тех же самых фанатиков земных «прав» и формальных «свобод», о которых также шла речь изначально в этом цикле, объединенных в конце концов собирательным именем глупца : «И не оспоривай глупца» (215). В конце концов, и сам биографический Пушкин отдал достаточную дань безумству «гибельной свободы», чтобы достаточно разобраться уже в ее обольщениях. Если их (его) фетиши оставляют (должны оставлять!) равнодушным умудренного жизнью поэта (еще раз напомним примирительное «Богъ съ ними»), то зачем же, действительно, этого глупца, погрязшего в мiрском, оспоривать ?
Итак, с глупцом -то, как и с его ценностями, слишком все понятно — это недолжное мiрское (земное), а потому в пушкинском циклическом страстном контексте не вполне уместно даже и «оспоривать», особенно в финале цикла; подобные ценности текстуально наличествуют только апофатически, как фон для должного. Глупец — этот тот, кто и после Воскресения Христова продолжает, как будто бы и не было этого Воскресения, чрезвычайно ценить свои собственные «громкие права»; тот, кто после Воплощенного Слова вернулся к «словам, словам, словам». Его, «глупца», нужно смиренно пожалеть, а никак не «оспоривать».
Но почему «не требуя вѣнца», то есть заслуженной награды? Это ведь было бы справедливо? Так полагали и Гораций, и Ломоносов, и Державин. Увенчание поэта за его заслуги — как же без него? У Пушкина акцентируется значимое и чрезвычайно существенное умолчание о земной награде потому именно, что он уповает на иное, пасхальное, увенчание: во всяком случае, фраза «душа въ завѣтной лирѣ» отсылает именно к нему.
«Прах», как надеялся Пушкин, будет покоиться на родовом кладбище, а бессмертная душа — «в лире» — и есть у поэта та «лучшая часть меня», как в русских парафразах передавалась известная строка Горация. Но как же мои грехи, памятуя о которых я «трепещу и проклинаю» себя самого? Покаянно вспоминает об этих грехах поэт, как мы выяснили, и в рассматриваемом цикле, но вместе с тем и надеется на милость Божию к его собственным падениям. Во всяком случае, как он сам призывал к той же милости (см.: [Есаулов, 2004]) — по отношению к падшим : «…и какою мерою мерите, такой и вам будут мерить» (Мф. 7:2).
Полемизируя с Державиным, Пушкин, если верить Гоголю, обронил: «…слова поэта суть уже его дела»19; значит, можно надеяться, что и судим поэт будет прежде всего за те самые слова, однако не просто «иные», но противоположные всей своей сущностью словесному потоку, скрывающему, а не приоткрывающему Истину, иронически воспроизведенному еще Шекспиром. Однако уповать на это возможно, если муза поэта будет «послушна»20 не хвале, клевете, каким-либо пожеланиям (или недовольству) глупца, а «велѣнью Божiю».
Подобное, с античной, но не с христианской точки зрения, самоуничижение , которое лучше обозначить как смирение , не только порождает верный — финальный — контекст понимания для «гордого», впрочем, как уже было сказано, и общего для всех «памятников» состязательного слова «выше», но и в целом позволяет переосмыслить расхожее представление о будто бы некоем скрытом противопоставлении Царя и Поэта. Непокорная глава пушкинского памятника, который вознесся (ср. Вознесение вслед за Воскресением) выше триумфальной колонны, свидетельствует в данном случае вовсе не о земном соперничестве , но об отсутствии покорности по отношению к любой мiрской власти: от «первой» до «четвертой» (с ее балагурами ).
Оба «необычных» слова первой строфы, передающих все-таки земные реалии (александровская колонна — один из центральных символических атрибутов «петербургского текста»), нерукотворный и столп , одновременно уже выводят читателя в иное, заземное измерение; сами по себе, рассмотренные изолированно, они не связаны ни со Страстной седмицей, ни с увенчивающей ее Пасхой, но, будучи помещенными в пасхальный цикл, как и слово «вознесся», обретают особые духовные коннотации.
Нерукотворный, столп , вознесся , а затем в первой же строке второй строфы душа — мы видим изначальную насыщенность, если не сказать перенасыщенность, пушкинского текста, как-никак парафрастирующего образец именно античной культуры, не только абстрактно «духовной» лексикой, а лексикой собственно христианско-православной по своему происхождению (сюда же, разумеется, следует включить и завершающее вторую строку слово «пiитъ»)21. Финальные слова первой и второй строфы — столп, пиит , диалогически соотносясь с антично-римским эпиграфом «Exegi monumentum», недвусмысленно актуализируют весьма определенный вектор пушкинского парафраcиса: «перевод» (и, тем самым, адаптацию, укоренение) античного культурного поля в «свою» собственную русскую «античность»: церковнославянскую языковую, а, наряду с ней, и ментальную, духовную стихию. И этот «перевод»
как нельзя более органично вписывается в охарактеризованную нами выше «страстную» каменноостровскую тематику.
Итак, в самом сжатом виде подытоживая как уже давно отмеченные пушкинистами наблюдения, так и представленные в настоящей работе собственные изыскания, заметим, что в отличие и от горацианского инварианта, и от русских его парафрастических вариаций, в тексте пушкинского парафра-сиса впервые появляется упоминание о бессмертной душе («душа въ завѣтной лирѣ»); «милость къ падшимъ» в христианском контексте понимания, нами предложенном, вовсе не сводится к реалиям малого времени пушкинской эпохи, а вбирает в себя представления об умилении и грехе (воскресение грешников и есть подлинная «милость» по отношению к этим «падшимъ»); наконец, обращенный к собственной музе, призыв к послушанию «велѣнью Божiю» возвращает читателя к финальным строкам первого стихотворения этого цикла: тот катарсис, который испытывал лирический герой, «трепеща радостно въ восторгахъ умиленья» (564), может пережить теперь и читатель последнего пушкинского цикла, но уже умудренный преодолением страстных искушений на его пути к собственному освобождению от ветхого человека в себе: это и будет для него подлинным катарсисом, своего рода поэтическим мимесисом пасхального воскресения, переданного в данном случае как парафрастическое «преодоление» горацианской (античной) установки укоренностью пушкинского гения в русской духовной традиции.
Список литературы Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (статья вторая)
- Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…»: Проблемы его изучения. Л.: Наука, 1967. 272 с.
- Бонди С. М. О Пушкине: статьи и исследования. М.: Худож. лит., 1978. 477 с.
- Гаспаров М. Л. Топика и композиция гимнов Горация // Поэтика древнеримской литературы: жанры и стиль. М.: Наука, 1989. С. 93–124.
- Долгушин Д., Цыплаков Д. Пасхальная тема в последнем лирическом цикле А.С. Пушкина // Источниковедение в школе. 2007. № 1 (4). С. 35–52.
- Дуров В. С. Hor. Carm. 3, 30 (Попытка истолкования) // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XIII (чтения памяти И. М. Тронского): материалы международной конференции. СПб.: Наука, 2009. С. 160–163.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе (к постановке проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Т. 3. С. 32–60 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica. pro/journal/article.php?id=2372 (10.10.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2372
- Есаулов И. А. Структура «Капитанской дочки» и понятие милости в языковой картине мира Пушкина // Крымский Пушкинский научный сборник. Симферополь: Крымский Архив, 2004. Вып. 4 (13): Литература и религия. С. 43–52.
- Есаулов И. А. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. М.: Академика, 2015. 616 с.
- Есаулов И. А. Родное и вселенское в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя: парафрастический контекст понимания // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 175–210 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582894223.pdf (10.10.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2020.7322
- Иванов Вяч. Вс. К исследованию архаизмов в «Памятнике» Пушкина // Лотмановский сборник. М.: ИЦ — Гарант, 1995. Вып. 1. С. 415–419.
- Измайлов Н. В. Стихотворение Пушкина «Мирская власть»: (Вновь найденный автограф) // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. XIII. Вып. 6. C. 548–556.
- Кибальник С. А. О стихотворении «Из Пиндемонти»: (Пушкин и Гораций) // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л.: Наука, 1982. С. 147–156.
- Майкльсон Дж. «Памятник» Пушкина в свете его медитативной лирики 1836 года // Концепция и смысл: cб. ст. в честь 60-летия профессора В. М. Марковича. СПб.: СПбГУ, 1996. С. 125–139.
- Макогоненко Г. П. Капитанская дочка и последний поэтический цикл // Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833–1836). Л.: Худож. лит, 1982. С. 424–461.
- Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А.С. Пушкина. Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. Кн. 2. 204 с.
- Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А.С. Пушкина. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. Кн. 3. 256 с.
- Мурьянов М. Ф. Пушкин и Германия. М.: Наследие, 1999. 442 с.
- Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: над страницами духовной биографии Пушкина. М.: Сов. писатель, 1987. 446 с.
- Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 462 с.
- Пумпянский Л. В. Классическая традиция: собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. 864 с.
- Сурат И. З. Жизнь и лира: о Пушкине. М.: Книжный сад, 1995. 192 с.
- Фейнберг И. Л. Читая тетради Пушкина. М.: Советский писатель, 1981. 432 с.
- Фомичев С. А. Последний лирический цикл Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л.: Наука, 1985. С. 52–66.
- Шустов А. «Нерукотворный» или «Нерукотворенный» (По поводу одной зарубежной статьи) // Вопросы литературы. 1973. № 6. С. 169–171.
- Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. 464 с.
- Huntly D.-G. On the Source of Pushkin’s nerukotvornyj… // Die Welt der Slaven. 1970. Jg. 15. Heft. 4. Pp. 359–363.
- Grégoire H. Horace et Pouchkine // Les Études Classiques, 1937. Vol. VI, No. 4. Pp. 525–535.