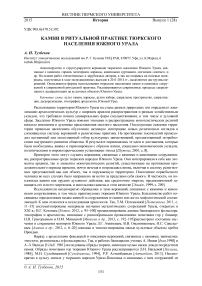Камни в ритуальной практике тюркского населения Южного Урала
Автор: Тузбеков А.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируются и структурируются верования тюркского населения Южного Урала, связанные с камнями, горами, менгирами, караскы, каменными курганами, могилами «святых» и др. На основе работ отечественных и зарубежных авторов, а так же опираясь на полевые материалы, полученные в ходе экспедиционных выездов в 2011-2014 гг., выделяются две группы верований. Описываются формы использования тюркским населением камня и каменных сооружений в современной ритуальной практике. Рассматриваются современные процессы сакрализации и десакрализации на культовых объектах Южного Урала.
Культ камня, караскы, аулия кабере, сакральное пространство, сакрализация, десакрализация, этнография, археология, южный урал
Короткий адрес: https://sciup.org/147203599
IDR: 147203599 | УДК: 903.6(470.5):392
Текст научной статьи Камни в ритуальной практике тюркского населения Южного Урала
Расположение территории Южного Урала на стыке разных природных зон определило локализацию археологических культур с широким ареалом распространения и разным хозяйственным укладом, что требовало поиска универсальных форм сосуществования, в том числе в духовной сфере. Заселение Южного Урала новыми этносами и распространение монотеистических религий вносило изменения в духовные представления местного населения. Последующее освоение территории пришлым населением обусловило активную интеграцию новых религиозных взглядов в сложившуюся систему верований и религиозные практики. На протяжении тысячелетий происходил осознанный или неосознанный отбор культурных заимствований, продиктованный потребностями внутреннего развития общества. В результате перенимались те идеи и достижения, которые были необходимы, важны и гармонировали с образом жизни, социально-экономическим укладом, политическими и мировоззренческими установками этноса [ Шутова , 2001, с. 8].
Примером этого могут служить верования, связанные с камнями и каменными сооружениями, распространенные среди тюркских народов Южного Урала. Они интегрировали в себе как элементы архаики, так и элементы монотеистических религий, существующие на протяжении продолжительного периода времени, почти исчезая и возрождаясь вновь, включая в систему религиозных представлений как сам объект, так и окружающую территорию. Поклонение первобытного человека во всех случаях было направлено на нечто за пределами себя самого. В частности, он поклонялся камню как орудию духовного действия, как средоточию энергии, предназначенной защищать его или его мертвецов, и использовал камень в этом качестве [ Элиаде , 1999, с. 209].
Исследователи неоднократно обращались к теме верований, связанных с камнями и каменными сооружениями, в том числе практикуемых тюрками Южного Урала. Большинство работ посвящены определенным видам камней и сооружениям из камня или же их мифологической составляющей. К ним относятся и исследования археологов. Так, Т.М. Потемкиной [ Потемкина, 2011, с. 11–35] систематизированы материалы изучения мегалитических сооружений Урала, открытых в XXI в.; В.Г. Котовым [ Котов, 2012, с. 95–100] проанализированы данные башкирского фольклора, этнографии и археологии, связанные с разнообразными проявлениями почитания гор у башкир; Н.Н. Григорьевым и И.М. Минеевой [ Минеева и др., 2013, с. 192–195]рассмотрено состояние изучения и сохранения менгиров Южного Урала; З.Г. Аминевым, В.В. Овсянниковым, Н.С. Савельевым [ Аминев и др., 2012, с. 6–20] описаны и типологизированы малые культовые объекты хребта Ирендык.
Наряду с археологами фиксацией и описанием верований, связанных с камнями, занимались этнологи, религиоведы и фольклористы. Так, в работах башкирских ученых А. Инана [ İnan, 1998] и А.-З. Валиди [ Velidi, 1981] исследованы обряды тюрков, имеющие целью вызов дождя посредством камня. Обряды почитания гор тюрками Южного Урала рассматриваются Л.И. Нагаевой [ Нагаева , 1984], М.Н. Сулеймановой [ Сулейманова , 1994], Р.Р. Алтынбаевым [ Алтынбаев , 2013]. Неоднократно к культу святых у тюркских народов Урало-Поволжья и связанных с ним сооружений из
камня обращались этнологи А.В. Сызранов [ Сырзанов , 2006, с. 127–143], Ю.А. Абсалямова [ Абса-лямова , 2008, с. 207–210] и др.
Среди зарубежных исследований наибольшего внимания заслуживают работы казахских, азербайджанскихи турецких ученых, в которых рассматривается проблема сосуществования ислама и архаичных религиозных воззрений, связанных с камнями и сооружениями из камня. В этом ряду своей основательностью выделяется работа С.Е. Ажигали [ Ажигали , 2002], где подробно описываются и классифицируются сооружения из камня и их использование в культовой практике тюрков Казахстана. В работе Р.Г. Кулиевой [ Кулиева , 2007] рассматриваются проблемы, связанные с культом камней у тюркских народов Азербайджана. Особо хочется отметить труд турецкого религиоведа Х. Танью [ Tanyu , 1968], в котором описаны и систематизированы наиболее широко используемые культовые объекты из камня и связанные с ними ритуалы у тюркских народов Турции и Средней Азии.
В ходе исследования археологами и этнографами духовной жизни и религиозных представлений населения Южного Урала на территории Башкортостана, Курганской, Оренбургской и Челябинской областей было выявлено большое количество каменных объектов и комплексов (святые камни, скалы, горы, менгиры, одиночные курганы, каменные выкладки и т.д.), используемых в ритуальной практике тюркского населения. Сопоставление сакральных представлений современных тюркских народов Южного Урала с различными типами иеротопий, центрами которых являются камни, позволило разделить верования, связанные с камнями и каменными сооружениями, на две группы:
-
1) верования, связанные с камнями природного (божественного) происхождения,
-
2) верования, связанные с камнями рукотворного происхождения.
К первой группе относятся следующие:
-
1. Верования, связанные с одиночными камнями. В большинстве случаев это камни известняки с антропоморфным обликом или камни следовики, ассоциирующиеся с легендарными личностями, святыми, пророками. В современной ритуальной практике тюркского населения они используются для вызова дождя, оздоровления, желания благополучной поездки. Примером могут служить «Пейгамбер Таш» (с башк. След пророка Мухаммеда) у д. Кадырша Зилаирского района Республики Башкортостан, «Махади-Таш» (с башк. камень Махди) у с.Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области.
-
2. Верования, связанные со скоплением камней. Камни, расположенные на расстоянии не более 50 м друг от друга, не имеющие аналогов в морфологии окружающего ландшафта, отличающиеся размерами, вследствие чего, почитающие выстраивают их в иерархию, называя наиболее большой «Братом», «Дедушкой» или каким-либо мужским именем. Скопления камней часто ассоциируются с легендарными предками. В религиозной практике тюркского населения Южного Урала они используются для проведения обряда вызова дождя: «Камни Лета» у д. Зириково Гафурийско-го района Республики Башкортостан, «Грозовые камни» у д. Ассы Белорецкого района Республики Башкортостан и др.
-
3. Верования, связанные со скалой(скалами), которые делятся на верования, связанные
-
1) со скалами, в очертании которых читаются антропоморфные фигуры. К данной подгруппе можно отнести религиозные воззрения, связанные с вариациями скал, называемых «Чертов палец» на хребте Яманкая, скалами «Чертов палец» и «Эбей таш» Абзелиловского района Республики Башкортостан, «Чертов палец» на р.Белой Бурзянского района Республики Башкортостан;
-
2) со скалами, имеющими пещеру, например, со скалой «Уклыкая» (с башк. Скала со стрелами) у д. Ташасты Гафурийского района Республики Башкортостан. Выделение данной подгруппы объясняется существованием культа стрельбы по скалам стрелами с боевым наконечником [ Котов, Овсянников, 1998], датируемого рубежом I и II тысячелетий [ Сметанин , 2001, с. 395], олицетворяющего процесс оплодотворения [ Ожередов , 1999, с. 108] и связанного с культом богини Хумай. Свидетельство существования данного культа фиксируется также на Камне Дыроватом на р. Чусовой [ Сериков, Скочина , 2011] и святилище Три Сестры в Среднем Зауралье. В современной религиозной культовой практике населения Южного Урала данный культ не сохранился.
-
-
4. Верования, связанные с горой. В большинстве своем это верования, связанные с почитанием духа-хозяина одинокой горы, Тура-Тау [ Котов , 2012, с. 95], Юрактау [ Гарустович , 2011, с. 404] Ишибайского района Республики Башкортостан, Курмантау (Жерственная гора), Айлегэн и другой
горы, являющейся вершиной горных массивов (горы Иремель, Ямантау Белорецкого района Республики Башкортостан, Масим-тау Бурзянского района Республики Башкортостан), или горы, имеющей неординарные явления (гора Янган-Тау Салаватского района Республики Башкортостан). А.Р. Ширгазин рассматривая вопросы расселения башкир, обращает внимание на то, что каждое родовое подразделение имело на своей территории священную гору [ Ширгазин , 2010, с. 169–184]
В сакральных представлениях современного тюркского населения Южного Урала культы, связанные с природными (божественными) камнями, теряют былое значение. На перечисленных объектах идут активные процессы десакрализации, обусловленные их хозяйственным освоением посредством включения в туристические маршруты и превращения в места отдыха и развлечений. Несмотря на это, часть объектов первой подгруппы продолжает занимать существенное место в верованиях современного населения [ Гарустович , 2011, с. 406], что приводит к мысли о том, что объект сакрализации, имеющий конкретный центр и занимающий небольшое пространство, более устойчив к процессам десакрализации. В этом плане несомненный интерес представляет рассмотрение второй группы верований, связанных с камнями и сооружениями из камня рукотворного происхождения, имеющими конкретные центры и четкие границы.
Исходя из известной типологии [ Савельев , 2012], данные верования можно разделить на четыре подгруппы:
-
1. Верования, связанные с менгирами, у тюркских народов Южного Урала. Восходят к культам населения бронзового века и напрямую зависят от их типов (одиночные, аллейные) и места нахождения. Одиночные менгиры располагаются, как правило, у тылового шва надпойменных террас либо вблизи террасы на небольшой возвышенности коренного берега. Большинство аллей менгиров находится топографически значительно выше, на склонах холмов [ Петров , 2007, с. 74]. Археологические исследования позволили обнаружить отсутствие рядом с большинством их погребальных сооружений, а также следов поминальных действий, свидетельствующих о том, что эти памятники, как правило, не имели отношения к погребальным обрядам. Можно предположить их связь с широко распространенным в кочевых культурах культом поклонения степным духам, также существовавшим и среди башкир [ Петров , 2007, с. 75]. Предположительно одиночные менгиры являлись границей освоенного и неосвоенного пространства, своего рода стражем жилища. Существующая традиция переноса или установки нового менгира как хранителя – «кута» жилища и ориентира для строительства выселка или новой улицы, фиксируемая у башкир, может являться доказательством существования данной разновидности культа. Расположение аллей менгиров в зоне прямой видимости, как правило, к югу от наиболее заметной вершины округи, может быть связано с почитанием горных духов, широко распространенным среди тюркского населения Южного Урала. Кроме упомянутых на территории Башкирского Зауралья (Баймакский и Абзелиловский районы Республики Башкортостан) выявлен иной тип расположения менгиров, не привязанный к поселениям и могильникам эпохи бронзы. Менгиры были установлены на вершинах и склонах гор, над долинами и ручьями, а также на террасах рек. Косвенные и прямые данные об этих объектах позволяют датировать их этнографическим временем [ Савельев , 2012, с. 144]. Исследователи делят эту выборку менгиров на три группы: ритуальные комплексы-мемориалы (Кынгыртау-18, Улькан-Сеялык, Абзаково), пространственные маркеры (Кынырташ -7, Кук-теке-1) и единичные культовые объекты (Сыгылтау-5, Янзигитово-2, Талкас-8), которые могут быть как поминальные, так и, возможно, погребальные [ Савельев , 2012, с. 145].
-
2. Верования, связанные с каменными пирамидами (караскы, обо) – объектами, сооружаемыми в основном населением южной части Башкирского Зауралья на вершинах гор, на перевалах вблизи постоянных поселений и границах освоения пространства. Предположительно они воздвигались в честь духов гор и территорий, причем постоянно достраивались. При подъеме на вершину горы для совершения обряда, посвященного духам родовой местности, надо было прихватить камень, поднявшись, положить его в караскы (башк. «стража») и провести обряд жертвоприношения в надежде получить надежную охрану своей родовой территории [ Аминев, 2011]. Некоторые кара-скы имели форму больших колонн или пирамид. Иногда в качестве основы служили каменные курганы раннего железного века, которые потом достраивались новыми выкладками и пирамидками. Нередко возле караскы встречались кучи хвороста или березовые ветки. В некоторые кучи камней были воткнуты шесты, на которых были насажены черепа баранов [ Котов , 2012, с. 98]. Современное тюркское население Южного Зауралья сохраняет традицию строительства караскы, но в боль-
- шинстве случаев не придает духовной составляющей данному процессу, сооружая их для отпугивания волков или препровождения времени во время пастьбы скота.
-
3. Верования, связанные с надгробными каменными сооружениями. Наиболее распространенным надгробным сооружением среди тюркского населения Южного Урала является каменная стела, эволюционировавшая от камня в изголовье «баш таш» (головной камень) к стеле – самой распространенной форме мусульманского надгробия – «сын таш» (намогильный камень). От значимости погребения зависит размер и материал надгробий. Особая сверхъестественная сила придается надгробным камням на могилах святых, мусульманского духовенства или дервишей. Например, у жителей д. Абдрашитово Дуванского района Республики Башкортостан фиксируются культы вызова дождя мытьем надгробного камня на могиле святого во время засухи или распространенные верования, связанные с растущими надгробными камнями в д. Абултаево Сафакулевского района Курганской области.
-
4. Верования, связанные с каменными курганами, оградками и выкладками. Широко распространены среди тюркских народов Южного Урала. Данные верования в большей степени связаны с обрядом почитания могил предков, сохранившимся на Южном Урале благодаря суннизму ханафи-тского мазхаба, достаточно «либеральному» для инкорпорирования доисламских верований и обрядов кочевников [ Сырзанов , 2006, с. 129]. На сегодняшний день археологами и этнографами выявлено более 100 подобных объектов. Наибольшее количество их расположено на территории восточной части хребта Уралтау. Распространенными случаями включения каменных курганов, оградок и выкладок в ритуальную сферу местного населения являются [ Аминев и др. , 2012] 1) установка караскы на вершинах курганов или рядом с ними (Оло-тау-2 Баймакского района Республики Башкортостан); 2) установка на курганах каменных оградок (Баишево-12 Баймакского района Республики Башкортостан); 3) хаотичные каменные наброски и выкладки на вершинах курганов; 4) расположение на курганах менгиров, выкладок и колец, использование в качестве аулия древних курганов; 5) возведение вокруг курганов каменных стенок-оград.
Современное тюркское население Южного Урала отмечает важную роль сакрального могильника в увековечивании памяти предков. Посещение возвышенности, на которой находятся курганы, стало неотъемлемой частью большинства мусульманских праздников. Особый интерес исследователей вызывают факты трансформации представлений о подобных объектах. Так, если среди старшего поколения достаточно четко фиксируется представление о сакральности только курганов, то представители среднего поколения сакрализуют уже прилегающее к курганам пространство или весь топос. Примером может послужить каменный курган близ д. Сураманово Учалинского района Республики Башкортостан, предположительно относящийся к эпохе раннего железного века или средневековья. В XIX–XX вв. курган использовался местными жителями как место исцеления заболеваний мочеполовой системы домашних животных. С недавних пор население начало называть курган «аулия кабере», связывая его со святым человеком, якобы захороненным в древности на этом месте [ Тузбеков, Бахшиев, 2013, с. 100].
В последние годы все больше исследователей обращают внимание на культовые объекты, используемые в ритуальной практике населения Южного Урала. Археологи и этнографы неоднократно отмечали значительную информативность культовых объектов как источника. Объекты культа выступали неразрывной частью экосистемы региона и регулировали механизмы традиционной жизнедеятельности. Рост религиозного сознания населения Южного Урала и интереса к архаичным верованиям на рубеже XX и XXI вв. обусловил развитие процесса сакрализации, в большинстве случаев наблюдающегося на объектах археологического наследия и культовых объектах, имеющих четкий центр и границы. Активное распространение упомянутых верований связывается с развитием процессов этнической самоидентификации населения Южного Урала, в ходе которых объект сакрализации выступает одним из способов сохранения народных традиций и формой приобщения к духовной культуре и мировоззрению предков, обусловленных потребностями внутреннего развития общества.
Список литературы Камни в ритуальной практике тюркского населения Южного Урала
- Inan A. Makaleler ve incelemeler. Ankara, 1998. Т. I
- Tanyu H. Turklerde Taslarla ilgili inanclar. Ankara, 1968
- Z. Velidi Togan. Umumi Turk Tannine Giris. Istanbul, 1981
- Абсалямова Ю.А. «Аулия зыяраты»: к вопросу о культе святых у башкир (на материалах Восточного Оренбуржья)//Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе: матер. III междунар. симпозиума. Уфа, 2008.
- Алтынбаев P.P. Фольклор башкир-катайцев (эпическое, лирическое и обрядовое творчество): дис....канд. филол. наук. Казань, 2013
- Аминев З.Г, Котов В.Т, Овсянников В.В., Савельев Н.С. Малые культовые объекты в Башкирском Зауралье: к постановке проблемы//Урал-Алтай: через века в будущее: матер. V Всерос. тюркологической конф., посвящ. 80-летию учреждения Ин-та истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. Уфа, 2012
- Аминев З.Г. Отголоски культа гор у башкир//Республика Хакасия как субъект Российской Федерации: матер. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию образования Республики Хакасия (23-24 июня 2011 г.). Абакан, 2011
- Гарустович Т.Н. Проявления оролатрии у башкир в этнографическом и археологическом контекстах//Духовная культура народов России: матер, заочной Всерос. науч. конф., приуроченной 75-летию докт. филол. наук Ф.А. Надыршиной. Уфа, 2011
- Котов В.Т. Элементы почитания гор на Южном Урале//Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. 2012. № 6 (62)
- Котов В.Т., Овсянников В.В. Археологические, этнографические свидетельства о почитании гор у башкир//Интеграция археологических и этнографических исследований: матер. VI междунар. науч. семинара. Омск; СПб., 1998. Ч. 1
- Кулиева Р.Г. Культ камня в Азербайджане (археолого-этнографическое исследование)/ред. Т. Бунятов; Ин-т археологии и этнографии. Баку, 2007
- Минеева И.М., Григорьев Н.Н. Древние каменные сооружения Южного Урала как объекты историко-культурного наследия народов России: к проблеме изучения и сохранения//Вестник Томского государственного университета. Сер.: История. 2013. №2 (22)
- Нагаева Л.И. Весенне-летние празднества и обряды башкир//Исследования по исторической этнографии Башкирии. Уфа, 1984
- Ожередов Ю.Н. Сакральные стрелы южных селькупов//Приобье глазами археологов и этнографов. Томск, 1999
- Петров Ф.Н. Древние культовые памятники почитания стихийных духов на территории степного Зауралья//Вестник Челябинского государственного университета. Сер. 10: Востоковедение. Евразийство. Геополитика. 2007. Вып. 7,№. 23 (101)
- Потемкина Т.М. Мегалитические сооружения Урала: структура сакрального пространства//Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 2 (15)
- Савельев Н.С Малые культовые объекты Южного Урала: от археологии к этнографической современности//Док. и матер, по истории Башкирского народа (с древнейших времен до середины XVI в.). Уфа, 2012
- Сериков Ю.Б., Скочина С.Н. Некоторые аспекты вторичного использования наконечников стрел с пещерного святилища на Камне Дыроватом (р. Чусовая)//Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. №2 (15)
- Сметанин А.В. Культ гор на Южном Урале//Историко-культурное наследие Северной Азии: Итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий: матер. XLI регион, археол.-этногр. студ. конф. Барнаул, 2001
- Сулейманова М.Н. Доисламские верования и обряды башкир: дис.... канд. ист. наук. Уфа, 1994
- Сызранов А.В. Культ мусульманских святых в Астраханском крае//Этногр. обозрение. №2. 2006
- Тузбеков А И., Бахшиев И.И. Объекты археологического наследия Башкирского Зауралья в современной ритуальной практике Юго-восточных башкир//Ислам и государство в России: сб. матер, междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 225 -летию Центрального духовного управления мусульман России -Оренбургского магометанского духовного собрания. Уфа, 2013
- Ширгазин А.Р. Расселение башкир в пределах родовых ареалов//Культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс. Уфа, 2010
- Шутова Н.И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: опыт комплексного исследования. Ижевск, 2001
- Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999
- Ажигали С.Е. Архитектура кочевников -феномен истории и культуры Евразии: памятники Арало-Каспийского региона. Алматы, 2002