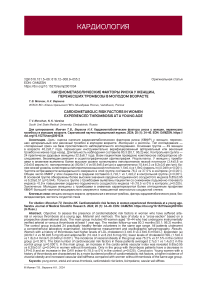Кардиометаболические факторы риска у женщин, перенесших тромбозы в молодом возрасте
Автор: Мовчан Т.В., Вереина Н.К.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Кардиология
Статья в выпуске: 1 т.20, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель: оценка наличия кардиометаболических факторов риска (КМФР) у женщин, перенесших артериальный или венозный тромбоз в молодом возрасте. Материал и методы. Тип исследования - «поперечный срез» на базе проспективного наблюдательного исследования. Основная группа - 49 женщин в возрасте 40,2±6,7 года, перенесших инструментально верифицированный артериальный или венозный тромбоз не менее года назад. Длительность наблюдения составила 80,3 [50,1; 96,2] мес. Контрольная группа - 24 практически здоровых женщины 32,8±6,7 года. Всем пациенткам проведено комплексное лабораторное обследование, биоимпедансометрия и осциллографическая сфигмография.
Женщины молодого возраста, артериальные и венозные тромбозы, факторы кардиометаболического риска, биоимпедансометрия, жесткость сосудистой стенки
Короткий адрес: https://sciup.org/149146378
IDR: 149146378 | УДК: 616.151.5-06: | DOI: 10.15275/ssmj2001034
Текст научной статьи Кардиометаболические факторы риска у женщин, перенесших тромбозы в молодом возрасте
EDN: OAMZSN
1Введение. По данным эпидемиологических исследований, в настоящее время наблюдается тенденция к росту частоты как артериальных (АТ), так и венозных тромбозов (ВТ) в молодой популяции, особенно среди женщин фертильного возраста. Так, при анализе, проведенном на базе национальной сети регистров в Нидерландах, объединяющей сведения о 15257 пациентах в возрасте от 18 до 49 лет, установлено, что частота всех инсультов за декаду (1998–2010) возросла с 14 до 17,2 на 100 тыс. человек (+23%; p <0,001), преимущественно за счет ишемического инсульта (ИИ), и была выше именно у женщин в когорте 18–44 года [1]. Согласно данным другого крупного регистра, Helsinki Young Stroke Registry ( N =1008 человек), частота ИИ у лиц 15–45 лет в среднем составила 3,4–21,7 на 100 тыс. человек. При этом у женщин 20–35 лет она вновь оказалась выше, чем у мужчин того же возраста, и имеет достоверную тенденцию к росту за последние 30 лет [2].
Частота инфарктов миокарда (ИМ), по данным Фремингемского исследования, у молодых женщин низкая и составляет в среднем 7 на 100 тыс. человек [3]. В то же время в исследовании 2019 г. S. Arora и соавт. при изучении 20-летнего тренда установлено повышение частоты госпитализаций и летальности у молодых женщин с ИМ в возрасте 35–54 лет в сравнении с мужчинами. Доля госпитализированных молодых женщин с ИМ увеличилась с 21 % в 1995-1999 гг. до 31 % в 2010-2014 гг., при этом доля мужчин оставалась относительно стабильной (от 30 до 33%) [4]. По данным крупных эпидемиологических исследований, заболеваемость венозными тромбоэмболическими осложнениями у женщин, не применяющих комбинированные гормональные контрацептивы (КГК), составляет 5–10 на 10 тыс. человек, возрастая в среднем в 2–3 раза на фоне эстрогенге-стагенсодержащих препаратов — КГК, в 5–7 раз — во время беременности и более чем в 10 раз — в послеродовой период [5, 6].
В свете активно разрабатываемой теории об общности патогенетических механизмов АТ и ВТ [7, 8] важно отметить, что взаимодействие гендерных и кардиометаболических факторов риска (КМФР) у молодых женщин могут привести к формированию и более быстрому прогрессированию эндотелиальной дисфункции, атеросклероза и быть причиной рецидива тромбоза, в том числе в других сосудистых бассейнах [9, 10].
Цель — оценка наличия кардиометаболических факторов риска у женщин, перенесших артериальный или венозный тромбоз в молодом возрасте.
Материал и методы. Тип исследования — «поперечный срез» на базе проспективного наблюдательного исследования. Источниковая популяция — женщины, направленные в городской отдел патологии гемостаза г. Челябинска (ГАУЗ «Городская клиническая больница №11»). Критерии включения: возраст 18–44 года, женский пол, согласие на участие в исследование. В основную группу вошли 49 женщин, перенесших инструментально верифицированный АТ и ВТ не менее года назад. Среди пациенток с тромбозами 29 (59,2%) женщин имели венозные тромбоэмболические осложнения (тромбоэмболию легочной артерии с установленным и без установленного источника — 7 человек; тромбоз глубоких вен
нижних конечностей — 22 человека); 16 (32,7%) — АТ в виде ИИ; 4 (8,2%) — ВТ синусов. В данную группу не включали пациенток, перенесших тромбоз на фоне беременности или в послеродовой период до 6 нед. Медиана наблюдения в этой выборке составила 80,3 [50,1; 96,2] мес; в среднем 6,7 года. Объем и продолжительность антитромботической терапии в каждом случае соответствовали общепринятым рекомендациям. В процессе динамического наблюдения в данной группе рецидивов тромбоза не было. В контрольную группу включены 24 практически здоровых женщины-волонтера без тромбозов в анамнезе в сопоставимом возрастном диапазоне, согласившихся на участие в исследовании. Общие критерии исключения: психические заболевания, затрудняющими продуктивный контакт; женщины без постоянного места жительства.
Проведен сбор жалоб, анамнеза, клинический осмотр всех пациенток. Антропометрические характеристики, включая массу тела, рост и окружность талии (ОТ) и отношение ОТ к окружности бедер (ОТ/ОБ), определяли стандартными методами. Лабораторное исследование проведено в Центральной научно-исследовательской лаборатории и НИИ иммунологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Образцы крови взяты после 12-часового голодания. Для оценки углеводного обмена исследовали: глюкозу плазмы натощак, гликированный гемоглобин, инсулин натощак с расчетом индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR). Гиперинсулинемия диагностировалась при значениях инсулина более 12 мкЕД/мл натощак. Изучали также уровни общего холестерина (ОХС), ХС липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов, липопротеина — ЛП (а) и мочевой кислоты. Кроме того, проведено определение концентрации в плазме адипонектина (АН), лептина с расчетом отношения лептин/АН, а также ингибитора активатора плазминогена 1-го типа (PAI-1). Используемые анализаторы: биохимический — Biochem Analette (High Technology, США; реактивы «Вектор-Бест», Россия) и иммуноферментный (Personal Lab, Италия; реактивы Diagnostics Biochem Canada Inc, Канада, АssayPro, США, Technoclone, Австрия, Monobind, США). Оценку уровня показателей проводили в соответствии с референсными нормативами, указанными в инструкции фирмы-производителя. Гиперурикемию устанавливали при уровне мочевой кислоты >360 мкмоль/л, верхней границей нормального диапазона для ЛП (а) считался уровень 30 мг/дл [11-13].
Кроме того, для определения фенотипа нарушений жирового обмена всем участницам исследования проведена биоимпедансометрия на анализаторе состава тела человека InBody 370 с компьютерным программным обеспечением производства фирмы InBody (Южная Корея) с определением общей доли жира в организме и уровня висцерального жира. Норму процентного содержания жировой ткани у здоровых женщин, рассчитываемого как отношение массы жира в организме к общей массе тела (кг), принимали за 25-30%.
Для оценки жесткости артерий в обеих группах выполнена осциллографическая сфигмография на аппаратном комплексе Vasera VS — 1000 производства фирмы Fucuda (Япония). В основу методики положена регистрация сфигмограмм на четырех конечностях c вычислением ряда параметров, в том числе лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ),
Таблица 1
Доля женщин, имеющих кардиометаболические, поведенческие факторы риска и соматические заболевания в сравниваемых группах
Статистическая обработка данных проведена с помощью программ SPSS 23.0 и MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium (2020). Для оценки различий в количественных признаках между двумя группами при распределении, близком к нормальному, и однородности дисперсий групп применяли t -критерий Стьюдента, в остальных случаях — непараметрический U -критерий Манна — Уитни. Для тестирования на нормальность распределения использовался критерий Шапиро — Уилка. Качественные признаки описаны абсолютными и относительными частотами в процентах. При анализе количественных показателей, имеющих нормальное распределение, проводили расчет средних арифметических величин ( М ) и стандартных отклонений ( SD ); при распределении, отличающегося от нормального, данные приведены в виде медианы и 25–75-го перцентилей ( Ме ; 25-75%). Оценку межгрупповых различий по качественным признакам проводили с использованием критерия χ2 Пирсона. При ожидаемых частотах менее 10 — с поправкой Йейтса, а при ожидаемых частотах менее 5 — с помощью точного двустороннего теста Фишера. Статистически значимым принимался уровень р <0,05.
Результаты. Данные о частоте встречаемости кардиометаболических, поведенческих факторов и соматических заболеваний в группах представлены в табл. 1. Необходимо учесть, что, несмотря на единый возрастной диапазон, средний возраст женщин в группе «случаи» оказался значимо выше и составил 40,2±6,7 года, тогда как в группе контроля — 32,8±6,7 года (р<0,001). Тем не менее в обеих группах отмечалась высокая распространенность дислипидемии в целом (75,5 и 62,5%) и гипергликемии натощак без значимых межгрупповых различий. Доля женщин с инсулинорезистент-ностью (HOMA-IR>2,77) в группе с тромбозами оказалась в 4,9 раза выше и составила 20,4 vs 4,2% в контроле, не достигая статистических различий. В группе с тромбозами достоверно преобладала доля женщин, имеющих повышенный индекс массы тела — 23 (46,9%) vs 0 (p<0,001). В основной группе преобладала доля курящих женщин — 18 (36,7%) vs 3 (12,5%) (p=0,06). После перенесенного тромботического события пациентки из основной группы не принимали КГК, в то время как 8 (33,3%) человек из группы контроля применяли низкодозированные КГК с содержанием этинилэстрадиола 30 мкг/сут. По среднему количеству факторов риска группы достоверно различались 2,7±0,1 vs 1,4±0,2 (p<0,001). Установлено, что в группе с тромбозами в анамнезе у 46 (94%) из 49 пациенток на момент исследования были хронические соматические заболевания, тогда как в контроле последние отмечены всего у 6 (27,3%) женщин; p <0,01. В основной группе в структуре патологии на 1-м месте были заболевания сердечно-сосудистой системы (30 человек). Все эти пациентки имели варикозное расширение вен нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью ≥2s-стадии по классификации СЕАР, учитывающей клинические проявления (C — clinic), этиологию (E — etiology), анатомическую локализацию (A — anatomy) и патогенез (P — pathogenesis) заболевания. На момент обследования диагноз артериальной гипертензии среди женщин с тромбозами в анамнезе не установлен, но при ретроспективном анализе и последующем наблюдении у 10 из 49 человек выявлена гипертоническая болезнь I стадии и у 2 — II стадии. Фибрилляции предсердий в данной группе не зафиксировано. На 2-м месте оказались болезни органов пищеварения (29 человек), на 3-м — опорно-двигательной системы и системные заболевания соединительной ткани (9 человек). Два и более хронических соматических заболевания в данной группе обнаружено у 30 (61,2%) пациенток. В контрольной группе 3 человека имели хронический тонзиллит в фазе компенсации; 2 — пролапс митрального клапана 1-й степени с регургитацией 1-й степени; 4 — варикозное расширение вен нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью 1s-стадией по СЕАР; в двух случаях указанные патологии сочетались.
Средние значения изучаемых показателей КМФР представлены в табл. 2. Более демонстративными оказались различия в липидном спектре. В основной группе регистрирован более высокий уровень
Таблица 2
Показатели жирового, углеводного обменов, мочевой кислоты и уровня адипокинов в сравниваемых группах ( M±SD ; Ме ; 25-75%)
|
Лабораторный показатель |
С тромбозами в анамнезе, N =49 |
Контроль (без тромбозов), N =24 |
р |
|
Общий ХС, ммоль/л |
5,4±1,0 |
5,3±0,9 |
0,828 |
|
ХС ЛПВП, ммоль/л |
1,5±0,4 |
1,8±0,4 |
0,023 |
|
ХС ЛПНП, ммоль/л |
3,4±0,8 |
2,6±0,6 |
<0,001 |
|
Триглицериды, ммоль/л |
1,1±0,6 |
1,0±0,5 |
0,702 |
|
ЛП (а), мг/дл |
90,6±7,4 |
56,9±8,5 |
0,049 |
|
Глюкоза натощак в венозной крови, ммоль/л |
4,8±0,8 |
4,8±0,6 |
0,948 |
|
Мочевая кислота, ммоль/л |
217,6±70,7 |
235,6±64,4 |
0,296 |
|
Гликированный гемоглобин, % |
5,7±0,5 |
5,6±0,5 |
0,458 |
|
Инсулин натощак, мкЕд/л |
3,84 1,36–11,54 |
2,80 2,27–4,08 |
0,173 |
|
Индекс HOMA-IR |
0,65 0,28–2,81 |
0,63 0,48–0,88 |
0,136 |
|
Лептин, нг/мл |
9,14 13,89–41,44 |
14,02 8,05–34,83 |
0,246 |
|
АН, мкг/мл |
10,4±4,3 |
8,2±3,6 |
0,039 |
|
Лептин/АН |
0,17 0,07–0,76 |
2,07 0,94–4,18 |
<0,001 |
|
PAI-1, нг/мл |
166,1 ±28,8 |
161,3±23,9 |
0,610 |
Таблица 3
Показатели биоимпедансометрии в сравниваемых группах
|
Показатель |
С тромбозами в анамнезе, N =49 |
Контроль (без тромбозов), N =24 |
р |
|
Индекс массы тела, кг/м2 |
25,6±5,7 |
21,3±2,0 |
|
|
ОТ/ОБ |
0,93±0,08 |
0,85±0,04 |
|
|
Доля лиц с повышенным отношением ОТ/ОБ (>0,85), абс. (%) |
32 (76,2%) |
9 (37,5%) |
|
|
Содержание жира в теле (body fat mass), кг |
25,3±12,2 |
15,03±5,07 |
<0,001 |
|
Доля жира в организме (percent body fat), референсные значения: 25-30% |
34,03±9,5 |
24,85±6,81 |
|
|
Уровень висцерального жира (visceral fat level), % |
11,4±5,9 |
6,12±2,4 |
|
|
Доля лиц с содержанием жира в организме >30%, абс. (%) |
34 (81 %) |
4 (16,7%) |
ХС ЛПНП (3,4±0,8 vs 2,6±0,6 ммоль/л; р <0,001), превышающий общепринятую норму, и более низкий — ХС ЛПВП (1,5±0,4 vs 1,8±0,4 ммоль/л; р =0,001). Cредний уровень ЛП (а) также повышен у женщин с тромбозами в сравнении с контрольной группой — 90 и 56,9 мг/дл, соответственно ( р =0,049). У женщин с тромбозами в анамнезе также оказался более высокий уровень АН (10,4±4,3 vs 8,2±3,6 мкг/мл; р <0,001) и более низкое соотношение лептина к АН по сравнению с контрольной группой (0,17; 0,07–0,76 vs 2,07; 0,94–4,18; р <0,001). По показателям углеводного обмена, включая уровень инсулина и индекс инсулинорезистентности, средние значения были выше в основной группе, но значимых межгрупповых различий не получено. Уровень PAI-1 также оказался сопоставим в обеих группах.
В основной группе 33 пациентки (68,6%) имели избыточную массу тела (23 человека) и ожирение 1-й степени (10 человек), в контрольной группе все пациентки имели нормальную массу тела. При этом отношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) в основной группе также оказалось значительно выше (0,93±0,08 и 0,85±0,04; p<0,001). Таким образом, частота встречаемости висцерального ожирения в основной группе составила 76,2 vs 37,5% в контроле (p<0,001).
Проведена оценка состава тела в сравниваемых подгруппах методом биоимпедансометрии (табл. 3). В основной группе выявлены более высокие значения как общего, так и висцерального жира. Содержание висцерального жира у женщин с тромбозами в анамнезе составила 11,4±5,9 vs 6,12±2,4% ( p <0,001). Каждая 2-я женщина в данной подгруппе (52,3%) имела содержание висцерального жира более верхней границы нормальных значений (9%), тогда как в подгруппе сравнения эта доля составила только 12,5%.
Таблица 4
|
Показатели сфигмографии женщин в сравниваемых подгруппах |
|||
|
Показатель |
С тромбозами в анамнезе, N =49 |
Контроль (без тромбозов), N =24 |
р |
|
ЛПИ (слева) L-ABI |
1,06±0,1 |
1,04±0,1 |
0,396 |
|
ЛПИ (справа) R-ABI |
1,05±0,1 |
1,04±0,1 |
0,849 |
|
Доля лиц с ЛПИ<0,9, абс. (%) |
9 (18,4%) |
0 |
0,025 |
|
CAVI (слева) |
6,84±0,94 |
6,27±0,52 |
0,069 |
|
CAVI (cправа) |
6,85±0,95 |
6,20±0,51 |
0,044 |
|
Доля лиц с CAVI>8, абс. (%) |
9 (18,4%) |
0 |
0,025 |
|
Доля лиц с САД>140 и/или ДАД>90 мм рт. ст. по результатам сфигмографии, абс. (%) |
13 (26,5%) |
0 |
0,006 |
Результаты сфигмографии представлены в табл. 4. При нормальных и сопоставимых средних значениях только в группе с тромбозами выявлены пациентки со снижением ЛПИ<0,9 и повышением индекса CAVI (9 человек; 18,4 vs 0% в контроле; р =0,025). У 13 (26,5%) из 49 женщин из группы с тромбозами в анамнезе на момент проведения исследования фиксировались уровни САД и/или ДАД, превышающие уровень 140 и/или 90 мм рт. ст. Все женщины в контрольной группе имели нормальный уровень АД.
Обсуждение. При сравнении группы пациенток, перенесших тромбоз в возрасте 18–44 лет через 6±3,3 года от манифестации тромбоза, со здоровыми женщинами той же возрастной категории прежде всего выявлены более высокие уровни ХС ЛПНП и более низкие уровни — ХС ЛПВП. Необходимо отметить, что значимые различия между группами получены также по уровню ЛП (а). Последний представляет собой уникальный комплекс, состоящий из ЛПНП и аполипопротеина (а), присоединенного к аполипопротеину В через дисульфидную связь. По данным ряда исследований, ЛП (а) независимо связан с повышенным риском ишемической болезни сердца, атеросклероза, тромбоза, инсульта, стеноза аортального клапана и сердечной недостаточности. Из-за структурного сходства с плазминогеном ЛП (а) рассматривается как его конкурентный антагонист, проявляя антифибринолитическое действие. Он способен активировать адгезию и агрегацию тромбоцитов, связываться с другими протромботическими белками — среди них α2-макроглобулин (ингибитор плазмина) и ингибитор тканевого активатора плазминогена [11–13]. Европейское кардиологическое общество и Европейское общество по изучению атеросклероза дали рекомендацию IIa с уровнем доказательности C для измерения ЛП (а) у пациентов с преждевременными сердечно-сосудистыми заболеваниями, семейной гиперхолестеринемией, семейным анамнезом преждевременных сердечнососудистых заболеваний или семейным анамнезом повышенного ЛП (а) [14]. Определение ЛП (а) следует выполнять хотя бы однократно всем взрослым в течение жизни с целью выявления лиц с очень высоким наследственным уровнем ЛП (а) >180 мг/дл, у которых риск развития сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза аналогичен риску, ассоциированному с гетерозиготной семейной формой гиперхолестеринемии, верхней границей нормы считается уровень 50 мг/дл. Средний уровень ЛП (а) в основной группе достигал 90,6 мг/дл, что, очевидно, должно нацеливать врача на поиск данного типа дислипидемии у молодой женщины с тромбозом в анамнезе.
Нами установлено, что в основной группе значительно больше женщин с повышенным уровнем висцерального жира относительно контрольной группы. Оценка компонентного состава тела методом биоимпедансометрии заключается в определении сопротивления прохождению переменного электрического тока (потоком около 800 мкА и с частотой, как правило, 50 кГц) в биологических тканях. На основе биоимпедансометрии более точно определить компонентный состав тела человека, особенности их распределения, исключить «ложное ожирение», оценить наличие и распределение воды в организме, а также интенсивность основного обмена [15]. По современным представлениям, именно висцеральная жировая ткань является эндокринным органом, которая не только депонирует липиды, но и секретирует различные биологически активные вещества, такие как цитокины, адипокины, хемокины и гормональные факторы, регулирующие метаболические процессы в организме, влияющие на воспаление, тромбооб-разование и эндокринные функции. Наиболее известным провоспалительным адипокином является лептин. Синтезируясь главным образом в адипоцитах, он обеспечивает центральный контроль веса через родственный рецептор в гипоталамусе и способен снижать аппетит, стимулируя гипоталамус анорексигенными пептидами. Вызванная ожирением гиперлептинемия стимулирует продукцию провоспа-лительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли α, интерлейкины 6, 2, 1β и интерферон-γ, моноциты и Т-хелперы 1, а также ингибирует производство противовоспалительного цитокина интерлейкина-4. Гиперлептинемия способствует не только усилению секреции воспалительных цитокинов, но и окислительному стрессу за счет увеличения образования активных форм кислорода, что вызывает формирование эндотелиальной дисфункции и усугубление дислипидемии. Повышенный уровень лептина коррелирует с развитием атеросклероза и является независимым предиктором прогрессирования толщины комплекса интима — медиа сонных артерий. Лептин может стимулировать пролиферацию и миграцию гладкомышечных клеток сосудов, которые играют важную роль в формировании и развитии сосудистых поражений. Доказана протромботическая активность лептина, проявляющаяся через стимуляцию агрегации тромбоцитов и ингибирующее влияние на коагуляцию и фибринолиз, что может быть связано со стимуляцией протеинкиназы С, фосфолипазы Сγ2 и фосфолипазы А2. АН, в свою очередь, повышает чувствительность к инсулину и окисление жирных кислот, а также снижает выработку глюкозы в печени. Опосредованная АН активация эндотелиальной синтазы оксида азота обеспечивает адекватную вазодилатацию. Было обнаружено, что повышенные уровни циркулирующего АН положительно коррелируют с ХС ЛПВП в сыворотке, соотношением общего ХС/ХС ЛПНП и антиоксидантной способностью и обратно связаны с HOMA-IR и перекисным окислением липидов в сыворотке [16–19]. При исследовании уровня адипокинов нами обнаружен более высокий уровень лептина в основной группе, но без достижения статистической значимости. Наряду с этим у пациенток с тромбозами в анамнезе выявлены более высокие значения АН и более низкое отношение лептин/АН в сравнении со здоровыми ровесницами, что, очевидно, отражает компенсаторную реакцию у молодых женщин, направленную на снижение выраженности провоспалительного и протромботиче-ского ответов.
По результатам осциллографической сфигмографии в основной группе выявлены 9 пациенток (18,5%) с повышением CAVI>8 и снижением ЛПИ<0,9; тогда как у всех здоровых женщин того же возраста значения индексов были в нормальном диапазоне. Определение артериальной жесткости является интегральным и независимым показателем сердечно-сосудистого риска, отражающим реализованное воздействие отрицательных факторов на организм человека в течение жизни. Предполагается, что большинство кардиоваскулярных факторов риска реализует свое влияние именно через воздействие на сосудистую стенку. По мере их увеличения достоверно возрастает жесткость и снижается растяжимость сосудов эластического и мышечного типов. Доказаны диагностическая и прогностическая взаимосвязи показателей артериальной жесткости как с сердечно-сосудистыми факторами риска, так и с клиническими состояниями: артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ревматоидным артритом, атеросклерозом, хронической болезнью почек, сахарным диабетом и т. д. [20, 21].
Исследования, посвященные проспективной оценке КМФР у молодых женщин, имеющих как АТ, так и ВТ в анамнезе, малочисленны и посвящены преимущественно долгосрочному прогнозу после артериальных ишемических событий. Так, было выявлено формирование состояния хронической гиперкоагуляции, усугубления эндотелиальной дисфункции и повышенный риск ретромбоза в различных сосудистых бассейнах у молодых женщин, перенесших ИИ или ИМ [9]. Вместе с тем наши результаты согласуются с работами P. Prandoni и С. Lind и соавт., где была установлена связь между эпизодом ВТ и последующим усугублением КМФР с формированием АТ [7, 8].
Заключение. Молодые женщины с тромбозами в анамнезе характеризуются более отягощенным профилем КМФР по сравнению с женщинами без тромбозов той же возрастной категории. У них выявлены: более высокие уровни ХС ЛПНП, ЛП (а) и АН, более низкий уровень ХС ЛПВП; высокая частота встречаемости висцерального ожирения и повышение жесткости сосудистой стенки по сравнению с женщинами без тромбозов той же возрастной категории.
Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Список литературы Кардиометаболические факторы риска у женщин, перенесших тромбозы в молодом возрасте
- Ekker MS, Verhoeven Jl, Vaartjes I, et al. Stroke incidence in young adults according to age, subtype, sex, and time trends. Neurology. 2019; 92 (21): e2444-54. DOI: 10.1212/ WNL.0000000000007533
- Putaala J, Metso AJ, Metso TM, et al. Analysis of 1008 consecutive patients aged 15 to 49 with first — ever ischemic stroke: the Helsinki young stroke registry. Stroke. 2009; 40 (4): 1195-203. DOI: 10.1161/STROKEAHA
- Gordon T, Kannel WB. Predisposition to atherosclerosis in the head, heart, and legs. The Framingham study. JAMA. 1972; 221 (7): 661-6. PMID: 4261853
- Arora S, Stouffer GA, Kucharska-Newton AM, et al. Twenty year trends and sex differences in young adults hospitalized with acute myocardial infarction. Circulation. 2019; 139(8): 1047-56. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037137
- Weill A, Dalichampt M, Raguideau F, et al. Low dose oestrogen combined oral contraception and risk of pulmonary embolism, stroke, and myocardial infarction in five million French women: Cohort study. BMJ. 2016; 353: i2002. DOI: 10.1136/bmj. i2002
- Heinemann LA, Dinger JO Range of published estimates of venous thromboembolism incidence in young women. Contraception. 2007; 75 (5): 328-36. DOI: 10.1016/j. contraception.2006.12.018
- Prandoni P. Venous and arterial thrombosis: Is there a link? Adv Exp Med Biol. 2017; 906: 273-83. DOI: 10.1007/5584_2016_121
- Lind C, Flinterman LE, Enga KF, et al. Impact of incident venous thromboembolism on risk of arterial thrombotic diseases. Circulation. 2013; 129 (8): 855-63. DOI: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.113.004168
- Maino A, Algra A, Peyvandi F, et al. Hypercoagulability and the risk of recurrence in young women with myocardial infarction or ischaemic stroke: A cohort study. ВМС Cardiovasc Disord.2019; 19(1): 55. DOI: 10.1186/s12872-019-1040-4
- Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода СВ. и др. Артериальная гипер-тензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020; 25 (3): 3786. DOI: 10.15829/1560-4071 -2020-3-3786
- Арабидзе Г. Г., Жлоба А. А., Ройтман А. П. Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена и развития атеросклероза. Атеросклероз и дислипидемии. 2021; 4 (45): 5-16. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2021.04.0001
- Кухарчук В. В., Ежов М.В., Сергиенко И. В. и др. Клинические рекомендации Евразийской ассоциации кардиологов (ЕАК)/Национального общества по изучению атеросклероза (НОА, Россия) по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза (2020). Евразийский кардиологический журнал. 2020; 2 (31): 6-29. DOI: 10.38109/2225-1685-2020-2-6-29.
- Simikas S, Fazio S, Ferdinand КС, et al. NHLBI Working Group Recommendations to Reduce Lipoprotein (a) — Mediated risk of cardiovascular disease and aortic stenosis. J Am Coll Cardiol. 2018; 16; 71 (2): 177-92. DOI: 10.1016/j.jacc. 2017.11.014
- TanakaA, Tomiyama H, MaruhashiT, et al.; Physiological Diagnosis Criteria for Vascular Failure Committee. Physiological diagnostic criteria for vascular failure. Hypertension. 2018; 72 (5): 1060-71. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11554
- Драпкина O.M., Максимова О.А., Шептулина А.Ф., Джиоева О.Н. Биоимпедансный анализ состава тела: что важно знать терапевту? Профилактическая медицина. 2022; 25 (10): 91-6. DOI: 10.17116/profmed20222510191
- Кытикова О. Ю., Антонюк М.В., Кантур Т. А. и др. Распространенность и биомаркеры метаболического синдрома. Ожирение и метаболизм. 2021; 18 (3): 302-12. DOI: 10.14341 /ometl 2704
- Лавренова E.A., Драпкина O.M. Инсулинорезистентность при ожирении: причины и последствия. Ожирение и метаболизм. 2020; 17 (1): 48-55. DOI: 10.14341/omet9759
- Оганов P. Г., Симаненков В. И., Ба-кулин И. Г. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019; 18 (1): 5-66. DOI: 10.15829/1728-8800-2019-1 -5-66
- Kirichenko TV, Markina YV, Bogatyreva Al, et al. The role of adipokines in inflammatory mechanisms of obesity. Int J Mol Sci. 2022; 23 (23): 14982. DOI: 10.3390/ijms232314982
- Miyoshi T, Ito H. Arterial stiffness in health and disease: The role of cardioankle vascular index. J Cardiol. 2021; 78 (6): 493-501. DOI: 10.1016/j.jjcc.2021.07.011
- Васюк Ю.А., Иванова СВ., Школьник Е.Л. и др. Согласованное мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016; 15 (2): 4-19. DOI: 10.15829/1728-8800-2016-2-4-19