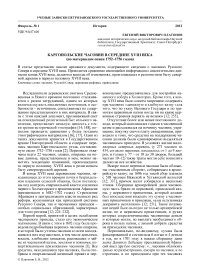Каргопольские часовни в середине XVIII века (по материалам описи 1752-1756 годов)
Автор: Платонов Евгений Викторович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (122), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ архивного документа, содержащего сведения о часовнях Русского Севера в середине XVIII века. Проводится сравнение имеющейся информации с аналогичными данными конца XVII века, делаются выводы об изменениях, произошедших в религиозном быту северной деревни в первую половину XVIII века.
Часовни, русский север, церковная реформа, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/14750068
IDR: 14750068 | УДК: 94(47).06
Текст научной статьи Каргопольские часовни в середине XVIII века (по материалам описи 1752-1756 годов)
Исследователи деревенских святынь Средневековья и Нового времени постоянно сталкиваются с рядом затруднений, одним из которых является скудость письменных источников, в особенности – источников, сопоставимых по содержанию представленного в них материала. В связи с этим каждый документ, проливающий свет на повседневный религиозный быт сельского населения, представляет немалую ценность с точки зрения исторической этнографии [14; 148], позволяя проводить сравнения с более поздним этнографическим материалом [16], [17]. Один из таких документов хранится в Государственном архиве Новгородской области и содержит перепись часовен Каргопольского уезда, составленную около 1752–1756 годов [2]. Переписью охвачены всего 22 часовни, однако, опираясь на новые данные, представленные в нем, можно наметить тенденцию изменений, произошедших за первую половину XVIII века в религиозном быту севернорусской деревни.
В конце XVII века деревенские часовни, находившиеся до этого времени почти в безраздельном владении сельской общины, были поставлены под контроль епархиальной власти усилиями первого Холмогорского архиепископа Афанасия (архиепископ в 1682–1702 годах). Стремление Афанасия к централизации власти вызвало ряд реформ, коснувшихся как приходской системы Русского Севера, так и часовенных приходов – особых социальных образований, характерных для этого региона [12; 224–232].
Первой мерой, принятой в целях ослабления часовенного прихода, стало его экономическое подчинение. В связи с этим в 1692 году была проведена подробнейшая перепись часовен епархии, в которой были учтены часовни со всем находящимся в них имуществом, в том числе деньгами, воском, хлебными запасами, расписками о займе из часовенной казны, землями и пожнями, пожертвованными прихожанами часовням [1]. Все средства, находившиеся при часовнях, были отобраны в епархиальный казенный приказ и пер
воначально предназначались для постройки каменного собора в Холмогорах. Кроме того, к концу XVII века было совсем запрещено содержать при часовнях «денежную и хлебную» казну «для того, что по указу Великого Государя и по грамотам церковным казны нигде ни на какие церковные строения держать не велено» [12; 255].
Отсутствие более или менее постоянного дохода, который скапливался годами в часовенной казне и расходовался на починку часовни, украшение, покупку свеч и плату священникам, приводило к тому, что средства на поддержание часовни должны были единовременно выделяться часовенным приходом. В условиях жизни мало-дворных северных деревень (у 273 часовен из 434, согласно переписи, находилось от 1 до 9 дворов, и только у 77 – от 10 до 30 дворов, большей частью 10–12) такие траты могли себе позволить далеко не все хозяйства.
Вскоре после переписи часовни были обложены «часовенным сбором», собираемым в архиерейскую казну: на 1696 год такой сбор платили с 518 часовен Важской и Устьянской волостей [12; 337], причем налог собирался в несколько этапов. Сборщики архиерейской дани часовенную часть брали из церковной, приходской казны, у церковного приказчика, который должен был впоследствии взыскать эту сумму с часовенных приказчиков и прихожан, «а на ослушниках доправить неотложно» [12; 251]. Такое положение вещей было выгодно не только архиерейской казне, но и церковным приказчикам, в руках которых сосредотачивались часовенные деньги и которые могли, по выплате необходимого оброка в пользу казны, с лихвой добрать средства на приходских часовнях.
Первоначально, по-видимому, сумма была фиксированной и составляла 6 алтын и 4 деньги в год, но в 1701 году в наказе сборщику дани дьяку Даниилу Лебедеву преосвященный Афанасий ввел другую систему: «…часовни обложить данью по разсмотрению, смотря по часовни, и по строению, и по приходским при тех часовнях людем, а менши 2 алтын и 10 денег скудных часовен не окладывать… а прежний оклад, да то, что сбирано по 6 алтын по 4 денги с часовни, без разбору оставить», то есть более не взимать [18; 22–23].
Помимо изменений в приходской жизни, инициированных первым Холмогорским архиепископом, на перемены в религиозном быту северной деревни повлияла и государственная политика в отношении церкви. Первая половина XVIII века ознаменовалась рядом указов, направленных на изменение и ограничение религиозных практик, сложившихся на протяжении XVII века в городах и селах.
Указ Петра I 1707 года и синодальный указ от 28 марта 1722 года, запрещая строить новые часовни и предписывая разобрать старые, одной из своих целей имел привлечение прихожан в церкви, «понеже во градех и селех обретается и кроме часовен довольно церквей, для славословия Божияго имени, правильно созданных и посвященных». Православных христиан Синод увещевал: «…снабдевать потребами, без которых быть невозможно, приходскую свою церковь по возможности и в ней служащих священников и прочих причетников, яко всегдашних молитвенников о своих прихожанех, такожде не презирать убогой своей (паче же Христовой) братии» [6; 156–157]. Иконы и часовенную утварь предписывалось отдавать монастырям и церквам, в первую очередь приходским или нуждающимся в восстановлении [6; 157]. Так, в том же 1722 году иконы, утварь и книги из ряда часовен Новгородской епархии были переданы священнику Ивану Петрову в Николо-Дворищенский собор, пострадавший незадолго до этого от пожара: всего в собор поступило имущество около 20 часовен. С тех священников, в приходах которых часовни не были разобраны, взимался штраф [3].
Однако сопротивление крестьян выполнению указа было настолько сильным, что вскоре пришлось изменять и корректировать политику в отношении часовен, чему способствовал доклад пятого Холмогорского архиепископа Варнавы Волатковского (архиепископ в 1712–1730 годах). В донесении, присланном в конце 1726 года вместе с рапортом об исполнении указа 1722 года, Варнава упоминал о большом количестве крестьянских просьб о возобновлении часовен, после чего решением Синода от 5 мая 1727 года неразобранные часовни было приказано оставить, а «которые и разобраны, а будут просители, чтоб их паки возобновить и взятые из тех часовен святые иконы отдать», разрешить выстроить вновь, отдав рассмотрение этого вопроса в ведение епархиальных архиереев, а в синодальной области – Духовной дикастерии, «не утруждая о том впредь Святейшего Синода» [8; 551–552].
Впоследствии контроль за часовенным строительством все более ослабевал: в 1734 году с под- тверждением запрещения новых построек он был поручен духовным и светским управителям, которых назначал архиерей [9; 227–228], а с 1738 года – благочинному [10; 169]. В этот период, как показывают более поздние переписи часовен, большинство построек возводились крестьянами самостоятельно, без уведомления благочинного и даже приходских священников, которые, впрочем, фактически поддерживали инициативу крестьян и почти никогда не сообщали добровольно епархиальному начальству о самовольных постройках.
Таковы были обстоятельства, немало повлиявшие на религиозную жизнь северных деревень, что отразилось в материалах описи 1752 года. В документе не указано, в связи с чем была проведена работа по обследованию построек: дело предваряет промемория от 4 ноября 1743 года, однако она посвящена совсем другому вопросу – злоупотреблениям управляющих в монастырских вотчинах Иверского монастыря, и к часовням отношения не имеет.
Структура этой описи несколько отличается от схожей переписи 1692 года. Ни в одном описании не указана конструкция часовни и ее размеры, переписчиков интересовали только иконы и утварь, хранящиеся внутри. В небольших предварительных пояснениях отмечалось название деревни, расстояние ее от приходской церкви, повод и время постройки часовни, ее посвящение, а также особенности функционирования в указанный период. Для 13 часовен указан год постройки – с 1710 по 1756-й, при этом 10 из них возведены (отремонтированы) после 1727 года – с 1730 по 1756-й, то есть после доклада Варнавы и отмены решения о сносе часовен. Время постройки остальных девяти часовен не указано, отмечено лишь, что «построена в прошлых дав-ных годех, а в котором имянно году, и колико минуло лет, и с чьего позволения построена, о том за неимением летописи показать не по чему» [2; 5] или «построена в прошлых давних летех, а в котором году за давностию и справиться, и показать не по чему» [2; 11]. Эти формулировки позволяют предположить, что указанные часовни относятся к постройкам второй половины – конца XVII века. Шесть часовен возобновлены на старом месте вместо ветхих построек, 7 построены для прекращения падежа скота и одна по обету двумя братьями, Саввой и Козмой Иконниковыми. Таким образом, при возведении часовни обет по-прежнему оставался главной причиной, как и в конце XVII века (172 обетные часовни из 434).
Так же, как и в XVII веке, некоторые часовни строились не только в деревнях, но и неподалеку от поселения, в бору, «где крестьянскому скоту… в летнее время пригон имеется» [2; 14], или находились во владении нескольких деревень и были выстроены для освящения стад (служба 23 апреля – в день вмч. Георгия) [2; 16 об.].
Часовни по-прежнему сконцентрированы вокруг приходских церквей – 13 из них находятся не далее 3,5 версты, 5 расположены в 5 верстах, две в 6–7 верстах и две в 20–25 верстах от церкви. Во всех часовнях, кроме двух последних, службы в праздничные дни проводил приходской священник с причтом, в самых же удаленных – деревнях Дураково и Пушлихте – праздничные службы, а также вечерни, утрени и часы отправляли знающие грамоту крестьяне по новоисправ-ленным книгам [2; 25–26]. Как правило, служба происходила раз в год, только в часовне деревни Хачелской во имя патр. Модеста служили трижды – 18 декабря на память Модеста, 11 февраля на память Власия и 2 июля на память Смоленской иконы Богородицы. Все три праздника связаны с покровительством домашнего скота.
Посвящения часовен также достаточно традиционны:
Георгию4
Петру и Павлу2
Модесту патриарху2
Параскеве Пятнице2
Модесту патриарху и Варваре1
Борису и Глебу1
Власию и Анастасии1
Вознесению Креста Господня1
Животворящему Кресту1
Илье-пророку1
Онуфрию Великому1
Преображению Господню1
Рождеству Иоанна Предтечи1
Святому Духу1
Флору и Лавру1
Не отмечено посвящения часовен св. Николаю, составляющего безусловное большинство среди посвящений конца XVII века; несомненно, что часовни были перепосвящены. Из 22 часовен описи только две надежно соотносятся с часовнями переписи 1692 года – в деревнях Грихневской и Окатовской [1; 152, 165], [2; 5, 11]. В то время они были посвящены Георгию и Николаю Чудотворцу соответственно; первая выстроена по обету от падежа коней, вторая – по обету без указания причины, в каждой находилось по одной праздничной иконе. Ныне же первая оказывается посвященной Онуфрию Великому, вторая – апостолам Петру и Павлу. Что касается икон, то в каждой из часовен отмечено по 21 иконе различных святых, а также лампады, деревянные подсвечники, пелены, украшающие иконные полки и книги.
К новым чертам можно отнести появление посвящений во имя иерусалимского патриарха Модеста, Модеста и Варвары, а также Онуфрия Великого: в конце XVII столетия не только посвящений этим святым, но и икон с их изобра- жениями в часовнях не было (одно изображение св. Варвары присутствует в многофигурной композиции на иконе в часовне деревни Ромашенской [1; 280]).
В описании имущества исчезают упоминания о хлебных амбарах – как говорилось выше, в начале XVIII века держать хлеб и деньги при часовнях было запрещено указом Петра I; отсутствуют свечи и воск, а также пивные котлы, часто встречавшиеся в часовнях конца XVII века. Отсутствие свеч и воска объясняется рядом указов, запрещающих вести торговлю свечами частным лицам и продавать свечи где-либо, кроме церкви. Один из первых именных указов был принят 28 февраля 1721 года, согласно ему по-велевалось «дабы при коейждо церкви един был для продажи свеч приставник, понеже мнози бывают при церквах продающие тыя, с получением не церкви, но себе прибытка». До этого свечи продавались в свечных лавках купцами, которые их изготавливали и рассылали в те места, где свечных заводов не было, приобретались перекупщиками и продавались с рук около церквей во время праздников. Свечной доход предполагалось отдавать на устройство при церквах богаделен для прокормления нищих [5; 39]. Указ этот неоднократно подтверждался на протяжении XVIII и XIX веков; исполнение его привело к тому, что в большинстве случаев свечи в часовню для праздников брали из приходской церкви в долг, после же возвращали деньги за проданные свечи.
Отсутствие при часовнях пивных котлов объясняется не только тем, что они могли быть перенесены в дома крестьян, но и тем, что большие, «пивные», праздники в XVIII–XIX веках стали праздновать у приходской церкви. В одном из частных дел 1690–1691 годов о передаче часовенной утвари «на строение» церкви указано: «…в деревне Козловке есть часовня, а у ней пашенная земля, и сенные покосы, и поварня, и котел, и крестьяне де, пиво варя, пьют и драки, и шумы чинят, и всякие худые дела». Котел был перенесен в церковь Знамения Богородицы в Старом Карсавино, однако, поскольку на месте часовни предполагалось построить церковь, крестьяне деревни Козловки обратились к Великоустюжскому архиепископу Александру с просьбой вернуть все, кроме икон, в том числе «медной котел и поваренную посуду» [4; 992–996]. Изменение места проведения праздников способствовало увеличению доходов приходских церквей, а также более тщательному церковному и полицейскому надзору за прихожанами, хотя и у церкви вплоть до начала XX века еще продолжались «драки и шумы», характерные для крестьянских праздников [11; 142].
Наибольшие различия можно наблюдать в способах оформления интерьера часовен и номенклатуре икон. Что касается количества изобра- жений, то в конце XVII века в почти половине часовен (47 %) находилось от одной до трех икон, из них в большей части – в 92 часовнях – только одна праздничная икона. В новой описи мало бедных интерьером часовен, а часовен с одной иконой нет вообще. Часовни почти равномерно делятся на три группы, в первой из которых находится от 3 до 6 икон (6 часовен), во второй – от 7 до 9 икон (10 часовен), в третьей – от 10 до 26 икон (6 часовен). Такая статистика говорит об упразднении большинства бедных часовен с малым количеством икон, поскольку содержание их становилось непосильным вследствие введения новых налогов и других причин. Но, с другой стороны, сохранившиеся после указов 1720-х годов часовни стали более важными центрами крестьянской жизни: они начали украшаться бóльшим количеством икон, а сами иконы – медными окладами, венчиками и цатами, полотенцами и отрезами ткани (пеленами), отмеченными почти во всех часовнях. Устоялся порядок оформления интерьера часовен, приблизившийся к чину оформления церковного иконостаса. Первый, нижний ряд по-прежнему занимали местные иконы с наиболее чтимой, праздничной иконой посередине, однако второй ряд почти во всех часовнях (в 17 из 22) представлен де-исусом в 3, 11, 13, 15, 17 или 18 лицах, что соответствует второму, деисусному ряду иконостаса церковного. В переписи 1692 года деисусные изображения находились только в четверти из всех часовен.
Среди представленных в часовнях икон большее место стали занимать различные изводы богородичных, относительно мало распространенные в конце XVII века; так же, как и в XVII веке, много икон св. Георгия, Власия, Флора и Лавра, Ильи-пророка – покровителей скотоводства и сельскохозяйственных занятий. К новым иконам относятся изображения Богородицы «Всех скорбящих Радость», патриарха Модеста, Александра Ошевенского, Никодима Кожеозерского, Михаила Клопского, Агапита, Харлампия, Кирика и Улиты, Алексея, человека Божия. Эти иконы не отмечены в часовнях конца XVII века.
О появлении культа св. Модеста как покровителя домашнего скота сохранились документальные сведения, относящиеся к 1723 году. К этому или немного раннему времени относится доношение местного инквизитора о явлении в Важеском уезде святого Модеста, «будто бы он явлением своим скотов падеж укротил» (речь, конечно же, идет о явлении иконы), в связи с чем было проведено расследование. Саму явленную икону не нашли, однако «означились в том уезде у обывателей писанные многие святаго Модеста, патриарха Иерусалимского… образы со изображением при нем скотов» [7; 210]. Этот извод, перекликающийся с изображениями св. Власия или св. Флора и Лавра, был запрещен Синодом, од- нако почитание св. Модеста в качестве покровителя стад и домашнего скота сохранилось, что демонстрируют посвящения часовен (все 3 часовни во имя Модеста поставлены по завету от падежа скота, одна из них – в деревне Тимошен-ской – в 1722 году; не к этому ли времени относится и легенда о явлении иконы?) и распространение икон с изображением этого святого. Во имя Модеста перепосвящали часовни после падежа скота и позже, на рубеже XVIII–XIX веков [13; 306], что говорит об устойчивой сформировавшейся традиции. Этой же причиной было обусловлено посвящение часовен и иконы с изображением св. Варвары, в конце XVII века представленных одним образом с многофигурной композицией, а ныне отмеченых в посвящении деревенской часовни (деревня Чешевская [2; 20 об.]). В этой же часовне стояла икона с изображением св. Власия и Варвары, что указывает на преимущественное обращение к великомученице как покровительнице домашних животных. Второе посвящение, как правило, соответствует новому заветному празднику, который решают отмечать в деревне после какого-либо события; соответственно, посвящение во имя св. Варвары можно считать установленным после падежа скота для благополучия поселения.
Харлампий также является святым покровителем земледельцев и скотоводов, защитником от голода и мора, подателем здравия и изобилия, исцелителем скота [15; 27]. Не случайно его изображения перечислены рядом с изображениями Модеста, Власия, Зосимы и Савватия и присутствуют только в иконографической схеме «моления»: Саваофу, Спасу, Богородице или св. Николаю, у которых св. Харлампий как бы испрашивает милости [2; 11, 14, 15 об., 16 об.]. С сельскохозяйственными культами связано почитание св. Агапита (на иконе изображен в молении Саваофу вкупе с Модестом, Власием и Алексеем [2; 14 об.]), которое, вероятно является изображением Агапита Исповедника (Синадского, день памяти 18.02/3.03), прославившегося чудесами исцеления людей и домашнего скота, а также помощью земледельцам.
В появлении образов Александра Ошевен-ского и Никодима Кожеозерского несомненно видно влияние насельников Кожеозерского монастыря – они находились в часовне деревни Петровской Кожской волости, в которой монастырь играл роль духовного центра.
Опираясь на данные, содержащиеся в этой небольшой описи, можно отметить появление и распространение в первой половине XVIII века новых культов святых – покровителей скота и сельского хозяйства, не представленных вовсе или имевших небольшое значение в конце XVII столетия. В целом функции часовен по-прежнему были направлены на обеспечение благосостояния сельской общины, проведение мо- лебнов о защите стад и урожая от случайной гибели. В отношении часовен как локальных святынь отмечается двоякая тенденция: с одной стороны, они стали богаче украшаться, усилилась их связь с приходской церковью, но с другой стороны, уменьшение общего количества часовен и исчезновение небольших построек привело к уменьшению типологического разнообразия среди этих культовых зданий. Интерьер сохранившихся или вновь возведенных построек обустраивался по единообразной схеме, состоящей из местного и деисусного чинов, в чем также можно усматривать проявление влияния церковных канонов.
Список литературы Каргопольские часовни в середине XVIII века (по материалам описи 1752-1756 годов)
- Акты Холмогорской епархии. Переписные книги часовен в Важском уезде и в Устьянских сохах. Марта 20 -июня 29. 1692//Русская историческая библиотека (далее -РИБ). Т. XXV. Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Кн. III. СПб., 1908.
- Государственный архив Новгородской области (далее -ГАНО). Ф. 480. Оп. 1. Д. 805. Инвентарные описи часовен Каргопольского уезда. 1752 г.
- ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 73. Донесения с мест архиепископу Феодосию о разобрании деревянных и каменных часовен по указу Петра I и об оштрафовании виновных в неисполнении указа. Июнь -октябрь 1722 г.
- Об отобрании у часовни деревни Козловки икон, книг, денег, письменных крепостей и всех статков.//РИБ. Т. XII. Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Ч. I. СПб., 1890.
- Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания (далее -ПСПР). T. I, 1721 г. СПб., 1879. С. 39. См. также: Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Синода. Т. 1. СПб., 1868.
- ПСПР. Т. II, 1722 г. СПб., 1872.
- ПСПР. Т. III, 1723 г. СПб., 1875.
- ПСПР. Т. V, 1725-1727 гг. СПб., 1881.
- ПСПР. Т. VIII, 1733-1734 гг. СПб., 1899.
- ПСПР. Т. X, 1738-1741 гг. СПб., 1911.
- Бернштам Т. А. Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской среде (XIX -начало XX в.)//Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. С. 120-147.
- Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет существования и вообще русской церкви в конце XVII в. СПб., 1908.
- Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. I. Уезды Архангельский и Холмогорский. Архангельск, 1894.
- Лютикова Н. П. Пинежские часовни по письменным источникам XVIII-XIX вв.//Русский Север. Ареалы и культурные традиции. СПб., 1992. С. 148-164.
- Малицкий Н. В. Древнерусские культы сельскохозяйственных святых по памятникам искусства//Известия Государственной академии истории материальной культуры. Т. XI. Вып. 10. Л., 1932.
- Мелехова Г. Н. Северорусские православные обряды, обычаи и традиции, связанные с часовнями (по полевым материалам Каргополья и Кенозерья)//Народный костюм и обрядность на Русском Севере. По материалам VIII Каргопольской научной конференции. М., 2005. С. 7-39.
- Мелехова Г. Н. Православные часовни Русского Севера в XX веке (по полевым материалам Каргополья и Кенозерья 2000-х гг.)//Традиции и современность. 2006. № 4. С. 69-96.
- Перовский В. О сборах с церквей и духовенства, существовавших в Холмогорской епархии до 1730 г. Архангельск, 1895.