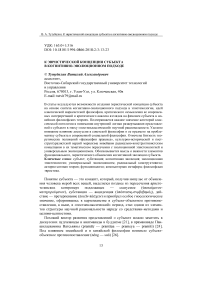Карл Маркс - основоположник революционного учения
Автор: Осинский Иван Иосифович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 3 т.2, 2018 года.
Бесплатный доступ
5 мая с. г. исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса, великого ученого и общественного деятеля, ставшего основоположником коммунистической теории, оказавшего огромное влияние на мир, тенденции его развития. В статье рассматриваются предпосылки, условия, теоретические источники формирования К. Марксом основных составляющих его революционного учения. Обращается внимание на его личностные качества как мыслителя, исследователя, революционера. Отмечается, что ему были присущи острый ум, необычная работоспособность, мужество, непреклонная воля, обостренное чувство справедливости, простота, жизнелюбие. Раскрываются его важнейшие научные открытия, в числе которых концепция материалистического понимания истории, теория прибавочной стоимости, учение о движущих силах истории, формационная и цивилизационная теории, о революции, ее формах, диктатуре пролетариата и др. Маркс и Энгельс доказали, что капитализм - исторически обреченный общественный строй, тупиковой стадией которого является современная глобализация. Наглядным примером ее деградации выступает сегодняшняя Россия, оказавшаяся в тисках алчной олигархии, которая, ничего не производя, эксплуатирует народ, наживается за счет его труда и ресурсов страны. Современное положение в России, да и в мире в целом свидетельствует о жизненности и актуальности учения Маркса.
Карл маркс, основоположник, революционное учение, капитализм, материалистическое понимание истории, прибавочная стоимость, движущие силы, революция, диктатура пролетариата, олигархия
Короткий адрес: https://sciup.org/148315497
IDR: 148315497 | УДК: 316.26 | DOI: 10.18101/1994-0866-2018-2-3-3-12
Текст научной статьи Карл Маркс - основоположник революционного учения
Понятие субъекта — это концепт, который, получив импульс от объявления человека мерой всех вещей, выделился позднее из пересечения аристотелевских контроверз подлежащее — сказуемое (ὑποκείμενον-κατηγορούμενον), субстанция — акциденция (ὑπόστασις-σνμβεβηκός), действие — претерпевание (ποιεῖν-πάσχειν) и приобрел особое гносеологическое значение, оформившись в картезианстве в субъект-объектном противопоставлении, а ныне, в «постнеклассический» период, стал одним из элементов структуры научной рациональности наряду со средствами-методами и целями-ценностями.
Похожий вектор развития представлений о субъекте можно заметить в дискуссиях пудгалавады и анатмавады в буддизме [21], в праманаваде Пак-шиласвамина Ватсьяяны (pramātṛ — pramāṇa — prameya — pramiti) [24]. Под влиянием индийской и в китайской философии возникло субъект-объектное противопоставление (néng — suǒ) [26].
Платонистские и джайнские представления о субстанциальности субъекта, «субъект-субстанция» Боэция, пантеистические системы эпохи Возрождения и Нового времени, наконец, абсолютный идеализм Г. В. Ф. Гегеля развивались, оказывая влияние на границы и специфику оперирования данными категориями в философских учениях и «объективистского», номиналистического толка.
Субъективный идеализм Дж. Беркли, Д. Юма, трансцендентализм И. Канта повлияли на эмпирический вектор философии, приведший через ассоцианизм к объективной психологии и ставший важным для пересмотра взглядов на категорию субъекта, а сам психологизм был обнаружен и в концепциях с декларативным антипсихологизмом, например, в феноменологии Э. Гуссерля.
«Критическая критика», фейербахианство, марксизм, «философия жизни», аналитическая психология и социальная психология расширили объем понятия субъекта, дали возможность «спуска к глубинам», «археологии» субъективного пространства, поиска истоков социальной идентичности и «праксиса» покорения политических вершин. Методологический поворот сопровождался неофихтеанским аксиологическим, укореняющим ценностно-целевую составляющую. Похожее происходило и с метафизикой неофрейдизма, осваивавшего архетипы коллективного субъекта, и с постпозитивистскими представлениями о конвенциональной интерсубъективности.
Дальнейшая судьба категории субъекта после «критики по-франкфуртски», постструктурализма и деконструктивизма описывается обычно как «смерть», «реабилитация», «воскрешение» субъекта и т. п. [22].
Однако подобно тому как экзистенциально-антропологическая, персоналистская и диалогическая философии не утратили окончательно своей целостности в эпоху постмодерна, сохранялась и традиция естественнонаучной трактовки понятия субъекта. Общая характеристика эволюционноэпистемологического подхода в этом ключе дана, например, в [7].
Когнитивно-эволюционный подход же — один из вариантов развития эволюционной эпистемологии, предполагающей широкий спектр логикофилософских эвристик в исследовании когнитивной эволюции. И. П. Меркулов определил этот подход как синтез теоретико-эволюционных максим и компьютерной метафоры [16, с. 10]. Хотя при таком рассмотрении когнитивной эволюции можно исходить из различных решений основного вопроса философии, для него все же в большей мере характерна материалистическая, естественно-историческая интерпретация этой проблематики.
Если при этом обычно считается, что объективная диалектика безусловно присутствует в субъективности, то обратное чаще всего подвергается сомнению. Важнейшей задачей когнитивно-эволюционного подхода можно поэтому считать исследование взаимосвязи объективного и субъективного и относительной (гносеологической) автономии последнего, формируемой, однако, самим ходом когнитивной эволюции.
Одной из альтернатив этому (уже не только в рамках естественноисторического направления) является пантеистический, гилозоистский, ги-лоноистский подход, апофатически запечатывающий идеальное в фунда- менте материального в совершенно преформистском ключе, что предполагает дальнейшее развертывание духа по-гегелевски — в пространстве, а не во времени. Этот вектор, характерный и для монизма Спинозы, воспринятый Г. В. Плехановым в его своеобразном обращении к наследию Ф. Энгельса, оказывается в дальнейшем основой «онтогносеологии» М. А. Лифшица и «космологии духа» Э. В. Ильенкова.
Субъект в такой версии декларативно материалистической философии еще не вполне утрачивает родство с известной объективно-идеалистической системой из трех составляющих. К. Маркс описывал ее так: «первый элемент есть метафизически переряженная природа в ее оторванности от человека, второй — метафизически переряженный дух в его оторванности от природы, третий — метафизически переряженное единство обоих факторов, действительный человек и действительный человеческий род» [12, с. 154].
Игнорирование этой оценки Марксом гегелевского понимания субъектности иногда сопровождается, напротив, заостренным вниманием к его ранним высказываниям идеалистического периода. Так, весьма популярная [3; 18, с. 69; 19] фраза «разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме» написана до того как оформился «окончательный переход Маркса от идеализма к материализму» [11, с. 673]. А сам этот гегельянский слог — в контексте всей «Переписки 1843 года» и даже вне его — не указывает на фундаментальные категории субстанции, атрибута и модуса, а отражает логику развития в пределах одной из триад субъективного духа: Bewußtsein als solches — Selbstbewußtsein — Vernunft.
Когнитивно-эволюционный подход находится также в соседстве и взаимодействии со многими философскими концепциями, онтология которых весьма своеобразна: это «цифровая философия» К. Цузе, С. Вольфрама и Э. Фредкина, энактивизм Ф. Варелы, Э. Томпсона, Э. Рош, некоторые другие радикально-конструктивистские и универсально-эволюционистские теории. А эпистемологический эволюционизм К. Поппера, в котором сама эволюция трактуется как познавательный процесс, или цифровая физика Э. Фредкина, где движению как атрибуту материи предпосылается вычислительный акт вселенского тьюринг-полного клеточного автомата, весьма близки спинозовской формуле «deus sive natura» и онтологическому (вопреки попыткам избавиться от онтологии) положению ильенковской «Космологии духа» о том, что «как нет мышления без материи, понимаемой как субстанция, так нет и материи без мышления, понимаемого как ее атрибут» [4, с. 129].
Характерно, что при таком понимании мышления, сознания, идеального функцию отражающего субъекта берет на себя если не универсалия, то абстрактный объект. Так, С. Н. Мареев обращает внимание на слова Л. С. Выготского: «Понятие не только отражает действительность, но и систематизирует ее, включает данные конкретного восприятия в сложную систему связей и отношений и раскрывает эти связи и отношения, недоступные для простого созерцания» [1]. Далее Мареев пишет: «Понятие, добавили бы мы, не только отражает действительность, но и конструирует ее, производит как бы заново» [10, с. 353].
Здесь также имеется своеобразная неявная отсылка к классикам. Однако фраза «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [9, с. 194] является все же лишь ленинским резюме гегелевского текста об идее блага в «Учении о понятии». Ленин в двойных квадратных скобках делает ремарку относительно фрагмента, отражающего возможность переиначить гегелевскую диалектику: «уверенность в себе, которую субъект [[здесь вдруг вместо «понятия»]] имеет в своем само-в-себе и само-для-себя бытии, как определенного субъекта, есть уверенность в своей действительности и в недействительности мира» [9, с. 194]. Но увы, у Гегеля живой человек так и не станет на место субъекта, и Ленин пишет уже свой материалистический текст: «Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его» [9, с. 195]. Именно живой человек, а не «понятие», «мышление», «деятельность», «практика», «классовое сознание», «актанты гибридного мира» и т. п. гипостазированные сущности, превращенные из модусов, характеризующих когнитивную эволюцию, в атрибуты и субстанции.
Ленин переворачивает гегелевскую формулировку так, как это уже до него было сделано в «Святом семействе»: «История не делает ничего, она "не обладает никаким необъятным богатством", она "не сражается ни в каких битвах"! Не "история", а именно человек, действительный, живой человек — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется» [12, с. 102].
Конечно, такой живой человек в качестве субъекта есть уже у Фейербаха, первым осуществившего такой переворот, но отнесенного Марксом к созерцательным материалистам. Однако главный их недостаток заключался, конечно же, в том, что они не видели практической ангажированности познания, субъективного в нем интереса, экономической и политической детерминации мыслей о мире, их исторической обсуловленности, а вовсе не в том, что этих мыслителей не постигло откровение, будто бы практика или «предметное мышление» суть атрибуты материи, материальное тотально предицировано идеальным, а субъект извечно присутствует в фундаменте материи.
В когнитивно-эволюционном представлении о субъекте важно не только то, кто им является, но и то, какую функцию в каких условиях он выполняет. Если субъектом истории является живой человек, то субъект экономической истории, смены общественно-экономических формаций, предыстории человечества — социальный класс, субъект политической деятельности — партия, экономической повседневности — потребитель и т. д. Такая фрагментация субъекта является следствием общественного разделения труда, специализации, экономического взаимообособления товаропроизводителей, отчуждения и возникновения превращенных форм экономических явлений, ложных форм коллективности. Развертывание этого «каскада субъектов» сопровождается все более стремительным развитием другой части производительных сил, «неорганического тела» человека, устремленного в сторону виртуализации и «технологической сингулярности».
Но какова субъективная форма отражения этой объективной диалектики исторического процесса, общая научная картина мира, в которой наука са- ма, становясь производительной силой, оказывается объектом? Ф. Энгельс писал, что если до конца XVIII столетия «естествознание было преимущественно собирающей наукой, наукой о законченных предметах», то в XIX в. «оно стало в сущности упорядочивающей наукой, наукой о процессах, о происхождении и развитии этих предметов и о связи, соединяющей эти процессы природы в одно великое целое» [14, с. 303]. Вероятно, это можно утверждать и о социальных науках. Однако стоит ли вслед за Л. Альтюссером и его последователями, например, считать историю «процессом без субъекта»? Хотя такая картина, конечно, отличается от «органического» процессуализма А. Н. Уайтхеда или холистической метафизики «субстанциальных деятелей» Н. О. Лосского, тенденция смещения онтологического акцента в сторону всеобщего, «органического целого», «структур способа производства» все же напоминает гегелевский выбор категории взаимодействия (Wechselwirkung) в качестве абсолютного отношения.
Технические же науки демонстрируют и противоположную тенденцию: по мере того как целостность подобных процессов становится ясна и автоматизируема в производстве, они сами все чаще предстают перед человеком в виде отдельных звеньев производственной цепи, дискретных элементов технического синтеза систем, в управлении которыми отчетливо виден переход от процедурного программирования к объектно-ориентированному, от прескриптивных языков к дескриптивным. А сам объектноориентированный подход начинает использоваться уже и в социальных науках в построении «онтологии гибридного мира», «физической социологии», «акторно-сетевой теории».
В таких обстоятельствах наиболее правильным было бы не отрицание всей онтологии, а признание за ней эвристической значимости в плане поиска рациональных зерен в предшествующих «метафизических» системах, вполне совместимое с широким применением теоретико-эволюционных максим и компьютерной метафоры.
Поиск «функционального субъекта» при этом представляет не менее трудную задачу, чем трансцендентальная редукция на пути «к самим вещам», тем более, что после «воскрешения субъекта» философия столкнулась с новыми его проявлениями: актантами гибридного мира в акторносетевой теории, ко-субъектами системы субъект-субъектных коммуникаций К.-О. Апеля, коэволюционирующими «постнеклассическими» сборками субъектов, «философскими зомби» и другими агентами мысленных экспериментов, призванных корректнее поставить и решить эту задачу.
В рамках эволюционной эпистемологии и универсального эволюционизма одним из методов ее постановки и решения является также привлечение математического аппарата теорий игр, катастроф, динамических систем для совершенствования описательных и объяснительных механизмов в данной области [17]. Другой связан с апелляцией к моделям, уже успешно описывающим относительно высокоуровневые структуры, т. е. к теоретикоэволюционным, эволюционно-кибернетическим концепциям. Третий метод — «компьютерная метафора», использование которой становится все более широким по мере развития общества в направлении «повсеместных вычис- лений» (ubiquitous computing) и вероятной технологической сингулярности.
Так, применяя метафору абстрактного автомата к такому важнейшему типу коллективного субъекта, как общественный класс, можно представить диалектическое различие «класса-в-себе» и «класса-для-себя» как различие типа автомата. В этом случае класс-в-себе как автомат Мили будет определяться генерацией социально значимых выходных сигналов, зависящих от входных сигналов среды и текущего состояния автомата. Класс-для-себя как автомат Мура будет однозначно определяться выходными сигналами, зависящими только от текущего состояния автомата и не зависящими от компонентов вектора входных сигналов. Это позволит, например, формализовать описание развития прогрессивного социального класса в процессе перехода от одной общественно-экономической формации к другой, т. к. при переходе автомата от одного типа к другому будет меняться число его состояний. Логика автоматного синтеза, вероятно, может быть применима и для описания таких феноменов, как классовая борьба, тактические классовые союзы, привнесение классового сознания, культурно-политическая гегемония прогрессивного класса, устранение классовых различий и т. д.
Хотя эвристический характер когнитивно-эволюционной концепции субъекта может проявляться в развитии некоторых, менее всего известных «скрытой» онтологии функционалистских и структуралистских представлений о субъективной реальности с опорой на предметную область естественных и технических наук, а предметно-методологическая интеграция социальных наук на этой основе была бы наиболее перспективным направлением в философском исследовании феноменов субъекта и субъектности, такой подход не означает раз и навсегда функционализма или структурализма в данном вопросе. Это скорее гипотетико-дедуктивный метод. И более плодотворным было бы принятие функциональной концепции субъекта лишь в рамках ее противопоставления субстанциальной.
О функциональном моменте категориальной пары субъект-объект пишет, например, В. В. Лапицкий, различая объект и объективную реальность как гносеологическую и онтологическую категории соответственно и полагая, очевидно, что в упомянутом им споре «онтологов» и «гносеологов» последние рассматривают и субъекта лишь в функциональном ключе: «Объективная реальность носит субстанциальный характер, в то время как свойство быть объектом познания — функционально. Формула "без субъекта нет объекта и без объекта нет субъекта" отражает именно эту сторону дела. Отлична она и от авенариусовского ее толкования, ибо под субъектом у Авенариуса выступает сознание индивида. Марксизм же под субъектом понимает носителя предметно-практической и познавательной активности (от общественного человека до человечества)» [8, с. 33]. Однако известно, что главной категорией «гносеологов» в этом вопросе было мышление , понимаемое ими как атрибут материи, а вовсе не функциональный субъект, и в связи с этим выводы данной дискуссии приобретали отчетливый онтологический смысл.
Сторонники современной акторно-сетевой теории идут дальше в этом же направлении, совершая уже не метафорический, а «метонимический» пово- рот [6], «одушевляя» нечеловеческих актантов в «социологии вещей», делая их равноправными с людьми агентами в условиях «генерализованной симметрии» субъекта и объекта, уравнивая главные и второстепенные производительные силы, что, несмотря на апелляцию «реципрокного конструктивизма» Б. Латура к марксовому выражению «объект — ансамбль отношений», оказывается не вполне согласованным с трудовой теорией стоимости.
Замена же Латуром идеи субстанции идеей черного ящика (настолько сильного актанта, что внутренними процессами его можно пренебречь) не ограничивается, по-видимому, социальной сферой и имеет универсальный, онтологический характер. А «критика субстанционализма» неизбежно сопровождается «скрытой» онтологией, подразумевающей, например, такую экзотическую постановку и решение основного вопроса философии, какую можно обнаружить в «спекулятивном реализме» К. Мейясу, Р. Брассье, И. Г. Гранта и Г. Хармана.
И если положение о «мышлении как атрибуте материи», объявленное Э. В. Ильенковым «единственным принципиальным отличием материализма диалектического» от механистического [4, с. 130], открывало дорогу к «принципиальной координации» субъекта и объекта Р. Авенариуса, то современный «антикорреляционизм» «спекулятивного материализма» К. Мей-ясу открывает путь к дуализму, окказионализму или кантовскому трансцендентализму.
В обоих случаях субъективность наделяется правом бесконечно и повсеместно сопровождать материю, каковым Энгельс, например, не наделял ее, по крайней мере, в своих текстах. Единственное известное свидетельство Г. В. Плеханова об устной оценке Энгельсом вопроса о том, что «старик Спиноза был прав, говоря, что мысль и протяжение не что иное, как два атрибута одной и той же субстанции», сводится к краткому ответу: «Конечно, старик Спиноза был вполне прав» [20, с. 360, 384].
В вопросе содержалась хрестоматийная формулировка главного достижения философии Спинозы по сравнению с декартовской. Привычность этого положения во фразе, предсказуемо требовавшей общей положительной оценки «эпистемического разрыва» Спинозы с дуализмом Декарта, и столь же предсказуемая лаконичность ответа скрыли проблему различения атрибутов и модусов материи и истинное отношение к ней обоих мыслителей.
Но следующий фрагмент свидетельствует о различении Энгельсом атрибутивного движения вообще и других неатрибутивных его форм, включая механическое движение и ... мышление: «движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, т. е. понимаемое как способ существования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во Вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением» [13, с. 391].
При этом «неразличения» Энгельсом движения как атрибута и модуса субстанции нет. «Способ существования» (Daseinsweise) относится к категории определенного, наличного бытия, а не к сущности или действительности, где Гегелем и была размещена триада субстанция — атрибут — модус. И спинозовская субстанция «не есть "то же самое", что субстанция в диалектическом материализме» [5, с. 103], а марксизм «не род спинозизма» [5, с. 225].
И когда Энгельс пишет, что «материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утрачен и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время» [13, с. 363], то из факта упоминания слова «атрибут» в первой части этого текста нельзя сделать вывод, что и мышление Энгельсом причисляется к атрибутам материи. Упоминание порождения и истребления более располагает к принятию точки зрения о мышлении как о модусе материи.
Именно с характеристикой мышления как модуса материи вернее связать развитие мышления, когнитивную эволюцию, появление нового, развертывание панорамы субъективной реальности, конструирование субъектного мира. Однако само это конструирование все же не следует превращать в субстанцию, как это происходит в радикальном конструктивизме, также определенным образом апеллирующем и к когнитивно-эволюционной проблематике.
Так, если К. Лоренц, Д. Кэмпбелл и К. Поппер настаивают на необходимости в познании «выхода за пределы» эмпирических данных [23, с. 61–62], то Э. фон Глазерсфельд считает это лишним и, исходя из «функциональной неотделимости действия и познания» и воздерживаясь от онтологических допущений, пытается найти «золотую середину» между корреспондентно-стью и солипсизмом [23, с. 69], обращаясь при этом к теоретикоэволюционному категориальному аппарату (адаптация, приспособленность и др.). Без признания независимой объективной реальности это не дает той действительно полной когерентности суждений, которая была бы возможна вне рамок одной только этой «эмпириокритики». Но создатель «кибернетики второго порядка» Х. фон Ферстер все еще допускает возможность познания «мира, каков он есть» [23, с. 161], и субъект в его «теории наблюдателя» скорее функционален, чем субстанциален, хотя и остается в этой полуагно-стической, полурелятивистской философии «решающим фактором в пользу того или иного выбора» альтернативных точек зрения [23, с. 162].
В гипостазировании субъекта радикальному конструктивизму «от биологии и кибернетики» близка и социальная «философия праксиса». В. М. Межуев пишет: «Не материя или дух, а практика является для Маркса основополагающей исторической категорией. Он вообще предпочитал пользоваться понятиями не ʺматерияʺ и ʺдухʺ, а ʺматериальноеʺ и ʺдуховноеʺ. В грамматическом смысле они — прилагательные, а не существительные, в философском — атрибуты, а не субстанции» [15, с. 60]. Однако Маркс хотя и редко пишет о материи как субстанции, но использует близкие категории гегелевской системы. Это или «рамочное» для триады субстанция — атрибут — модус понятие действительность (Wirklichkeit), которое применяется Марксом очень часто, или понятие основа (Grundlage), относящееся к контроверзе формы и материи в рамках категорий основание (Grund) и рефлексия (Reflexion). (У Гегеля определенная основа есть «принявшая форму материя, но которая в то же время безразлична к форме и материи как к снятым и несущественным. Это единство есть содержание» [2, с. 83]).
Маркс пишет, что «революции нуждаются в пассивном элементе, в материальной основе» [11, с. 423]. И здесь нет утверждения практики в качестве субстанции или субъекта. Маркс с оптимизмом описывает развитие философии, не делавшей субъектом практику: «Материализм — прирожденный сын Великобритании. Уже ее схоластик Дунс Скот спрашивал себя: "не способна ли материя мыслить?". Чтобы сделать возможным такое чудо, он прибегал к всемогуществу божьему, т. е. он заставлял самоё теологию проповедовать материализм» [12, с. 142]. О философии Т. Гоббса Маркс пишет: «Бестелесная субстанция — это такое же противоречие, как бестелесное тело. Тело, бытие, субстанция — все это одна и та же реальная идея. Нельзя отделить мышление от материи, которая мыслит. Материя является субъектом всех изменений» [12, с. 143]. Позиция Маркса такова: «Самое материю человек не создал. Даже те или иные производительные способности материи создаются человеком только при условии предварительного существования самой материи» [12, с. 51].
Маркс так редко пишет о материи и субстанции лишь потому, что это потребовало бы перехода от преимущественно социально-философской критики к онтологическому исследованию, чем он планировал заняться позднее. Однако пара некорректно воспринятых положений Энгельса стала предлогом для позитивистских интерпретаций, а практика из критерия истины стала онтологическим суррогатом действительного субъекта истории — человека.
Но представляется возможным, что именно применение теоретикоэволюционных положений и компьютерной метафоры — как сохраняющих причинно-следственное и субстанциально-акциденциальное объяснения эвристик в исследовании когнитивной эволюции субъектности — позволит пролить свет на эти неровные, сливающиеся друг с другом ступени восхождения и проявления функции субъекта: самоорганизация, отражение, управление, информация, жизнь, раздражимость, возбудимость, рефлекс, инстинкт, поведение, деятельность, мышление, наука, ноосфера…
Так, компьютерную метафору можно применить к феноменам общественного сознания, выявляя его «дискретную», «цифровую» сторону, неизбежно возникающую вследствие того, что в «разделяемой памяти» мультисубъекта информация, знания, идеологемы существуют не только в образной, но и преобладающей пропозициональной форме, несомненная але-тическая модальность которой только и делает когерентной эту интерсубъективную реальность при очевидной конвенциональности и оспариваемой истинности самих пропозиций. Это позволит от неразличения нелинейности и многофакторности когнитивной эволюции, ведущего к феноменализму и релятивизму, перейти к линеаризации, выявлению приоритетов, обнаружению «семафоров синхронизации и защиты передачи данных» в мультисубъ-ектной среде, гносеологические корни которой не менее значимы, чем социальные. Иначе субъект истории будет «растворен» в практике, которая «вовсе не прозрачное основание объяснения, из которого можно все вывести, а сама есть предмет объяснения» [25].
Новые же форматы применения теоретико-эволюционных положений и новые варианты компьютерной метафоры могут стать эффективными средствами поиска имеющих значение для исследования феномена субъекта закономерностей онтологического, гносеологического, социальнофилософского и иного характера.
Список литературы Карл Маркс - основоположник революционного учения
- Константинов Ф. В. Марксизм-ленинизм в высшей школе // Материалы всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных наук. М., 1959. С. 10.
- Зюганов А. Мыслитель, изменивший мир // Советская Россия. 2018. 4 мая. [Электронный ресурс]. URL: https://sovross.ru/articles/1690/39341 (дата обращения: 30.05.2018).
- Рассел Б. История западной философии. Кн. 3. Новосибирск. 1994. С. 265.
- Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. М., 1966. Т. 1. С. 14.
- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. С. 6-7.
- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25, ч. 2. С. 354.
- Карл Маркс: биография / руководитель автор. коллектива П. Н. Федосеев. М., 1968. С. 77.
- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. С. 607.
- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 28. С. 427.
- Вахитов Р. Трибун грядущей демократии // Советская Россия. 2018. 5 мая. URL: http://www.sovross.ru/articles/1691/39372/comments/ (дата обращения: 30.05.2018).