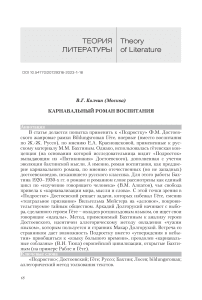Карнавальный роман воспитания
Автор: Колчин Вячеслав Геннадьевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье делается попытка применить к «Подростку» Ф.М. Достоевского жанровые рамки Bildungsroman Гёте, впервые (вместо воспитания по Ж.-Ж. Руссо), по мнению Е.А. Краснощековой, примененные к русскому материалу М.М. Бахтиным. Однако, использовалась гётевская концепция (на основании которой исследовательница видит «Подросток» выпадающим из «Пятикнижия» Достоевского), дополненная с учетом эволюции бахтинской мысли. А именно, роман воспитания, как преддверие карнавального романа, по мнению отечественных (но не западных) достоевсковедов, исказившего русского классика. Для этого работы Бахтина 1920-1930-х гг. о романе и романном слове рассмотрены как единый цикл по «изучению говорящего человека» (В.М. Алпатов), чья свобода привела к «карнавализации мира, мысли и слова». С этой точки зрения в «Подростке» Достоевский решает задачи, которых избежал Гёте, сменив «театральное призвание» Вильгельма Мейстера на «деловое», покровительствуемое тайным обществом. Аркадий Долгорукий начинает с выбора, сделанного героем Гёте - овладев ротшильдовым языком, он ищет свои говорящие «идеалы». Метод, применяемый Бахтиным к анализу героев Достоевского, идентичен аллегорическому методу овладения «чужим языком», которым пользуется и странник Макар Долгорукий. Встреча со странником дает возможность Подростку вместо «утверждения в небытии» приобщиться к «языку большого времени», преодолев «карнавальные соблазны» (В.И. Тюпа) европейской цивилизации, открытые Бахтиным (на примере Рабле и Гёте).
«подросток», достоевский, гёте, руссо, бахтин, лосев, bildungsroman, аллегорический метод толкования текстов
Короткий адрес: https://sciup.org/149142765
IDR: 149142765 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-18
Текст научной статьи Карнавальный роман воспитания
“The Adolescent”; Dostoevsky; Goethe; Russeau; Bakhtin; Losev; bil-dungsroman; allegorical exegetics
Елена Краснощекова в монографии «Роман воспитания на русской почве» указывает, что данный термин, применительно к русской литературе, отсутствовал в отечественном литературоведении вплоть до 1970-х гг., когда в составе «Эстетики словесного творчества» были изданы работы Бахтина 1930-х гг.
Хотя русская классика следовала руссоистскому канону идиллического романа воспитания («Новая Элоиза», «Эмиль», «Исповедь»), Бахтин в основу своего исследования положил канон «bildungsroman» (нем., роман образования, развития), заданный Гёте.
Новизной Бахтина, по сравнению с западными исследователями данного жанра, по мнению Краснощековой, стал акцент на анализе романных хронотопов. С этой точки зрения «Подросток» существенно выпадает из гётевских хронотопов жизненного пути и долгого путешествия («учения» и «странствий»). Однако, показ того, как «жизнь учит» и множество учителей, встретившихся Аркадию менее чем за год, позволяют Е.А. Краснощековой в конце своей монографии утверждать, что «безоговорочное включение “Подростка” в состав <…> знаменитого Пятикнижия вряд ли оправдано» [Краснощекова 2008, 464].
Является ли «карнавальный роман» (1940–1960-х гг.) у Бахтина закономерным итогом темы «романа воспитания»? Ведь «эталонные» романы обоих жанров (Рабле и Гёте) Бахтин последовательно включает в обе концепции. Если да, то попытка рассмотреть «Подросток» как «карнавальный роман воспитания» позволит снять «паратеологическую» (И.Л. Попова) критику «карнавала Достоевского» ведущими отечественными достоев-сковедами (см. напр. [Ветловская 2011; Степанян 2010]).
Тогда станет понятно, что феномен западной культуры, «неправомерно» примененный к русскому классику, не искажает Достоевского, а наоборот, показывает цивилизационный разрыв, который проявился в русской литературе, начиная с проблемы «лишнего человека» (которую наследовал Достоевский) и кончая «смертью автора» (вестником которой признали позднего Бахтина западные достоевсковеды).
В данной работе слова «ум» и «сознание», не имеющие общепринятой научной трактовки, используются как синонимы субъекта «словесной деятельности». Однако, ум (греч. «νοῦς», лат. « mens ») относится к простому, неделимому (греч. «ἄτομος», лат. « individuum »), потому и неразрушимому, вечному, ядру личности. А сознание уже к самой личности (греч. «ὑπόστᾰσις», лат. « persona », см. у Бахтина [Колчин 2022]), представляющей собой целое вследствие ответственности человека за свои поступки (как телесные, так и умственные, в т.ч. высказывания). Данная синонимичность маскируется в научном языке заменой «жизни ума» (рус.) «ноэзисом» (греч.) и «ментальностью» (лат.), как феноменами сознания.
Бахтин в этой связи назвал способность ума рассматривать свои представления «о мире и о себе» как новый предмет (осознавать их) «словом о мире и о себе» (сознанием) [Бахтин 1997–2012, VI, 57]. Поэтому «ум» и «слово» (недопустимо многозначное у Бахтина, по замечанию В.М. Алпатова) автор предпочитает рассматривать не как отдельные понятия, а как бинарное отношение («жизнь ума в слове»), когда ум возрастает (в т. ч. над собой, осознавая себя), закрепляет, сохраняет себя в разумном слове. Суть такой «бинарности» М.Д. Муретов в 1915 г. увидел в непереводимости греческого «λόγος»: «разум-слово, или разум, в слове открывающийся, и слово в разуме содержащееся» [Муретов 2002, 62].
Бахтин 1920–1930-х гг.:от полифонического романа к карнавалу
Работы Бахтина (и его круга) 1920–1930-х гг., посвященные феноменам «говорящего человека и его слова», показали взаимосвязь проблем лингвистики и литературоведения начала XX в.
Достоевский отказался от «объектных» форм изображения героев («темперамент-тип-характер») создав образ говорящей личности (сознания). Однако С.А. Аскольдов, ранее Бахтина увидевший это (концепция
«сознания как целого» [Аскольдов 2012], преодолевающего свои «формы», см. [Колчин, 2020]), еще «остается в пределах монологизованного религиозно-этического мировоззрения» [Бахтин 1997–2012, II, 18]. В условиях, когда «личность утрачивает свою грубую внешнюю субстанциональность, свою вещную однозначность из бытия становится событием» [Бахтин 1997–2012, II, 175], «монологизм» игнорирует жизнь ума в слове, как «мыслящее человеческое сознание и диалогическая сфера его бытия» [Бахтин 1997–2012, VI, 298].
Лингвистические работы «волошиновского цикла» показали эту же проблему, но как предмет языкознания: спор «абстрактного объективизма» и «субъективного идеализма» в науке о языке («системоцентричного» и «антропоцентричного» языкознания [Алпатов 2005]). «Бесспорно» бахтинский текст «Слово в романе» (1934–1935) иллюстрирует данное противоречие тем, как «твердые» формы языка («диалекты» и «классовые языки») разрушаются романным многоголосием. Лингвистическая проблема социальной стратификации языка позволила увидеть роман, как языковую лабораторию изменения смысла слов конкретным высказыванием (позже ставшего предметом «металингвистики») [Алпатов 2005].
Бахтин не просто постулирует свободу человека по отношению к своему языку («чужой идеологический мир нельзя адекватно изобразить, не дав ему самому зазвучать» [Бахтин 1997–2012, III, 89]). Уже здесь он выделяет и особые типы героев, жизнь ума в слове которых «вывернута наизнанку». «Веселый обман плута, пародирующий высокие языки, их злостное искажение, выворачивание их наизнанку шутом и, наконец, наивное непонимание их глупцом – эти три диалогические категории, организующие разноречие в романе на заре его истории, в новое время выступают с исключительною внешней отчетливостью и воплощены в символические образы плута, шута и дурака» [Бахтин 1997–2012, III, 160].
«Роман воспитания» (1937) продолжает исследовать изображение безгранично развивающегося «удобоподвижного» ума. В трех предшествующих формах романа по Бахтину (романы путешествия, испытания, биографический) образ героя ограничен в своем развитии либо сюжетной сменой миров, либо жанровыми заданиями. Герою романа воспитания позволено одновременно преодолевать как собственную «завершенность», так и складывающиеся вокруг него «хронотопы». Бахтин афористически назовет это «воспитание человека будущего для строя будущего». [Бахтин 1997–2012, III, 197], который «нигде не исчерпывается достижением частных конечных целей» [Бахтин 1997–2012, III, 209], «забывая заднее и простираясь вперед» (Флп. 3.13).
Герои романа воспитания не вмещаются в один «словесно-идеологический мир». «В таких романах, как “Гаргантюа и Пантагрюэль” Раблэ, “Симплициссимус” Гриммельсгаузена, “Вильгельм Мейстер” Гёте, <…> он [герой – В.К.] уже не внутри эпохи, а на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой. Этот переход совершается в нем и через него. Он принужден становиться совершенно новым, небывалым еще типом человека» [Бахтин 1997–2012, III, 331]. Подобное «новогоднее восприятие истории»
позже будет названо Бахтиным в числе признаков «карнавального жанра» [Попова 2009, 142].
В двух первых романах из числа указанных Бахтин видит героя в «утопическом мире» (позднее карнавальном «мире наизнанку»). «Утопия на фольклорном (народном) материале <…> “Нового человека” некуда деть в реальных условиях исторической действительности; из отрицаемых отмирающих феодальных форм он может перейти только в условный утопический мир» (о Рабле [Бахтин 1997–2012, III, 198]). «Связи со средневековыми шутовскими, плутовскими и дурацкими сатирическими циклами. <…> Становление героя, завершившись, не дает ему места в исторической действительности, и герой должен приступить к построению утопической жизни» (о Гриммельсгаузене [Бахтин 1997–2012, III, 199]).
В эталоне романа воспитания, эпопее о Вильгельме Мейстере, Бахтин позднее также увидит ростки карнавала: «актерский мирок», который «сохранил в себе кое-что от карнавальных вольностей, карнавального мироощущения и карнавального обаяния» [Бахтин 1997–2012, VI, 147]. Планы Мейстера (создавать идеалы для воспитания немцев и воплощать их на сцене) нарушила «несознательность» актеров: самовольная смена своих амплуа (эйфория карнавальной свободы) и охота за богатыми покровителями («карнавальными королями», стать среди которых решит и сам Мейстер).
Проблема идеалов (настигшая Мейстера) характерна и для героев Рабле. Всесильный великан становится аллегорией раскрепощенного ума, полного сил, однако лишенного ориентиров и неспособного противостоять соблазнам материальных превращений (карнавальная смена форм), помешавшим Рабле завершить свое творение. Потрясение свободой видно и в «словесной жизни» героев, речевом потоке, сопровождающем мельчайшие подробности телесных эксцессов. Сухой рационализм «высокой» схоластики размывается веселым «дионисийством».
Успокоиться (утолить жажду в идеале) свободные умы смогли лишь у Оракула бутылки, являющейся аллегорией библейского райского источника, однако перенесенного в царство пещерных (ср. «гротеск») вакханалий. Это совпадает с характеристикой А.Ф. Лосевым реализма Рабле как «сатанинского смеха».
Данное замечание часто воспринимается, как заочный спор двух больших ученых (напр. [Хализев 2004, 85–86]). Однако, и сам Бахтин, несмотря на симпатии к человеческой способности выживать даже при свином корыте, указывает множество инфернальных прототипов веселых героев и их приключений у Рабле.
Решением данного противоречия может служить интерпретация А.Ф. Лосевым «трагического мифа» из «Поэтики» Аристотеля как «жизни ума». Элементом «трагического мифа» («перипетия-узнавание-пафос-со-страдание-катарсис») является «узнавание», когда ум, отпавший от первоначального покоя и осознавший утрату, пытается «утвердиться в небытии» [Лосев 1993, 736].
Лосевская интерпретация стыкуется с выводами П. Рикёра, увидевшего аристотелевский «mythos» как «интригу», создающую «целое» повествования в сознаниях автора и читателя [Рикёр 2000, 45]. При этом «узнавание» у Аристотеля (в толковании Лосева) совпадает со вторым этапом «лиминальной» интриги «искушение» [Тюпа 2021, 151]. Именно это карнавальное «утверждение в небытии» и представляет собой бахтинский «мир наизнанку», в котором герои романа воспитания стараются вести свою «утопическую жизнь».
Таким образом, Бахтин, проследил свободную жизнь ума в слове, начиная с полифонического романа и романного разноречия, через преодоление умом словесно-идеологических миров в романе воспитания к «карнавализации мира, мысли и слова» и, наконец, «карнавализации сознания» (см. [Попова 2009, 143])
Карнавальный роман связывает с романом воспитания самоценная свобода человека – способность как преследовать самые высокие идеалы (преодолевая сковывающую форму «достигнутого»), так радоваться их «развенчанию». В «словесной жизни» данная свобода проявляется как амбивалентность языка – способность говорящего коллектива последовательно присваивать любым словам как самые высокие, так и самые низкие смыслы.
Карнавальное воспитание
Герой Гёте отверг свое «театральное призвание» и сосредоточился на семейной коммерческой деятельности, только в более широком международном масштабе. Язык растущего национального капитала (сдобренный языком «Общества башни») показался Гёте более убедительным для разговора об идеалах, чем язык творцов немецкой сцены и создаваемых ими людей будущего.
Аркадий Долгорукий, в отличие от героя Гёте, не имел устойчивого родительского бизнеса, тем не менее, сразу же начинает описывать свое «утопическое» будущее языком капитала («Мейстер» впечатлил Достоевского). Однако, к мистерийно-ротшильдовскому диалекту невозможно приобщить собеседника (сделать его соучастником своего «словесно-идеологического мира»).
Стремясь, до времени, «утвердиться в небытии» уединенного сознания, Аркадий Долгорукий, начинает жить по правилам Достоевского. «Люди будущего» распознаются Подростком как «идеалы», именно с ними он старается вступить в общение. Таким образом, герой и оказался в окружении множества учителей, требующихся ему в соответствии с каноном романа воспитания.
Аркадий Долгорукий мучительно ищет свой «говорящий» идеал, находя и отвергая его во всех собеседниках, привлекающих его неокрепший ум (Васине, Крафте, Версилове, князе Сергее, Ахмаковой и прочих),
В момент наступления «утопии» светского благородства – примирения великодушных Версилова и князя Сергея в конце первой части, подросток сталкивается с феноменом скучной «пасторальной идиллии» («Аркадия» – утопический идеал Версилова).
Утопия «первобытной идиллии», которой вслед за Руссо прельстились многие русские «лишние люди», на практике показала, что Разум Просвещения (подобно схоластике у Рабле) оградил ум не только от заблуждений «старого порядка», но и от радости жизни,
Праздник руссоистского Верховного существа, поставленный для Робеспьера Ж.-Л. Давидом, также использовал раблезианские символы изобилия (народно-смеховые, по Бахтину): пища, быки, овцы, плоды свободного труда, символику деторождения и здоровых отношений полов [Озуф 2003, 158–159]. Эпоха Просвещения увидела его «торжеством скуки», «праздником изобилия – нежного и умиротворяющего» [Озуф 2003, 158]. Когда для привлечения масс «на место актрис приглашали публичных женщин, <…> народ пытались развеселить при помощи дебоша», идиллическую тоску сменили «кровавая импровизация, лихорадочное распутство» [Озуф 2003, 46–47].
Именно в такое лихорадочно-авантюрное «дионисийское» распутство и пустился Подросток. Имеет ли смысл «аполлоническая» жизнь в обществе «идеальных людей» без веселья: «Почему ж не повеселить себя?» [Достоевский 1972–1990, XIII, 164], невзирая на риск выпасть из скучной утопии светского благородства.
Разрушительное веселье «незавершимых людей» Достоевского является архетипическим для классика (смерть отца, каторга, игра), что позволило ему создать множество «миров наизнанку».
Композиция «Бесов» (как часть замысла «Жития великого грашника», давшего, в том числе и «Подростка») целиком основана на веселом празднике единения «людей будущего», закончившемся массовой «флибустьерией». «Духовным отцом» неожиданной смуты оказался С.Т. Верховенский, прототипом которого, по мнению Робин Миллер, является Руссо [Миллер 1984]. Интересно, что биографически близок к Руссо (и «словесно» к наставнику из «Эмиля») и первый «карнавальный король» Опискин (по мнению К.Ю. Бар-шта, являющегося самопародией самого Достоевского [Баршт 2019]).
С утробным «весельем» связано и погружение героя в мир простонародных сект (другая из тем «Жития великого грешника»), которое ранний Достоевский отобразил в темных персонажах «Хозяйки» (скопцы, по мнению О.Г. Дилакторской [Дилакторская 1995]), населявших и дом Рогожина.
И в то же время остался опыт того, как праздник одиночной пьяной свободы, даруемый ежегодно каждому узнику «Мертвого дома», которой невозможно поделиться ни с кем, неожиданно сменяет удивительная стихия мирного народного веселья, охватывающего всех в пасхальном празднике.
Подобное «умиротворение» бушующих вокруг Подростка «миров наизнанку» произошло и с появлением в доме Версилова странника Макара Долгорукого.
Слово, укрепляющее ум
Бахтин применил к анализу Достоевского (и романа в 1930-х гг.) интеллектуальный прием, известный как аллегорическое толкование текста.
Герои древних текстов начинали восприниматься «новыми» читателями как аллегории мыслимых сущностей (ума, души, сознания, добродетели). Это позволило отвлечься от исторических реалий (отжившие обычаи и забытые авторитеты) и представить повествуемые события как жизнь ума в поиске истины, красоты, покоя, веселья и т. п.
Например, описывая предысторию «мениппеи», как протожанра – пиршественные беседы, сократический диалог, путешествие героев между мирами и т.п., Бахтин, фактически, перечисляет тексты, допускавшие толкование именно как «жизнь ума».
Христианство использовало данный прием, чтобы опровергнуть кажущийся антагонизм ветхозаветных и новозаветных текстов. Толкования Свт. Амвросия Медиоланского новизну христианских аллегорий отражают наиболее отчетливо (его текст включал ветхозаветные толкования неоплатоника Филона с правкой [Кулькова 2021, 18]): «Слово Бога не является делом, как говорят некоторые [Филон – В.К.], а Творцом» (Cain et A. 1.32). Ум встретился не с «Единым» неоплатоников («монологически» говорившим голосом самого толкователя), а с живой Личностью.
Именно это отношение к чужому слову в традиции, усвоенной Достоевским, Бахтин отразил в «полифонии», споря с «монологизмом» творцов серебряного века (см. [Колчин 2022]). Соответственно, и «двуголосое слово» отражает готовность толкователя текста к «встрече сознаний», когда «голос» автора придаст этому слову иной смысл.
Научный подход избегает подобной «субъективности», ограничив авторов в «представлениях», правилах их получения из «действительности» и «языке» их описывающем. Однако там, где «объектом» изучения становится личное слово, данная объективность становится слишком «абстрактной» (ср. «абстрактный объективизм» Волошинова). Единственным средством согласовать «представления» двух свободных личностей становится «двуголосое слово».
Приведем пример поучения из книги, по которой училось грамоте большинство крестьян времен Макара Долгорукого [Каптерев, 2004, 21].
«В устах неразумного сердце его, в сердце мудрого уста его» (порядок слов Сир. 21.29. взят по церковнославянскому оригиналу).
Первая часть фразы говорит условному «Макару» об ошибке, совершаемой Подростком, обжигающемуся о свои «идеалы», вторая часть – о том, чем занят сам странник в момент первой встречи с читателем.
Однако свобода взаимопонимания в «двуголосом слове» допускает и карнавальное «снижение» его смысла. Достаточно заменить «уста» на дословный перевод греческого «рот», то скептический толкователь (использовав для объективного «остранения» от воли автора маску «плута, шута и дурака») может легко увидеть в данном поучении призрак великанов Рабле, все пробующих на зуб и пропускающих через утробу.
Достоевский противопоставляет веселой «децентрализации “словесно-идеологического мира”» [Бахтин 1997–2012, III, 122] русских европейцев, мыслящих утопическими идеалами, традицию, избежавшую конфликта между «идеальным» и «материально-телесным» бытом, продуктом которой был Макар Долгорукий.
П.Ф. Каптерев еще в 1909 г. упрекал деревенское образование за то, что оно не являло народу «высокие идеалы христианства», ограничиваясь лишь чтением Псалтири и пары учительных книг [Каптерев 2004, 21]. Однако, полуграмотным крестьянам было доступно прочтение ветхозаветных текстов в соответствии с новозаветным смыслом благодаря «хри-стоцентричному» языку. Объединение в богослужебных текстах контекстов новозаветной и ветхозаветной лексики (через параллели паремий и канонов), создавало целостную картину мира со множеством смысловых цепочек между телесным и духовным.
Лоза-вино, семя – хлеб, сеятель-колос, садовник-плод, жених-брач-ный пир, купец-жемчужина, агнец-жертва, Адам-Рай. Первый член связки указывал «видимый» предмет, а второй указывал на цель предмета, его смысл в контексте Райского пира. При этом сам предмет непосредственно указывал на Христа (семя, как слово, падающее на землю человеческого сердца и т. д.). Т. е. знакомый предмет становится «материалом» языка одновременно в смыслах человеческого труда, райского пира и Воплощения. Человек, приняв в себя Христа, призван принести свой плод на веселье райского пира.
«Беспредметный» концепт-идеал «Веселие» в устах Макара Долгорукого также оказывается «предметным», («Христос бо воста, Веселие вечное», канон Пасхи, Песнь 1). И наоборот, предметная материально-телесная стихия образов Рабле усмирена вопреки утопии Телемского аббатства – самый низкий и грязный труд вдвойне ценен, т.к. он одновременно не только полезен ближним, но и скрывает «жемчужину» самой личности, идущую к веселью по стопам Христа.
Народный праздник освобождения, редуцированный в раблезианском гротеске к телесным эксцессам, а в руссоистской идиллии к скучной постановке на фоне кровавой революции, оказывается для Макара Долгорукого веселым райским пиром, доступным для всех, принявших Христа, не зависимо от «класса», что позволяет ему видеть своих собеседников как «веселых», спасенных людей.
Именно такая всеобщность заслонила от него в разговоре с Аркадием классовый характер коммунизма, как еще одной грядущей «утопии» всенародного веселья в разговоре с Аркадием. Утешенными веселием (обретшими язык «большого времени») на время увидел героев романа и сам Подросток.
Заключение
Карнавализация Бахтиным «Подростка», является существенным углублением как гётевской, так первоначальной бахтинской концепции романа воспитания. Аркадий Долгорукий, в ходе «воспитания» освободился от жажды поиска воплощенных идеалов, что было чревато для него попытками «утвердиться в небытии» исчезающей «утопической жизни».
Главной проблемой «идеалов» является неспособность удержать своих последователей от попадания в карнавальный «мир наизнанку», что проявилось в разрушительных попытках Подростка «повеселиться». Ана- логично, и отец Аркадия, искатель «золотого века» Версилов в бешенстве разбивает невоплотившиеся «идеальные представления других о себе» (в виде наследственной иконы).
С другой стороны, странник Макар Долгорукий являет окружающим райское «веселие» уже в этой жизни, видя и в близких ему людях будущих членов «райского коллектива».
Народный «христоцентричный» язык Макара обеспечил постепенное возрастание ума в слове, избавляя его как от «аполлонически» скучных идеалов, так и от «дионисийски» отчаянного веселья. Бытовые предметы (символика как народно-смеховой традиции Рабле, так и революционных праздников Франции XVIII в.) для русского крестьянина имели не «низкий» материалистически-смеховой или «высокий» пасторально-идеалистический смыслы, а превращались в «материал» единого языка «большого времени» для каждого живущего «словесной жизнью».
Последний роман Достоевского, продолжит тему перехода от разрушительного веселья («Бесы») к «семейному» примирению поколений, что показывает этапный характер «Подростка» среди романов «пятикнижия». Тайну «тихой веселости» словесно-идеологического мира своей цивилизации, вместо его революционного превращения в карнавально-утопический «мир наизнанку».
Список литературы Карнавальный роман воспитания
- Аскольдов-Алексеев С.А. Гносеология. М.: Издательство Московской Патриархии, 2012. 198 с.
- Алпатов В.М. Волошинов, Бахтин и Лингвистика. М.: Языки славянских культур, 2005. 432 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские словари. Языки славянских культур, 1997-2012.
- Баршт К.А. Достоевский: этимология повествования. СПб.: Нестор-История, 2019. 456 с.
- Ветловская В.Е. Теория «полифонического романа» М.М. Бахтина и этическое учение Ф.М. Достоевского // Родная Ладога. 2011. № 2. С. 115-124.
- Дилакторская О.Г. Скопцы и скопчество в изображении Достоевского // РЬйо^юа. 1995. Т. 2. № 3/4. С. 59-84.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
- Колчин В.Г. Борьба сознаний персонажей как основа карнавальности ранней прозы Достоевского // Новый филологический вестник. 2020. № 1. С. 16-26.
- Колчин В.Г. Князь мира и карнавал // Новый филологический вестник. 2022. № 1. С. 124-136.
- Краснощекова Е.А. Роман воспитания Bildungsгoman на русской почве. Спб.: Издательство Пушкинского фонда. 2008. 480 с.
- Кулькова Н.А. Ранние толкования на книгу Бытия в экзегетическом наследии свт. Амвросия Медиоланского // Амвросий Медиоланский, свт. Собр. творений. Т. 9. М.: ПСТГУ, 2021. С. 15-23.
- Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. 959 с.
- Муретов М.Д. Избранные труды. М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 2002. 560 с.
- Озуф М. Революционный праздник 1789-1799. М.: Языки славянских культур, 2003. 416 с.
- Попова И.Л. Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 464 с.
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. СПб.: Университетская книга, 1998. 313 с.
- Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. СПб.: Кри-га, 2010. 400 с.
- Тюпа В.И. Горизонты исторической нарратологии. СПб.: Алетейя, 2021. 270 с.
- Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2004. 405 с.
- Miller R.F. Imitations of Rousseau in "The Possessed" // Toronto University Dostoevsky Studies. 1984. Vol. 5. P. 78-90.