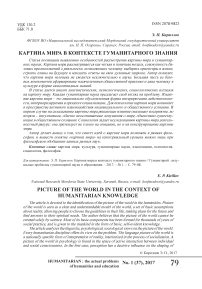Картина мира в контексте гуманитарного знания
Автор: Кириллов Эдуард Павлович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению особенностей рассмотрения картины мира в гуманитарных науках. Картина мира рассматривается как четкая и понятная модель, совокупность базовых предположений о реальности, позволяющих человеку выбирать ориентиры в жизни, строить планы на будущее и находить ответы на свои духовные запросы. Автор полагает, что картина мира человека не сводится исключительно к науке. Большая часть ее базовых компонентов сформирована тысячелетиями общественной практики и дана человеку в культуре в форме самоочевидных знаний. В статье дается анализ лингвистических, психологических, социологических взглядов на картину миру. Каждая гуманитарная наука предлагает свой взгляд на проблему. Языковая картина мира - это национально обусловленная форма интерпретации действительности, интериоризируемая в процессе социализации. Для психологии картина мира возникает в пространстве активного взаимодействия индивидуального и общественного сознания. В первом случае на складывание картины мира решающее влияние оказывает восприятие, во втором - интуитивные, обычно неосознаваемые допущения о мире, объективно существующие в общественном сознании. Социология задает исследованиям картины мира деятельностный ракурс: она претендует не только на описание, но и на конструирование картины мира. Автор делает вывод о том, что синтез идей о картине мира возможен в рамках философии, и вывести понятие «картина мира» на категориальный уровень можно лишь при философском обобщении данных разных наук.
Картина мира, культура, гуманитарные науки, языкознание, психология, социология, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/14720966
IDR: 14720966 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Картина мира в контексте гуманитарного знания
Картина мира – важная часть духовного мира человека и общества и одно из фундаментальных философских понятий, проясняющих особенности человеческого существования и упорядочивающих всю систему его взаимоотношений с обществом и природной средой. Будучи четкой и понятной моделью, совокупностью базовых предположений о реальности, картина мира позволяет человеку выбирать ориентиры в жизни, строить планы на будущее и находить ответы на свои духовные запросы. А. Эйнштейн писал, что «на эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни» [20, c. 98].
Хотя картина мира всегда была интегральной частью духовного мира человека, объектом научных исследований она стала лишь к концу XIX в. Предпосылки ее осмысления можно найти в творчестве немецкого естествоиспытателя А. фон Гумбольдта, который пытался выстроить картину природного мира как единой системы взаимосвязанных элементов. Собственно понятие «картина мира» было употреблено Г. Герцем и популяризовано М. Планком и А. Эйнштейном. Итогом изысканий этих и других исследователей стало разработанное понятие «научная картина мира», основанное на современных физических представлениях о Вселенной, ее происхождении, элементах, законах.
Тем не менее, очевидно, что картина мира человека не сводится исключительно к изменяющимся гипотезам науки. В ней есть и стабильные компоненты, связанные с религиозными, моральными, эстетическими, этническими основаниями человеческой жизни. Большая часть этих компонентов не конструируется учеными в процессе познания мира: они сформированы тысячелетиями общественной практики и даны человеку в культуре как базовые, самоочевидные знания. Так, предположение о том, что мир существует, является исходной интуицией человеческого существования, предшествующей всякому научному познанию и делающей это познание возможным.
Философия с момента зарождения пыталась понять основания этих самоочевидных интуиций. Платон полагал, что они приобретаются душой во время непосредственного созерцания идеального мира. Августин Блаженный считал, что они вкладываются в душу непосредственно Богом. К тому же выводу пришел и Р. Декарт, признавший, что нельзя логично предположить никаких других источников самоочевидных аксиом.
Менее прямолинейный подход к врожденным идеям был предложен В. фон Гумбольдтом, который утверждал, что основную систему базовых представлений о мире человек получает вместе с языком. При этом сам язык является выражением духа народа и имеет сверхприродное происхождение. В. фон Гумбольд писал, что «язык возникает из таких глубин человеческой природы, что в нем никогда нельзя видеть намеренное произведение, создание народов. Ему присуще очевидное для нас, хотя и необъяснимое в своей сути самодеятельное начало (Selbstthatigkeit), и в этом плане он вовсе не продукт ничьей деятельности, а непроизвольная эманация духа, не создание народов, а доставшийся им в удел дар, их внутренняя судьба… Когда мы говорим, что язык самодеятелен, самосоздан и божественно свободен, а языки скованы и зависимы от народов, которым принадлежат, то это не пустая игра слов» [8, c. 49].
Согласно концепции о «внутренней форме языка» В. фон Гумбольдта разница в языках есть разница в мировидении. Он отмечает, что все языки отличаются друг от друга не только словарным запасом и грамматикой: в них различаются сами способы выделения смыслов, восприятия и осмысления мира.
В. фон Гумбольдт был одним из первых исследователей, поставивших в центр своих исследований национальное содержание языка и мышления. Он писал, что «различные языки являются для нации органами их оригинального мышления и восприятия» [9, c. 324]. Воспринимая язык в процессе социализации, человек воспринимает особую систему понятий, отношений и ценностей, объективированную в языке. Без языка невозможно формирование ни индивидуального, ни национального мировоззрения. Строение языка отображает глубинные структуры мышления, фиксирует особенности народной жизни. Язык является внешним проявлением духа народа, опосредующим все отношения человека к миру. В этой идее В. фон Гумбольдта ощущается заметное сходство с концепцией Г. В. Ф. Гегеля об абсолютном духе.
В. фон Гумбольдт заложил предпосылки для гуманитарного изучения картины мира, точно так же, как А. фон Гумбольдт заложил основания для разработки проблемы естественно-научной картины мира. И тот, и другой фактически писали о картине мира, хотя самого термина и не употребляли.
В гуманитарном знании термин «картина мира» был популяризован в начале ХХ столетия австрийским философом Людвигом Витгенштейном. В «Логико-философском трактате» он писал: «Совокупностью всех истинных мыслей является картина мира» [5, с. 54]. Собственно языковая деятельность является предприятием по обозначению явлений и отношений, наличествующих в мире. За время своего развития язык сумел их зафиксировать в своих лексике и грамматике, поэтому можно сказать, что система отношений между объектами мира зеркально отображена в системе отношений между элементами языка. Язык есть полное описание всех фактов, которые только есть в мире. Человек владеет языком настолько, насколько он знает мир, и настолько хорошо знает мир, насколько владеет языком. Соответственно и природу, и общество можно изучать, отталкиваясь от связей, наличествующих в естественном языке. Языковая картина мира и мир – в сущности, одно и то же. С этой точки зрения изучение логических оснований языка одновременно является изучением самого мира, логики его построения. Совокупность всех высказываний, которые истинны, соответственно и есть наиболее точная картина мира.
Языковед Й. Л. Вайсгербер продолжает развитие представлений о картине мира на материале языка. Язык для него – это Zwischenwelt (промежуточный мир) между миром вещей и миром сознания, результат их взаимодействия. Это есть ни что иное, как коллективно осуществляемый процесс вербализации мира, образ мира и мировоззрение народа.
Вайсгербер утверждал, что языковая картина мира является системой духовных и языковых компонентов, которые определяют специфику менталитета того или иного народа, являясь как национальным, так и общекультурным достоянием. Сама логика мышления задана человеку в форме языка, и то, что называется «формальной логикой» – не более чем принятый в Европе способ мышления: «Для оснований логики нельзя обойтись без выяснения того, насколько образы мышления других народов совпадают с признанными нашей логикой принципами в смысле их последовательной применимости и выводимости. Это тем более важно, если учесть с точки зрения языка как формы общественного познания, что и формы мышления существуют в синтаксических данностях языка конкретного сообщества и что они становятся благодаря изучению языка для конкретных членов сообщества обыденными, «естественными» способами мышления» [4, c. 113]. В этом смысле Вайсгербер проявляет себя как последователь В. фон Гумбольдта.
Для Вайсгербера «нет сомнения в том, что многие укоренившиеся в нас воззрения и способы поведения и отношения оказываются «выученными», то есть общественно обусловленными, как только мы проследим сферу их проявления по всему миру» [4, c. 118]. Иными словами, картина мира, задающая основные ориентиры для действий, формируется в процессе социализации и усвоения духовной культуры как коллективного опыта, характерного для того или иного народа.
На дальнейшее развитие идей о картине мира огромное влияние оказала «теория лингвистической относительности», традиционно ассоциируемая с именами Э. Сепира и Б. Уорфа. Сепир утверждает, что «представление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по существу, без помощи языка и что язык является всего лишь случайным средством решения специфических задач мышления и коммуникации, – это всего лишь иллюзия. В действительности «реальный мир» в значительной мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы» [17, c. 259]. Иными словами, то, что представляется человеку «реальным миром», – это не более чем социальный конструкт, включающий в себя языковые и культурные значения. Он связан с реальностью (в традиционном, объективистском ее значении) весьма опосредованно – собственно, картина мира и является тем посредником, которая находится между реальностью-в-себе и реальностью-для-других. То, что человек принимает за реальность, выстраивается бессознательно в соответствии с языковыми нормами: мы воспринимаем мир так, как диктуют нам языковые нормы соответствующего общества.
Б. Уорф выражает схожую точу зрения: «Наш лингвистический детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными идеалами и установками, но захватывает даже наши, собственно, подсознательные действия в сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты» [19, c. 219]. Хотя язык и культура развиваются вместе, влияя друг на друга, именно язык является основным ограничивающим и направляющим фактором этого взаимодействия.
Эта идея в той или иной форме повлияла на лингвистические определения картины мира. Так, В. А. Маслова пишет: «Языковая картина мира – это общекультурное достояние нации, она структурирована, многоуровнева. Именно языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведение, понимание внешнего мира и внутреннего мира человека. Она отражает способ речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее духовными, культурными и национальными ценностями» [14, c. 88].
Согласно Ю. Д. Апресяну, картина мира «представляет отраженные в естественном языке способы восприятия и концептуализации мира, когда основные концепты языка складываются в единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» [1, c. 29].
В этнолингвистической концепции Е. Бартминьского картина мира понимается как «заключенная в языке интерпретация действительности, которую можно представить в виде комплекса суждений о мире.
Это могут быть суждения, либо закрепленные в самом языке, в его грамматических формах, лексике, клишированных текстах (например, пословицах), либо имплицированные формой и текстами языка» [3, c. 88].
На основании этих и прочих подобных утверждений можно заключить, что языковая картина мира фундируется социальным опытом того или иного народа. Поэтому реконструкция языковой картины мира (выделение ее универсальных характеристик и лексических, грамматических, этимологических и других особенностей) является, в то же время, ключом к раскрытию «духа» народа, пониманию его этнической психологии.
Если для описания научной картины мира необходимо интегрировать знания физики, химии, биологии и т. д., то для описания языковой картины мира помимо собственно лингвистики необходимы данные, психологии, социологии, культурологии и т. д., поскольку язык, детерминируя мышление, сам детерминирован психологией, особенностями социальной жизни и культурой индивида и народа.
С этой точки зрения неслучайно, что «картина мира» является понятием, достаточно часто встречающимся в исследованиях психологов. Так, Ю. Г. Гривцова пишет: «Термин «картина мира» прочно укоренился в понятийном аппарате психологии, став одной из основополагающих ее категорий» [7, c. 150].
В психологии часто подчеркиваются субъективные смыслы картины мира: «Картина мира, по определению в психологии – это наше представление о том, что можно или нельзя сделать в данной ситуации, что выгодно, что невыгодно, что этично, что нет и т. д., изменяется в ходе развития общества, неисчерпаема по содержанию и служит основой человеческого поведения. Она формируется посредством приобретения опыта человеком в преломлении субъективного восприятия» [11, c. 97].
Психологи концентрируются на сложности и многоэтапности формирования картины мира в сознании человека. В ка- честве этапов этого процесса выделяется, прежде всего, восприятие новых знаний и ощущений через призму своего «Я». Восприятие позволяет выстроить целостный образ окружения человека.
Как утверждает А. Н. Леонтьев, проблема восприятия в психологической науке должна пониматься как проблема выстраивания в индивидуальном сознании сложного образа мира: «Мы действительно строим, но не Мир, а Образ, активно «вычерпывая» его, как я обычно говорю, из объективной реальности. Процесс восприятия и есть процесс, средство этого «вычерпывания», причем главное состоит не в том, как, с помощью каких средств протекает этот процесс, а в том, что получается в результате этого процесса. Я отвечаю: образ объективного мира, объективной реальности. Образ более адекватный или менее адекватный, более полный или менее полный... иногда даже ложный...» [13, c. 255].
Вторым этапом построения картины мира является рациональное осознание того, что было воспринято ранее. Третьим – создание собственно картины мира. Таким образом, для оформления картины мира требуется синтез эмпирических и теоретических компонентов, эмоций и интеллекта, чувств и разума [11, c. 97].
Чувственные компоненты картины мира отвечают за ее динамичность. Картина мира в психологическом рассмотрении не является чем-то ставшим, неподвижным. Она процессуальна, т. е. постоянно меняется и не совпадает сама с собой, взятой в любой другой отдельно взятый момент времени. Такая процессуальность во многом связана с тем, что эмоциональное восприятие мира человеком неустойчиво, а чувства свидетельствуют об изменчивости мира. Рациональные компоненты, напротив, представляют собой «ядро», неизменный центр картины мира. Рациональные представления стремятся к стабильности: именно они отвечают за устойчивость картины мира в сознании индивида.
Результатом синтеза чувственного опыта и рационального осмысления является некоторое количество предпосылок, воспринимаемых в качестве исходных аксиом. Первая предполагает, что мир объективно существует, как и тело познающего субъекта. Вторая предполагает необходимость познания мира для ориентации в нем, адаптации к нему. Наконец, третья посылка утверждает познаваемость мира.
На формирование картины мира важное влияние оказывают субъективные факторы: психические особенности, эмоциональное состояние человека. С этой точки зрения каждая индивидуальная картина мира уникальна и неповторима. С другой стороны, картина мира, конечно же, не формируется в результате лишь индивидуальных актов сознания. В ней аккумулируется и весь опыт предшествующей деятельности общества, соответствующим образом осмысленный и упорядоченный. Объективными факторами, влияющими на оформление картины мира являются воспитание, образование, культурные особенности, а также язык, аккумулирующий опыт познания мира тем или иным народом. Без этих факторов, имеющих социальный характер, картина мира (даже уникальная, индивидуализированная картина) сформироваться не может. Таким образом, всякая индивидуальная картина мира возникает в ходе социализации. Соответственно заметную роль в этом процессе выполняют социальные институты: семья, школа, церковь, государство.
Ю. Г. Гривцова пишет о психологическом подходе к образу мира следующее: «Возможность создания такого сложного образования виделась в результате освоения индивидуумом предметной деятельности, в ходе которой усваивались общественно выработанные значения. Так, образ мира явился категорией для описания системы значений человека, отражающей единство индивидуального и социального опыта» [7, c. 150].
Решить проблему картины мира в рамках психологии, опираясь только на изучение ин- дивидуального сознания, представляется нам невозможным. Для этого требуется выход на более сложный уровень общественной психологии, детерминирующий индивидуальное сознание. Характеристики образа мира, согласно А. Н. Леонтьеву «выражают объективность, раскрытую совокупной общественной практикой, идеализированной в системе значений, которые каждый отдельный индивид находит как «вне-его-существующее» – воспринимаемое, усваиваемое» [13, c. 254].
В социальной психологии картина мира понимается как «единая когнитивная ориентация, являющаяся фактически невербализованным, имплицитным выражением понимания членами каждого общества «правил жизни», диктуемых им социальными, природными и «сверхъестественными» силами» [12, c. 490].
Картина мира любой отдельно взятой общности является системой допущений, которые часто считаются само собой разумеющимися – они не дискутируются и часто даже не осознаются. В этом смысле они аналогичны грамматике в языке: для того, чтобы правильно разговаривать на нем нет необходимости рефлексировать над грамматическими правилами или вообще знать о них. Носитель языка строит свои фразы автоматически, прежде всего, на основании интуитивно воспринятых в детстве представлений о правильной речи. Все базовые предположения, которые составляют картину миру, не являются изобретением индивида: они изначально даны ему как самоочевидные аксиомы, часть общечеловеческого фонда знаний о реальности.
Таким образом, для психологии картина мира возникает в пространстве активного взаимодействия индивидуального и общественного сознания. В первом случае на складывание картины мира решающее влияние оказывает восприятие. Во втором – интуитивные, обычно неосознаваемые допущения о мире, объективно существующие в общественном сознании.
Иной, деятельностный, ракурс задает исследованиям о картине мира социология. Ю. Н. Давыдов отмечает: «Мир», синтезируемый в «картине мира», истолковывается под углом зрения определенной его оценки, что в свою очередь «задает» человеку соответствующий способ действия, поведения в этом мире. Ведь речь идет о мире, в котором человек живет, а жить в нем – и значит так или иначе взаимодействовать с ним, а не только созерцать его» [10, c. 760]. Какие же основные типы взаимодействия с окружающим миром могут быть «закодированы» в картине мира?
М. Вебер, как известно, выделял три типа отношения к реальности. Первый тип ориентирован на приспособление к миру. Это древнейшая мировоззренческая ориентация, характерная для этапа господства в обществе присваивающего хозяйства. Однако она характерна и для более поздних эпох. Например, такая картина мира присуща китайскому миросозерцанию. Свои развернутые философские обоснования она находит в конфуцианстве и даосизме.
Второй тип отношения к реальности призывает к бегству от мира. Подробная теоретическая разработка этой мировоззренческой ориентации была осуществлена в Древней Индии. Примерами религиозно-философского обоснования этого типа являются многие индийские учения, как ведические, так и неортодоксальные, включая индуизм, джайнизм и буддизм. Например, в буддизме одной из основных задач всякого верующего признается подавление любых желаний, поскольку считается, что именно желания привязывают человека к миру и не позволяют ему выйти в пространство полной свободы.
Третий тип, выделенный Вебером, направлен на овладение миром. По его мнению, идеологические основания этого типа были заложены в иудео-христианской религиозной традиции, получившей широкое распространение в Западной Европе, а затем и в Северной Америке. Философское обоснование этой картины мира было пред- ложено в Новое время. В этой традиции мир – это безгласный и пассивный объект, испытывающий воздействия со стороны активного и инициативного деятеля – человека или социальной группы.
В каждом из предложенных Вебером типов мироотношения зашифровано специфическое понимание будущего. Для человека, стремящегося приспособиться к миру, будущее – это данность, судьба, дао, которую нужно принять как есть. Для человека, бегущего от мира, будущее – это идеал, локализованный в ином мире, отличном от окружающей его реальности, по постигаемом в процессе медитации, самопознания, погружения в собственный внутренний мир. Наконец, для человека, овладевающего миром, будущее является проектом, который он выстраивает самостоятельно.
Очевидно, что для проектирования «посюстороннего» будущего и для дальнейшей реализации своих проектов человеку необходима не только религия. Помощником в этом предприятии, по мнению Вебера, может стать наука. При этом центральную роль в определении новой картины мира и создании условий для ее всемерной реализации играет сама социология: лишь она способна спроектировать оптимальное будущее и показать пути к соответствующей реорганизации общества.
Социология в таком понимании предстает в качестве коммуникативной (дискурсивной в терминах М. Фуко) практики производства знания о мире. Проблема дискурса вновь отсылает исследователя к проблеме речи, языковой деятельности. Эта отсылка далеко не случайна: для гуманитарного знания всякая картина мира имеет генетическую связь с языком, будь то теория восприятия или теория социальных взаимодействий.
Само знание об обществе конструирует социальный мир. Для объяснения картины мира с этой точки зрения наилучшим образом подходят идеи П. Бергера и Т. Лукмана о конструировании социальной реальности:
в рамках их теории дискурсивные практики производства знания о мире одновременно создают этот мир.
Таким образом, специфика подхода социологии к картине мира состоит в том, что она не только описывает, но и деятельностно изменяет социальный мир. Она формирует соответствующую картину мира, которая задает ориентиры для самопонимания общества и направляет его деятельность в нужное русло.
Так, многими специалистами социология рассматривается не только как академическая дисциплина, но, прежде всего, как форма осознания гражданским обществом самого себя, или, как пишет Н. Отрешко, «не столько наука, изучающая проблемы индустриального и постиндустриального обществ, сколько проект описания десакрализированного социального мира, пришедший на смену религиозному проекту мировоззрения в Новое время в обществах западного типа» [16, c. 128].
Для объяснения этой особой функции социологии можно обратиться к работе А. Гоулднера «Наступающий кризис западной социологии», где автор обращается к упомянутой ранее проблеме различия теорий «среднего уровня» и «больших теорий». Теории среднего уровня позволяют получить верифицируемые знания о реальности. Что касается «больших» теорий, то у них иная задача: упорядочивая и переосмысливая полученные знания, они ориентируют человека в мире, разрешают мировоззренческие противоречия, устанавливают смысл событий и социальных действий. Гоулднер пишет: «Социальная функция социальной теории состоит не в том, чтобы поставлять «факты» о социальном мире, а в том, чтобы осуществить переориентацию, уменьшающую беспокойство, обеспечить новую всеобъемлющую картину, которая показывает, каковы вещи и где они вступают в отношения друг к другу» [6, c. 116].
Особенно важна функция построения социальной картины мира в кризисные эпохи, когда старая картина оказалась разрушенной, оставив людей в ценностном вакууме: без ценностных и познавательных ориентиров. Если в Средние века построение такой картины обеспечивало духовенство, то в десакрализированном обществе Нового времени – интеллектуальная элита, прежде всего признанные теоретики, способные сконструировать влиятельные «большие» теории. Именно они, по мнению ряда социологов, способны четко идентифицировать проблемы, возникшие в кризисном обществе, и наметить перспективы разрешения многих моральных дилемм современности.
Подход Гоулднера, делегирующий разрешение проблем картины мира на уровень «больших» предполагает, что вопросы, решаемые на этом уровне – о мировоззрении, смысле деятельности, имеют явно выраженный философский характер. Картина мира, несомненно, находится в ряду этих проблем. Н. Отрешко, например, пишет об этом таким образом: «Наиболее общую смысловую рамку в картинах мира создают базовые философские метафоры и допущения, ставшие истинами для определенных культур. Они закладывают основы традиций общества и доминирующую норму мировоззрения, которая отделяет смысл от бессмыслицы, разум – от безумия в повседневной жизни, а также в таких особых сферах познания, как наука, религия, философия» [16, c. 128].
Для области социологии теории высшего уровня представляют собой, в сущности, философские теории, или, если быть более точным, границы между теоретической социологией и социальной философией на этом уровне отсутствуют. «Большие» теории в обществе современного типа ответственны за интерпретацию реальности. Общепризнанные интерпретации позже тем или иным образом детерминируют мировоззрение человека, предопределяя его социальное поведение.
Синтез гуманитарных и естественно-научных идей о картине мира, на наш взгляд возможен в рамках философии, которая, как полагал Н. П. Огарев, способна создать всеобъемлющую теорию «мироведения» и связать разные взгляды на реальность, примирить теорию и жизнь [18, c. 16]. Точно так же, лишь обобщив данные разных наук, можно вывести понятие «картина мира» на категориальный уровень [15, c. 36], т. е. превратить его в общенаучную, философскую категорию [2, c. 54].
С нашей точки зрения, проблематика, связанная с изучением картины мира, является предметом рассмотрения, прежде всего, общетеоретических «этажей» социальных и естественных наук. Она может получить под- робную разработку не в физике, языкознании, психологии и т. д., но в философии природы, философии языка, философии психологии, философии культуры. Каждый отдельный исследователь в той или иной науке (Й. Л. Вайс-гербер, Л. Витгенштейн, Г. Герц, М. Планк, А. Эйнштейн и др.) внес свой вклад в развитие представлений об этой сложной проблеме в той мере, в которой он сумел подняться над частными проблемами своих наук и перейти к уровню сложных философских обобщений. Не случайно все проанализированные работы, в которых оформлялось понятие картины мира, имели ярко выраженный теоретико-философский, метанаучный характер.
Список литературы Картина мира в контексте гуманитарного знания
- Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2 т. -М.: Языки русской культуры, 1995. -Т. 2. -767 с.
- Ахиезер А. С. Концепция социальной философии в усложняющемся мире//Власть. -2005. -№ 7. -С. 54-62.
- Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике -М.: Индрик, 2005. -512 с.
- Вайсгербер Й. Л. Язык и философия//Вопросы языкознания. -1993. -№ 2. -С. 114-124.
- Витгенштейн Л. Избранные работы. -М.: Территория, 2005. -440 c.
- Гоулднер А. У. Наступающий кризис западной социологии. -СПб.: Наука. Санкт-Петербург. отд-ние. 2003. -575 с.
- Гривцова Ю. Г. Картина мира как фундаментальная категория психологии//Ананьевские чтения: в 2 ч. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. -Ч. 2. -С. 150-151.
- Гумбольд В. фон. Избранные труды по языкознанию. -М.: Прогресс, 2000. -400 с.
- Гумбольд В. фон. Язык и философия культуры. -М.: Прогресс, 1985. -452 с.
- Давыдов Ю. Н. Картины мира и типы рациональности//Вебер М. Избранные произведения. -М.: Прогресс, 1990. -С. 735-769.
- Дьяченко Е. Е. Картина мира -социально-психологический аспект//Самиздат. -2005. -№ 12. -С. 97-109.
- Краткий психологический словарь. -Ростов-на-Дону: Феникс. 1998. -505 с.
- Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. -М.: Педагогика, 1983. -Т. 2. -320 с.
- Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. -М.: Флинта, 2007. -296 с.
- Новые идеи в социальной философии. -М.: ИФ РАН, 2006. -324 с.
- Отрешко Н. Б. Картины социального мира: концепты общества и субъекта действия в социологической теории//Социология: теория, методы, маркетинг. -2009. -№ 1. -С. 127-137.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. -М.: Прогресс, 1993. -656 с.
- Сычев А. А. Эволюция философских взглядов Н. П. Огарева//Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. -2014. -№ 1 (25). -С. 14-22.
- Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку//История языкознания ХIХ и ХХ веков в очерках и извлечениях: в 2 ч. -М: Просвещение, 1964. -Ч. 2. -С. 198-223.
- Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4 т. -М.: Наука, 1967. -Т. 4. -600 с.