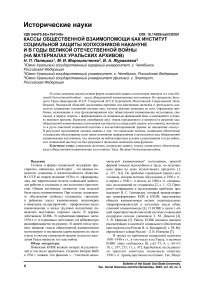Кассы общественной взаимопомощи как институт социальной защиты колхозников накануне и в годы Великой Отечественной войны (на материалах уральских архивов)
Автор: Палецких Н.П., Мирошниченко М.И., Журавлева В.А.
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.23, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье освещена малоизученная форма социальной защиты колхозников накануне и в годы Великой Отечественной войны - кассы общественной взаимопомощи колхозников. На материалах Большого Урала (Башкирской АССР, Удмуртской АССР, Курганской, Молотовской, Свердловской, Челябинской, Чкаловской областей) исследована партийно-государственная политика и деятельность властей по сохранению и развитию системы касс, изучены векторы динамики их сети. Определены проблемы, возникавшие в ходе функционирования касс общественной взаимопомощи колхозников, связанные, в первую очередь, с формированием их материально-финансовой базы и адаптацией в условиях военного времени. Выявлено своеобразие двух этапов (предвоенного и военного) в развитии касс общественной взаимопомощи колхозников как института социальной защиты колхозников, возникшего в русле советской социальной политики в коллективизированной деревне по инициативе «снизу». В результате исследования сделаны выводы о том, что социальная помощь, социальное обеспечение и социальное обслуживание стали тремя основными направлениями в деятельности касс общественной взаимопомощи колхозников, что, несмотря на неблагоприятные условия существования в годы войны, этот социальный институт не был разрушен и продолжал выполнять свои функции.
Социальная политика, социальная защита, отделы социального обеспечения, кассы общественной взаимопомощи колхозников, урал, великая отечественная война
Короткий адрес: https://sciup.org/147241815
IDR: 147241815 | УДК: 94(470.55)«1941/45» | DOI: 10.14529/ssh230301
Текст научной статьи Кассы общественной взаимопомощи как институт социальной защиты колхозников накануне и в годы Великой Отечественной войны (на материалах уральских архивов)
Степень и формы социальной поддержки престарелых, инвалидов, детей-сирот – это важные показатели гуманизма и жизнеспособности общества. В СССР ко второй половине 1930-х гг. сформировались две параллельные модели социальной защиты: для рабочих и служащих и для колхозного крестьянства. Общим системным элементом этих моделей были кассы взаимопомощи. При отделах социального обеспечения (собесах) создавались городские и районные кассы взаимопомощи пенсионеров и инвалидов, на предприятиях – профсоюзные кассы взаимопомощи, в малых трудовых коллективах появлялись неуставные «черные» кассы. В деревне действовали КОВК. В нормативно-правовых актах 1930-х гг. и в архивных источниках эта аббревиатура расшифровывается по-разному. В нашей статье принято название «кассы общественной взаимопомощи колхозников» и поставлена задача выяснить их место и роль в системе социальной защиты сельского населения Урала накануне и в годы войны.
Обзор литературы
Появление КОВК вызвало интерес исследователей, в том числе зарубежных. Сидней и Беатрис Вебб в 1936 г. назвали этот феномен «…“системой эконо- мической взаимопомощи” колхозников, простой формой помощи неспособным к труду, но получающим право на долю коллективного продукта» [1, p. 327, 341]. По проблеме социальной защиты колхозников, которая активно обсуждалась в 1930-е гг., в период с 1940 г. и вплоть до 1980-х гг. специальных исследований не создавалось [2, с. 1–12]. Приоритет возвращения к исследованию проблемы принадлежит В. С. Григорьеву, который проанализировал трансформацию КОВ в ККОВ: крестьянских обществ взаимопомощи мелких индивидуальных товаропроизводителей в колхозные кассы общественной взаимопомощи [3]. О КОВК в связи с общей характеристикой советской системы социальной поддержки сельчан упоминали Т. М. Димони [4], Т. В. Еферина [5]. Работу КОВК военного времени рассматривали в контексте социального обеспечения крестьянства юга России В. А. Бондарев [6, с. 58–86], европейского севера России – Л. В. Изюмова [7].
В трудах по проблемам социальной политики 1930–1940-х гг., в том числе и на Урале, о наличии КОВК лишь сообщалось [8, с.62–73; 9, с. 64–67; 10, с. 247, 253; 11, с. 47]. Зарубежные исследователи трактуют советскую социальную политику 1930-х гг. преимущественно негативно. Так, Моше
Левин говорил о ней как о «статусной революции», усилившей социальное и идеологическое расслоение советского общества и закрывшей, в частности, колхозникам доступ к социальной защите [12, p. 184–186]. Социальная ситуация в коллективизированной деревне 1930-х гг. чаще всего оценивается со знаком «минус». Ш. Фицпатрик считает, что в деревне «…царил дух неудержимой злобы», а «…взаимная поддержка и солидарность среди крестьян встречались редко» [13, с. 261]. Андреа Грациози интерпретирует советскую политику в деревне в парадигме войны власти против крестьянства и полагает эту войну «…самостоятельным источником регресса» [14, с. 91]. В этих трудах наличие КОВК не артикулируется. Присутствие среди учреждений социального обеспечения «комитетов общественной взаимопомощи колхозов» признает Б. Мэдисон, но она называет их помощь «…жалкой и неспособной повлиять на низкий уровень жизни» колхозников [15, с. 70, 71].
В уральской историографии аграрной истории периода Великой Отечественной войны в монографиях Г. Е. Корнилова [16, 17], В. П. Мотревича [18, 19], Р. Р. Хисамутдиновой [20] имеются сюжеты об оказании помощи разным категориям сельского населения, но деятельность КОВК не раскрывается. Попыткой акцентировать внимание на данной теме стала небольшая статья, опубликованная в 2021 г. [21]. В целом степень научной разработки вопросов социальной защиты колхозников, в том числе через КОВК, накануне и в годы войны надо признать недостаточной.
Методы исследования
Теоретическим ориентиром для работы стала гипотеза о советской цивилизации как обществе мобилизационного типа, переживавшем в 1930–1940-е гг. глубокие и противоречивые процессы модернизации. Модернизирующая сельский социум советская социальная политика с ее культом труда, матрицами коллективизма и добровольчества одним из результатов имела систему социальной защиты колхозного населения, главным институтом которой стали кассы общественной взаимопомощи колхозников. В преломлении к изучаемой теме применены подходы: институциональный, структурно-функциональный, факторный. На этой основе были изучены нормативно-директивные, делопроизводственные, учетностатистические документы, выявленные в 17 фондах 10 уральских архивов (ГАКО, ГАОПДКО, ГАСО, НА РБ, ОГАОО, ОГАЧО, ПермГАСПИ, ЦГА УР, ЦДНИ УР, ЦДООСО).
Результаты и дискуссия
Система КОВК как институт внутриколхоз-ной социальной защиты сложилась на протяжении 1930-х гг. Кассы являлись добровольными самостоятельными общественными организациями колхозников и колхозниц для помощи нетрудоспособным членам артели, сиротам и нуждаю- щимся детям колхозников, управлялись общим собранием и правлением сельскохозяйственной артели, контролировались сельсоветом и райсобесом. Зарегистрировав в райисполкоме свой устав, они приобретали права юридического лица (с печатью, счетом в банке, членскими книжками участников, где отмечались уплата взносов, получение пособия или ссуды, погашение задолженности, общественная работе в кассе и т. д.) [22, л. 170]. В процессе становления система КОВК пережила существенную трансформацию, часть ее функций (курирование школ и медпунктов) перешла колхозам. Принципиально то, что работа касс (пособия и ссуды в денежной или натуральной форме, трудоустройство инвалидов, помощь им в повышении квалификации, организация «трудовой помощи» и социального обслуживания престарелых) объективно способствовала укреплению трудовой дисциплины, росту производительности труда и в итоге организационно-хозяйственному укреплению колхозов как новой производственной структуры. Материально-финансовые фонды КОВК формировались из нескольких источников. Сельсоветы передавали кассам бесхозное и выморочное имущество. Для выплаты государственных пособий и пенсий колхозникам, имевшим на то право, на счета касс райсобесы перечисляли ассигнования из местных бюджетов. Колхозы имели право ежегодных дотаций кассам в объеме не более 2 % своих денежных и натуральных фондов и (для денежных отчислений) не более общей суммы поступивших членских взносов, которые вместе со вступительными взносами служили основным источником для КОВК. И те, и другие зависели от положения дел в колхозе. Размеры взносов устанавливались общими собраниями кассы, однако желательные суммы диктовались Наркомсобесом РСФСР.
Сохранившаяся областная статистика указывает на резкое сокращение сети и работы КОВК в 1937 г. Упадок аграрной отрасли на рубеже 1930–1940-х гг. и осложнение международной обстановки повысили значимость КОВК как института социальной защиты. Выплата через КОВК государственных пособий и пенсий военнослужащим и их семьям получила импульсы в связи с принятием Указа ПВС СССР от 10 октября 1939 г. и постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. [23, с. 147–151].
Текущие задачи, меры по расширению сети и активизации работы КОВК формулировались в решениях партийных и советских органов. Проводились инструктивные совещания сотрудников собесов, краткосрочные курсы-семинары председателей касс. Популяризировался опыт передовиков. В Челябинской области в 1939 г. были организованы выступления по радио лучших председателей КОВК, в областной и районных газетах помещена 21 корреспонденция о работе касс [24, л. 12]. Новым явлением для предвоенной деревни стало признание трудовых достижений женщин и избрание их руководителями КОВК. Одна из них -Т. Ерофеева; она, вступив в колхоз лишь в 1935 г., к марту 1939 г. завоевала уважение сельчан и была избрана председателем кассы [25, л. 267].
Требование создавать КОВК в каждом колхозе, судя по статотчетам собесов, выполнялось успешно. К примеру, через шесть месяцев после принятия СНК БАССР 23 июня 1940 г. решения о КОВК они были созданы в 84 % сельхозартелей. В Чкаловской области в 1940 г. кассы общественной взаимопомощи колхозников были созданы в 87,2 % сельхозартелей [26, л. 98; 27, л. 8; 28, л. 4; 29, л. 167]. Можно предположить, что в предвоенной уральской деревне КОВК становились самой массовой общественной организацией.
С началом войны тенденция организационного укрепления системы КОВК приостановилась. Между тем в круг нуждавшихся в социальной поддержке вошло практически все население колхозов: поскольку на колхозное крестьянство не распространялось бронирование от призыва в вооруженные силы, в первые же дни военной мобилизации выросла категория семей военнослужащих. 26 июня 1941 г. вышел Указ ПВС СССР «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» [30, с. 5-6].
Условия назначения государственных пособий и организация их выплаты в ходе войны менялись, но в начале войны выдача пособий семьям мобилизованных какое-то время по-прежнему поручалась КОВК. Выявилось много недостатков и финансовых нарушений, требовалась оперативная настройка механизма социальной поддержки сельчан в новых условиях. Бюро Чишминского РК ВКП(б) БАССР 11 июля 1941 г. отметило, что с начала войны бытовые условия семей красноармейцев проверялись только в трех колхозах и что КОВК им не помогают. Райком обязал местных руководителей организовать помощь семьям в том числе и из колхозных касс взаимопомощи, от райсобеса потребовали вызывать председателей касс с отчетом. Чкаловский обком ВКП(б) в январе 1942 г. при рассмотрении вопроса «О непорядках в деле назначения и выплаты государственного пособия семьям мобилизованных в Красную Армию» обязал райкомы обсудить на заседаниях бюро поступление и расходование денежных и натуральных средств КОВК [31, л. 12; 32, л. 61].
Помощь семьям фронтовиков все годы войны входила в число ведущих забот КОВК. Довоенный принцип преимущественной помощи передовикам производства отходил на второй план. По данным Молотовского облисполкома в августе 1941 г. КОВК оказали материальную помощь 1158 семьям военнослужащих. В конце года областная газета отмечала хорошую работу КОВК в ряде районов, ставила в пример кассу колхоза им. Ленина Чер-нушинского района, которая дотировала покупку детской одежды и учебников, предоставляла возвратные ссуды на приобретение крупного рогатого скота, двум семьям организовала подвоз дров, одной - ремонт бани. В Челябинской области в декабре 1941 г. через кассы общественной взаимопомощи колхозников получили помощь 4825 семей фронтовиков, им заготавливали и привозили дрова, выдавали хлеб [33, с. 321; 34; 35, л. 25].
Помощь раненым и больным бойцам, отправленным в колхозы из госпиталей на долечивание, стала новой стороной деятельности касс. Отводимая КОВК роль прописывалась четко. В письме Молотовского обкома ВКП(б) и облисполкома районным властям 18 октября 1941 г. указывалось, что расходы на эти нужды следует относить за счет средств общественной колхозной кассы взаимопомощи [36, л. 42].
Среди забот КОВК оказалось бытовое устройство размещенного в колхозах эвакуированного населения, в составе которого было много семей фронтовиков. Но для того, чтобы вступить в кассу взаимопомощи, прибывшие должны были стать членами колхоза. Чаще всего это было невозможно, поскольку приезжие не хотели закреплять свое пребывание в уральской деревне и не имели средств для внесения пая в фонды колхозов. Тем не менее в архивных документах встречается информация о помощи эвакуированным со стороны КОВК. В отчете о работе КОВК в Челябинской области за 1941 г. говорилось о том, что из 32,8 тыс. руб. дотаций, распределенных райсобесами, 3,8 тыс. руб. было израсходовано на детей из эвакуированных семей [37, л. 62].
Прежние уставные направления работы КОВК: помощь сиротам, престарелым и нетрудоспособным колхозникам - в обстановке войны приобретали новые смыслы. О том, что именно на КОВК возлагалась задача социальной защиты осиротевших детей, говорится в постановлении СНК БАССР от 20 февраля 1942 г.: «Учитывая, что кассы общественной взаимопомощи колхозов являются основным источником для содержания сирот - детей колхозников, обязать Наркомсобес БАССР (т. Мустафину), Наркомзем БАССР (т. Ермолаева) и председателей исполкомов райсоветов укрепить материальную базу существующих колхозных касс взаимопомощи… Обеспечить патронирование круглых сирот-детей колхозников в семьях колхозников за счет средств колхозных касс взаимопомощи» [38, с. 297].
Выделение средств на содержание детей-сирот составляло значительную расходную статью бюджета КОВК. В Чкаловской области за 1942 г. КОВК израсходовали на эти цели 94,5 тыс. руб. и на 25 тыс. руб. произвели натуральные выдачи [39, л. 26]. Но в пересчете на одного ребенка это были совсем малые суммы, которые к тому же не всегда осваи- вались. В 1942 г. в расходах касс общественной взаимопомощи колхозников Удмуртии на содержание сирот предусматривалось по 350 руб. на человека в год. В 1943 г. фактические расходы по этой статье составили 50,888 тыс. руб., что равнялось 40 % от запланированных [40, л. 24, 50; 41, л. 71; 42, с. 122].
Реальным достижением в условиях тыловой повседневности, к которому причастны КОВК, стало расширение сети сезонных дошкольных учреждений, дававшее возможность пополнять трудовые ресурсы за счет домохозяек. В Башкирии, Молотовской и Чкаловской областях летом 1943 г. яслей и детских площадок было открыто на 39,4 % больше, чем в 1940 г. В одной только Свердловской области действовало 17520 сельских площадок [подсчитано по: 43, л. 31, 32; 44, л. 5; 45, л. 34; 46, л. 47]. В отличие от тысяч сезонных сеть постоянных учреждений (с небольшой емкостью) исчислялась на селе сотнями. В Молотовской области в 1943 г. их насчитывалось 271. В Чкаловской области в 1941 г. мест в постоянных колхозных яслях было 2575, в 1942 г. - 2735. Основная часть этих заведений влачила жалкое существование. Но были и исключения. В докладе 1944 г. по Свердловской области сообщалось о яслях в колхозе «1 Мая» Красноуфимского района: помещение из 6 комнат, инвентаря достаточно, наблюдение участкового врача, питание детей полноценное [45, л. 34; 47, л. 31; 48, л. 20].
КОВК продолжали оказывать помощь нетрудоспособным колхозникам. На средства касс содержались дома престарелых колхозников (ДПК). Еще до войны обнаружился тренд на сокращение обитателей в них. В 1940 г. в 10 ДПК, работавших в районах Челябинской области, имелось 266 койко-мест, но обеспечиваемых было только 143 человека. «Недокомплект обслуживаемых» власти объясняли тем, что «...в связи с недостатком рабочей силы некоторые колхозы престарелых не отпускают в дома, используя их на работе сторожами, а некоторые прямо заявляют, что дешевле прокормить в колхозе, чем платить на содержание в дом… Возможность загрузки домов единоличниками-стариками в районах, где находятся дома, имеются, но оплачивать их содержание никто не хочет, в том числе и облсо-бес» [24, л. 11; 49, л. 165]. В условиях войны эта форма социального обслуживания была свернута до предела. В отчетах за 1941 г. сообщалось, что в ДПК колхозников стало очень мало, потому что все те, кто может двигаться, заняты на колхозных работах, а ДПК теперь обслуживают преимущественно пенсионеров за счет их пенсии. В демо-графически-кризисном 1942 г. категория престарелых и нетрудоспособных колхозников на Урале сильно уменьшилась. По данным Г. Е. Корнилова, численность этой группы к концу 1941 г. равнялась 851,1 тыс. человек, а в 1942 г. - 372, 7 тыс.
При этом ее доля среди принимавших участие в колхозных работах выросла: в 1942 г. она составляла 13,5 %, в 1943 г. - 15,3 %, в 1944 г. -15,9 %. [15, с. 38, 40, 42]. Многие ДПК закрывались. На всю Чкаловскую область к началу 1945 г. остался только один ДПК, содержавшийся за счет средств КОВК - в селе Городище Краснохолмского района [29, л. 165].
Закрытие ДПК не означало отсутствия заботы КОВК о нетрудоспособных колхозниках. На обеспечение инвалидов, престарелых и временно потерявших трудоспособность КОВК Чкаловской области в 1942 г. израсходовали 75 тыс. руб., и на 41 тыс. руб. было выделено материалов и продуктов. Кроме того, на обучение, переобучение и протезирование инвалидов было выдано 12 тыс. руб. Расход КОВК УАССР за 1943 г. по этой статье составил 74,069 тыс. руб. и на 14,53 тыс. руб. натурой [39, л. 26; 41, л. 71, 76].
При растущей востребованности КОВК условия их существования ухудшились. Из-за ухода колхозников на фронт и в промышленность сокращалась численность касс, их участников и количества взносов. Зачастую эти процессы имели обвальный характер и означали фактический распад довоенной сети КОВК. Вопрос о воссоздании КОВК, сборе задолженности по вступительным и паевым взносам часто выносился на рассмотрение сессий райсоветов и заседаний бюро райкомов партии [27, л. 5; 50, л. 44; 51, л. 4].
В середине войны уральская колхозная деревня подошла к кризисному состоянию сельхозпро-изводства, высокой степени обезлюдения и обнищания [подробнее см.: 16, с. 64-87; 18, с. 237-286; 19, с. 153–215]. На 1943 г. пришлись пиковые значения свертывания сети КОВК. На совещании заведующих райсобесами Башкирии сообщалось о том, что КОВК существуют только в 35 % колхозов и работа их неудовлетворительна.
В Удмуртии лишь 20 райсобесов (из 37) прислали в 1943 г. отчетную информацию в Наркомат социального обеспечения республики (из которой видно, что количество касс за год сократилось в этих районах на 50 %.), оставшиеся 17 сообщали что КОВК у них либо бездействуют, либо их совсем нет. Единицами измерялось число касс и по районам Челябинской области: 6 касс на 76 колхозов в Аргаяшском районе, 1 - на 32 колхоза в Верхне-Уральском; в 18 районах КОВК отсутствовали [26, л. 98; 41, л. 69; 52, л. 49].
Меры по восстановлению КОВК предпринимались на протяжении всех военных лет. Но оценивая их итоги, надо делать поправку на «лукавые цифры» в отчетах. Большие показатели расширения системы касс, отраженные в сводках отделов социального обеспечения, следует воспринимать критически. Так, динамика КОВК по Чкаловской области с 1940 г. по 1944 г. показывает устойчивый, хотя и крайне медленный, рост: 87,2 %, 87,5 %,
94 %, 94,6 %, 95,1 % соответственно. Но составителями документа отмечено, что многие кассы «существуют формально» [29, л. 167]. Существенны и расхождения в численности членов КОВК и трудоспособных в сельхозартелях.
По Молотовской области в 1942 г. трудоспособных в 2027 колхозах было учтено 218195, а членов КОВК 109254 человека [53, л. 70]. Иной вариант соотношения трудоспособных колхозников и членов КОВК за 1942 г. был представлен в отчете Удмуртского Наркомсобеса: 185919 человек – и тех, и других. НКСО РСФСР потребовал уточнить эти сведения [40, л. 24, 49].
Главной причиной ослабления сети КОВК было сужение их материально-финансовой базы. Курганский облисполком в мае 1944 г. констатировал, что КОВК созданы только в 772 колхозах из 1900, никаких фондов не имеют и бездействуют [54, л. 8–9]. Выделение и освоение бюджетных средств на соцобеспечение сокращалось. К примеру, местным бюджетом Челябинской области на нужды КОВК (совместно со Всесоюзным обществом глухих и Всесоюзным обществом слепых) на 1941 г. выделялось в сумме 117 тыс. руб. (в 1942 г. они сократились более, чем на 13 % и составили 102 тыс. руб., лишь чуть более трети этой суммы – 35 тыс. руб., – отводилось непосредственно кассам). Средства, выделенные в области на социальное обеспечение, в 1941 г. были освоены лишь на 91,8 %, а в 1943 г. – всего на 66,8 % [55, л. 17; 56, л. 108, 119; 57, л. 44].
Объем членских взносов в КОВК пытались директивно увеличивать. Так, НКСО РСФСР в 1942 г. давал установку принимать членские взносы в размере 12 руб. НКСО Удмуртии это требование не выполнил, запланировав вдвое меньшую сумму, объясняя это средней величиной фактически принятых в большинстве районов размеров взносов (в 4–8 руб.) (несмотря на указания о 12 руб.). Нормы, которые диктовались сверху, были невыполнимы из-за тотального ухудшения материального положения и колхозников, и колхозов. Однако требования поднять размеры взносов продолжались. Курганский облисполком весной 1944 г. рекомендовал установить вступительные взносы в КОВК в размере 30 руб., а паевые взносы (отчисления от доходов) – 100 руб. в год [40, л. 49–50; 54, л. 8].
В связи с трудным положением колхозы сокращали, а нередко и вовсе прекращали дотации КОВК. Так, в 1943 г. КОВК Удмуртии получили 27,4 % планируемых денежных колхозных отчислений – 82885 руб., натуральные отчисления в этом году либо не были произведены, либо не нашли отражения в графе «Доходы» сметы, их расход исчислялся суммой в 334,25 тыс. руб. [40, л. 24; 41, л. 71, 76]. Неясно, можно ли их отнести к уставным фондам или это были продукты, которые выделялись за участие в колхозных воскресни- ках по оказанию помощи семьям красноармейцев, инвалидам войны и детям, в 1943–1944 гг. перечислявшиеся КОВК и составлявшие в структуре доходов так называемые инициативные фонды.
Создание и использование фондов КОВК сопровождалось различными конфликтами. Типичными были срывы отчислений для КОВК со стороны колхозов. Такие случаи, например, массово наблюдались в сельхозартелях Миасского района Челябинской области в 1944 г. Зачастую фондами КОВК распоряжались правления, бывало, что правление во главе с председателем колхоза своими действиями полностью подменяло миссию КОВК [58, л. 43; 51, л. 3–4].
Уральские материалы свидетельствуют о том, что, хотя система КОВК в крае работала с перебоями, нужда в таких формах социальной поддержки ощущалась не только в деревне. Подобные организации возникали по инициативе инвалидов войны и пенсионеров при горсобесах; в районных военных комиссариатах при женских советах. В июле 1944 г. фронтовики Стерлитамакского района Башкирии выступили с инициативой организовывать в каждом колхозе, совхозе и МТС кассы общественной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, семьям фронтовиков и сиротам [38, с. 183].
С 1943 г. результаты работы касс были введены в качестве критерия при подведении итогов социалистического соревнования между собесами. Лучшие кассы и их руководители поощрялись. Так, весной 1944 г. Почетную грамоту Президиума Верховного Совета Удмуртии получил председатель КОВК колхоза «Двигатель» Воткинского района Ф. Г. Глушков [59, л. 11; 41, л. 69].
Выводы
КОВК, находясь в сфере внимания партийных и советских органов, институционально и функционально являлись объектом социальной политики государства. Содержание их деятельности составляла социальная защита колхозного населения: социальная помощь нуждающимся путем разовых мер; социальное обеспечение путем предоставления социальных выплат (пенсий, пособий, стипендий, льгот) как гарантированных государством, так и определяемых ресурсами колхозов; социальное обслуживание через содержание на средства КОВК детских учреждений и ДПК. Несмотря на все трудности, нерешенные проблемы, на сокращение численности КОВК под давлением тыловой деревенской экстремальности, их сеть не была разрушена. При поддержке партийносоветской власти КОВК оставались массовыми общественными организациями, действовавшими на основе принципа взаимопомощи.
Список литературы Кассы общественной взаимопомощи как институт социальной защиты колхозников накануне и в годы Великой Отечественной войны (на материалах уральских архивов)
- Webb, S. Soviet Communism: A New Civilisation? / S. Webb, B. Webb. - Vol. II. - London: Longmans, Green and Co., LTD, 1936. - 590 p.
- Бондарев, В. А. Социальная помощь в колхозах 1930-х годов: на материалах Юга России / В. А. Бондарев, Т. А. Самсоненко. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. - 304 с.
- Григорьев, В. С. Организация общественной взаимопомощи российского крестьянства (1921-1941 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук / В. С. Григорьев. - М., 1997. - 38 с.
- Димони, Т. М. Социальное обеспечение колхозников Европейского Севера России во второй половине XX века / Т. М. Димони // Северная деревня в XX веке: актуальные проблемы истории. Вып. 3. - Вологда: Легия, 2002. - URL: http: www.booksite.ru/fulltext/se/ern/aya/ de/re/vna/5.htm (дата обращения: 05.03.2023).
- Еферина, Т. В. Факторы социальных рисков и модели социальной поддержки крестьянства (Вторая половина XIX - конец XX в.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Т. В. Еферина. - Саранск, 2004. - 40 с.
- Бондарев, В. А. Селяне в годы Великой Отечественной войны: Российское крестьянство в годы Великой Отечественной войны (на материалах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев) / В. А. Бондарев. - Ростов-н/Д.: СКНЦ ВШ, 2005. - 192 с.
- Изюмова, Л. В. Деятельность касс общественной взаимопомощи в годы Великой Отечественной войны (по материалам европейского Севера России) / Л. В. Изюмова // Великая Отечественная война: Проблемы междисциплинарного осмысления: материалы Всероссийской научной конференции. - Вологда: Вологодский государственный университет, 2016. - С. 61-66.
- Шестак, О. И. Историография реализации социальной политики в 1920-1930-е годы / О. И. Шестак // Россия и АТР. - 2003. - № 1 (39). - С. 62-73.
- Ким, М. Ю. Социальная политика советской власти (1930-е гг.) в отечественной и зарубежной историографии / М. Ю. Ким, К. А. Кузо-ро // Вестник Томского государственного университета. - 2010. - № 334. - С. 64-67.
- Ахмадиев, Т. Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны / Т. Х. Ахмадиев. -Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1984. - 280 с.
- Палецких, Н. П. Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны / Н. П. Палецких. - Челябинск: ЧГАУ, 1995. - 184 с.
- Lewin, M. The Making of the Soviet System: Essays on the Social History of Interwar Russia / M. Lewin. - New York: The New Press, 1985. - 354 p.
- Fitzpatrick, Sh. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russion Village after Collectivization / Sh. Fitzpatrick. - New York: Oxford University Press, 1994. - 386 p.
- Graziosi, A. The Great Soviet Peasant War: Bolsheviks and Peasants, 1917-1933 / A. Graziosi. -Cambrige: Harvard University Press, 1996. - 77 p.
- Madison, B. Contributions and Problems of Soviet Welfare Institutions / B. Madison // Советская социальная политика 1920-1930-х годов: идеология и повседневность / под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. - М.: Вариант: ЦСПГИ, 2007. - С. 68-83.
- Корнилов, Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / Г. Е. Корнилов. - Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1990. - 221 с.
- Корнилов, Г. Е. Уральское село и война. Проблемы демографического развития / Г. Е. Корнилов. - Екатеринбург: Уралагропресс, 1993. - 174 с.
- Мотревич, В. П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны / В. П. Мотревич. -Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1990. - 196 с.
- Мотревич, В. П. Вклад в Победу: сельское хозяйство Урала в годы Великой Отечественной войны: монография / В. П. Мотревич. - Екатеринбург: Альфа Принт, 2021. - 700 с.
- Хисамутдинова, Р. Р. Сельское хозяйство Урала в годы Великой Отечественной войны. Малоизвестные страницы / Р. Р. Хисамутдинова. -Оренбург: ОГПУ, 2002. - 300 с.
- Палецких, Н. П. Кассы общественной взаимопомощи колхозников на Урале накануне и в годы Великой Отечественной войны / Н. П. Палецких // Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны: сборник научных статей. - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2021. - С. 350-362.
- Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). - Ф. Р-948. -Оп. 1. - Д. 69.
- Трудовое законодательство военного времени: сборник. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во ВЦСПС: Профиздат, 1943. - 191 с.
- ОГАЧО. - Ф. Р-948. - Оп. 1. - Д. 9.
- ОГАЧО. - Ф. Р-948. - Оп. 1. - Д. 93.
- Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). - Ф. 122. - Оп. 24. - Д. 751.
- НА РБ. - Ф. 169. - Оп. 3. - Д. 8.
- НА РБ. - Ф. 169. - Оп. 3. - Д. 44.
- Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). - Ф. 371. - Оп. 8. - Д. 865.
- Социальное обеспечение. - 1941. - № 7-8.
- НА РБ. - Ф. 632. - Оп. 1. - Д. 236.
- ОГАОО. - Ф. 371. - Оп. 6. - Д. 11.
- РСФСР - фронту. 1941-1945: документы и материалы / сост. Н. П. Беликова и др. - М.: Советская Россия, 1987. - 384 с.
- Звезда. - 1941. - 2, 14 декабря.
- ОГАЧО. - Ф. П-288. - Оп. 4. - Д. 276.
- Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ). -Ф. 105. - Оп. 7. - Д. 290.
- ОГАЧО. - Ф. Р-948. - Оп. 1. - Д. 89.
- Башкирия в годы Великой Отечественной войны: сборник документов и материалов. - Уфа: Китап, 1995. - 570 с.
- ОГАОО. - Ф. 371. - Оп. 7. - Д. 185.
- Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА УР). - Ф. 1109. -Оп. 1. - Д. 64.
- ЦГА УР. - Ф. 1109. - Оп. 1. - Д. 82.
- Удмуртия в Великой Отечественной войне, 1941-1945: сборник документов / сост. Н. И. Зайцева и др. - Ижевск: Удмуртия, 1974. - 248 с.
- НА РБ. - Ф. 444. - Оп. 1. - Д. 115.
- ОГАОО. - Ф. 1893. - Оп. 3. - Д. 34.
- Государственный архив Свердловской области (ГАСО). - Ф. 830. - Оп. 1. - Д. 41.
- Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). -Ф. 4. - Оп. 38. - Д. 29.
- ОГАОО. - Ф. 371. - Оп. 7. - Д. 188.
- ГАСО. - Ф. 627. - Оп. 1. - Д. 47а.
- ОГАЧО. - Ф. Р-948. - Оп.1. - Д. 87.
- Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики (ЦДНИ УР). - Ф. 16. -Оп. 14. - Д. 181.
- Государственный архив общественно-политической документации Курганской области (ГАОПДКО). - Ф. 82. - Оп. 2. - Д. 671.
- ОГАЧО. - Ф. П-288. - Оп. 8. - Д. 226.
- ПермГАСПИ. - Ф. 105. - Оп. 11. - Д. 231.
- Государственный архив Курганской области (ГАКО). - Ф. 1504. - Оп. 2. - Д. 2.
- ОГАЧО. - Ф. Р-804. - Оп. 2. - Д. 32.
- ОГАЧО. - Ф. Р-804. - Оп. 2. - Д. 48.
- ОГАЧО. - Ф. Р-804. - Оп. 2. - Д. 71.
- ОГАЧО. - Ф. П-288. - Оп. 8. - Д. 371.
- ЦДНИ УР. - Ф. 16. - Оп. 14. - Д. 717.