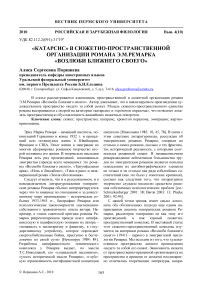«Катарсис» в сюжетно-пространственной организации романа Э.М. Ремарка «Возлюби ближнего своего»
Автор: Поршнева Алиса Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 4 (10), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимосвязь пространственной и сюжетной организации романа Э.М.Ремарка «Возлюби ближнего своего». Автор доказывает, что в анализируемом произведении художественное пространство «ведет» за собой сюжет. Модель сюжетно-пространственного единства романа выстраивается с опорой на категории «катарсис» и «хронотоп перелома», что позволяет доказать пространственную обусловленность важнейших сюжетных поворотов.
Сюжет, пространство, катарсис, хронотоп перелома, эмиграция, жертвоприношение
Короткий адрес: https://sciup.org/14728884
IDR: 14728884 | УДК: 82.112.2(091)-31''19''
Текст научной статьи «Катарсис» в сюжетно-пространственной организации романа Э.М. Ремарка «Возлюби ближнего своего»
Эрих Мария Ремарк – немецкий писатель, покинувший Германию в конце 1932 г. и проведший всю оставшуюся жизнь в Швейцарии, Франции и США. Опыт жизни в эмиграции во многом сформировал романное творчество второй половины его жизни. В творческом наследии Ремарка есть ряд произведений, посвященных эмигрантам (прежде всего немецким): это романы «Возлюби ближнего своего», «Триумфальная арка», «Ночь в Лиссабоне», «Тени в раю» и незавершенный роман «Земля обетованная».
Следует отметить, что и в русскоязычном, и в немецкоязычном литературоведении эмигрантские романы Ремарка обычно интерпретируются через что-то внешнее по отношению к художественному миру произведения – исторические события 1933-1945 гг., биографию Ремарка или психологические закономерности «вытеснения» собственного травматичного опыта автора. Например, в глазах советской критики романы Ремарка репрезентировали прежде всего антифашистскую и пацифистскую позицию их автора – «ненависть к милитаризму и фашизму, к государственному устройству, которое порождает смертоубийственные бойни, преступно и бесчеловечно по своей сути» [Нечепорук 1984: 84]. Разработка антифашистского тематического комплекса у Ремарка выдает, по мысли Т.С.Николаевой, его «социальный пессимизм», «узость исторической мысли Ремарка», «глубокую ограниченность антифашистской концепции писателя» [Николаева 1983: 10, 45, 78]. В связи с этим советские литературоведы, рассуждая об эмигрантских романах Ремарка, говорили не столько о самих романах, сколько о тех фрагментах исторической реальности, с которыми соотносился романный сюжет. В немецкоязычном ремарковедении лейтмотивом большинства трудов по эмигрантским романам является попытка осмысления их автобиографического элемента не только и не столько как ряда событийных соответствий (как это было у советских критиков), сколько как следствия того, что литературное творчество служило писателю средством решения собственных психологических проблем [см.: Schreckenberger 2001: 38; Baron 2003: 13; Placke 2001: 92-94].
С нашей точки зрения, имеет смысл дополнить оба обозначенных подхода еще одним направлением анализа эмигрантских романов Ремарка, рассмотрев эмиграцию не как тему его произведений, а как единый сюжетнопространственный комплекс. В настоящей статье этот сюжетно-пространственный комплекс изучается на материале романа «Возлюби ближнего своего» (1941) – первого в эмигрантской пенталогии Ремарка. Мы исходим из того, что художественное пространство данного произведения «ведет» за собой его сюжет. Зависимость сюжета от пространственно-временной организации (а не пространства и времени от сюжета) неоднократно отмечалась теоретиками литературы, напри-
мер: «Изображенное пространство-время – это условия, определяющие характер событий и логику их следования друг за другом » [Тамарченко 2004: 178; здесь и далее выделено мной. – А.П .]. Ю.М.Лотман определяет сюжетное событие как «перемещение персонажа через границу семантического поля» [Лотман 1998: 223], а Н.Д.Тамарченко дополняет это определение следующим образом: « Событие – переход персонажа через границу, разделяющую “семантические поля” в тексте (с точки зрения автора и читателя) или части (сферы) пространства-времени в мире (с точки зрения героя, связанной с его представлениями о цели и о препятствиях к ее достижению)» [Тамарченко 2004: 184]. Сюжетное событие – это перемещение героя в качественно другое пространство, и в этом смысле пространственная организация текста оказывается «первичнее» его сюжета.
Действие романа «Возлюби ближнего своего» происходит в Европе 1930-х гг., до присоединения Австрии к Германии в 1938 г. Пространство, в котором разворачивается действие, выстраивается и оценивается из перспективы героя-эмигранта (в первую очередь Йозефа Штайнера), в соответствии с ценностными и мировоззренческими ориентирами эмигрантской картины мира. Вследствие этого такое пространство мы можем обозначить как «пространство эмиграции». Оно восходит к мифологической модели мира, поскольку развернуто между его символическим центром (родным городом героя в Германии) и крайней периферией.
Центром пространства эмиграции становится в романе родной город Штайнера. Именно от него герой ведет отсчет пространственных координат. В мифологических и производных от них пространственных моделях символический центр мира – это наиболее позитивно маркированный участок пространства [см. об этом: Топоров 1983: 239; Мелетинский 2000: 216-217], «земной эквивалент точки небесного вращения» [Бидер-манн 1996: 60], который может быть представлен храмом, Домом или городом с микрокосмическим статусом Дома. Город же Штайнера становится самой негативно окрашенной точкой эмигрантского пространства, причем эти коннотации закреплены и за самим городом, и за каждым элементом городского пространства в отдельности: «Внезапно перед ним лежал город. <…> Он видел улицы, он видел опасность, невидимую, молчаливую опасность, которая поджидала его на каждом углу, в воротах каждого дома, в каждом лице» [Remarque 1956: 304. Здесь и далее перевод всех цитируемых фрагментов текста мой. – А.П.]. Город в восприятии героя не соот- ветствует инварианту города-Дома, но продолжает занимать в его картине мира центральное положение: все остальное пространство эмиграции разворачивается именно относительно города и соотносится с ним как с самой опасной точкой.
Крайней периферией пространства эмиграции в романе «Возлюби ближнего своего» является Париж, который наиболее оппозиционен Третьему Рейху. Один из эмигрантов, Мариль, рассказывает: «Мой мальчик, Австрия, Чехословакия, Швейцария – все это маневренная война эмигрантов, но Париж – это позиционная война. Передняя линия окопов. Сюда докатились все волны эмиграции. <…> Париж для всех нас – последняя надежда и последняя судьба» [Remarque 1956: 243]. Во всей Европе именно Париж оказывается тем местом, где полиция наименее интенсивно преследует эмигрантов, а шансы на спасение наиболее высоки: «“Какова здесь полиция?” – “Довольно небрежная. Нужно быть осторожным, конечно, но полиция здесь далеко не такая проницательная, как в Швейцарии”» [ibid.: 245]. Многим живущим в Париже эмигрантам удается получить и впоследствии продлить разрешение на жительство (Aufenthaltserlaubnis), а некоторым даже разрешение на работу (Arbeit-serlaubnis) [ibid.: 244, 247]. Все это поддерживает исключительно положительный статус Парижа в пространстве эмиграции. Эмигрантам Людвигу Керну и Рут Холланд удается чувствовать себя там в относительной безопасности: «Они надеялись на следующий день и чувствовали себя защищенными. В этом городе, который принял всех эмигрантов столетия, веял дух терпимости; в нем можно было голодать, но человек подвергался там преследованиям лишь в той мере, в какой это было необходимо – и уже это значило для них очень много» [ibid.: 263]. Оппозиционность Парижа по отношению к Германии настолько сильна, что Рут заявляет: «И я уже не знаю, где находится Германия» [Remarque 1956: 319].
Нужно отметить, что в реальности Париж и Франция в целом не обладали статусом пространства, «благожелательного» к эмигрантам [см.: Fabian 1981: 200]; однако в художественном мире романа «Возлюби ближнего своего» именно Париж из всех европейских городов оказывается местом, наименее враждебным эмигрантскому сообществу. Географически он находится не на периферии Европы, но в структуре художественного пространства романа Париж – это «передняя линия окопов», периферия европейского мира, наиболее оппозиционная его нега- тивному центру (Третьему Рейху), символическая граница мира эмигрантов.
Эмигрантское пространство, развернутое между этими двумя аксиологическими полюсами (родным городом в Германии и Парижем), имеет концентрическое строение, которое обеспечивается поэтапным переходом от «темного» немецкого города к «светлой» границе эмигрантской Европы – Парижу. Такое пространство структурно воспроизводит мифологическую модель мира, а в ценностном отношении «выворачивает» ее наизнанку [подробнее см.: Поршнева 2008: 311].
Как уже было обозначено выше, пространственная организация романа «Возлюби ближнего своего» является определяющей по отношению к его сюжету. Концентрическая структура пространства эмиграции делает, например, невозможным прямое перемещение героя-эмигранта из Германии во Францию, хотя в географическом отношении это вполне реализуемо. Более того, как подчеркивает С. Бен Аммар, Франция в первые годы существования нацистского режима обладала исключительным статусом в эмигрантском мире именно за счет «длинной общей границы между двумя государствами, которая облегчала нелегальный переход границы» [Ben Ammar 2000/2001: 26]. Но у Ремарка ни один герой-эмигрант не перебирается напрямую из Германии во Францию. Прежде чем попасть во Францию, герой обязательно должен пройти через чешско-австрийско-швейцарский «пояс» вокруг нацистской Германии (так поступают и Йозеф Штайнер, и Рут Холланд, и Людвиг Керн), поскольку упомянутые страны воспринимаются героями-эмигрантами как первая, а Франция – уже как вторая стадия освобождения от нацизма. Если в Швейцарии, Чехии и Австрии «становится жарко» [Remarque 1956: 243], эти страны объявляются «мышеловками» [ibid.: 278], то Франция – «единственная страна, которая еще осталась для нас в Европе» [ibid.], полиция там «довольно небрежная» [ibid.: 245], а условия для проживания эмигрантов наиболее приемлемые. Поскольку концентрически выстроенное пространство «обязывает» эмигранта удаляться от Третьего Рейха поэтапно, то и маршрут «Германия – Франция» у Ремарка не представлен.
Инвариант сюжета эмигрантского романа в творчестве Ремарка состоит в том, что герой начинает свое движение в какой-то одной точке центробежно ориентированного пространства эмиграции, совершает по нему перемещение в направлении к периферии, в какой-то точке прерывает или завершает свой путь, пытается его осмыслить и определить свое отношение к нему.
В романе «Возлюби ближнего своего» таким местом становится Париж: там завершается эмигрантский период жизни двух героев романа – Людвига Керна и Рут Холланд. Они получают возможность получить мексиканское гражданство и уехать в Мексику в составе 150 эмигрантов, которых согласилось принять мексиканское правительство. Исключительному статусу этого события соответствует позитивный тон в образе Парижа: как уже отмечалось выше, он изображается как «город для эмигрантов». Описания парижского ландшафта насыщены лексикой света ( sonnig ‘солнечный’), причем даже в тех случаях, когда действие происходит вечером или ночью ( leuchten ‘сиять’, Lichtreklame ‘световая реклама’, flammen ‘пламенеть, вспыхивать’) [Remarque 1956: 260, 257]. Освещенность пространства часто становится у Ремарка одновременно и его оценкой в положительном ключе; темными же обычно являются пространства, «заряженные» по отношению к герою или героям негативно. Показательным примером этого является то, как герой романа «Черный обелиск» Людвиг Бодмер говорит о приходе к власти национал-социалистов: «Ночь накрыла Германию» [Remarque 2005: 458].
Помимо освещенности, Ремарк вводит в текст романа еще одну в ценностном смысле положительную характеристику Парижа. В заключительных строках говорится о его многолюдности: «“Как много людей”. – “Да… очень много людей”» [Remarque 1956: 320]. О многолюдности и наполненности города В.Н.Топоров пишет следующим образом: «Союз города-девы (невесты) с женихом связан с пресуществлением крепости-целомудрия города-девы в полн оту богатства, в обилие… в частности, в многолюдие» [Топоров 1987: 127]. Многолюдность Парижа, которую в рамках концепции В.Н.Топорова можно интерпретировать как преображение и перерождение «города-девы», в финале романа оказывается в одном ряду с кардинальными переменами в жизни Керна и Рут, с их новым рождением для полноценной не-эмигрантской жизни.
В силу этого мы можем квалифицировать Париж как пограничное, рубежное пространство. Попадание туда героев кардинальным образом меняет их судьбу и становится самым важным сюжетным событием. В терминологии М.М.Бахтина эту рубежную зону можно обозначить как «порог» – «проникнутый высокой эмоционально-ценностной интенсивностью» хронотоп, который «может сочетаться и с мотивом встречи, но наиболее существенное его восполнение – это хронотоп кр изи с а и жизненного п ер ел ома » [Бахтин 1986: 280; выделено М.М.
Бахтиным. – А.П .]. Комплекс сюжетных событий, локализованных в данном типе пространства и детерминированных его «переломным» характером, допустимо обозначить, на наш взгляд, термином «катарсис».
Этот термин был введен Аристотелем [Аристотель 1957: 82] для обозначения кульминационного момента трагедии, выросшей из архаических ритуалов обновления и очищения мира посредством принесения в жертву носителя скверны [Фрейденберг 1997: 155]. Впоследствии аристотелевский теоретический конструкт «катарсис» был востребован рядом исследователей, вследствие чего есть ряд терминов, несущих в большей или меньшей степени ту же нагрузку. Сюжетная схема древнегреческой трагедии, проанализированная Аристотелем, была выявлена рядом позднейших исследователей (В.Я.Пропп, А.Ж.Греймас, К.Бремон и др.) и на материале ряда нетрагических и даже недраматических жанров. Это позволяет установить терминологическую синонимию между аристотелевским понятием «катарсис» и его аналогами в позднейших эстетических трудах:
-
• нехватка – недостача – нарушение – «расторжение договора» [Греймас 2004: 283] – нарушение установленного порядка – «нарушение равновесия» [Бройтман 2004: 66] – коллизия [Тамарченко 2004: 193] – отклонение от нормы;
-
• катарсис – ликвидация нехватки (недостачи) [Пропп 2001: 27] – гуманизация мира [Греймас 2004: 307] – оправдание мира [Греймас 2004: 307] – компенсация – восстановление договора [там же: 283] – устранение нарушения – обретение – медиация [Хализев 2000: 219].
По мнению В.Е.Хализева, «в литературе наиболее глубоко укоренены сюжеты, конфликты которых по ходу изображаемых событий возникают, обостряются и как-то разрешаются – преодолеваются и себя исчерпывают» [Хализев 2000: 217], то есть сюжеты катарсичные.
С категорией катарсиса применительно к художественному миру Э.М.Ремарка целесообразно также связывать категорию «мир героя», которая предполагает рассмотрение персонажей произведения как «живых людей, находящихся в определенных условиях места и времени, совершающих поступки и т.д.» [Тамарченко 2004: 172]. Н.Д.Тамарченко определяет «мир героя» как «“художественный” постольку, поскольку <он> …входит в кругозор героя и (или) представляет собой его окружение. В обоих случаях действительность героя связана… с определенной системой ценностей: с точки зрения героя или с “внутренней”, совпадающей с кругозором героя точки зрения наблюдателя (повествовате- ля, читателя), изображенный мир “реален” и ценности его соотносятся с целями героя» [Та-марченко 2004: 177].
Взаимное наложение категорий «катарсис» и «мир героя» позволяет определить «катарсис» (применительно к романам Ремарка) как гармонизацию и гуманизацию мира героя – субъекта сознания в произведении (термин Б.О.Кормана [см.: Корман 1981: 50]). Говорить о катарсисе возможно даже тогда, когда обстоятельства за пределами «мира героя» остаются неблагоприятными и представляют собой «отклонение от нормы». Медиация, осуществляемая в пределах «мира героя», оказывается необходимым и достаточным условием катарсичности романного сюжета.
«Катарсис» возможен тогда, когда в мире героя происходит «недостача», ликвидации которой подчинено все последующее действие. Такой «недостачей» для героев эмигрантских романов Ремарка становится приход к власти национал-социалистов, что воспринимается ими как глобальное нарушение порядка в мире. Так, в романе «Земля обетованная» Равик о донацистской эпохе говорит так: «двенадцать лет назад, когда мир еще был целым» [Remarque 1998: 110]. Исходя из описанной предпосылки – утраты миром целостности и гармонии, – герои-эмигранты выстраивают свой мир и свое отношение к происходящему: нарушение нормального мироустройства предполагает необходимость его восстановления, но пути к этому каждый герой находит или не находит в индивидуальном порядке.
Финал романа «Возлюби ближнего своего» содержит «катарсическую» семантику восстановления порядка, которая обеспечивается кардинальными переменами в жизни Керна и Рут: они официально и мировоззренчески перестают быть эмигрантами. В роли «хронотопа перелома», в котором осуществляется перерождение героев, выступает город Париж. В символической проекции уже упомянутое многолюдие Парижа – это, по В.Н.Топорову, союз города-невесты с женихом [Топоров 1987: 127], то есть свадьба. Свадьба же, как отмечает О.М.Фрейденберг, – «не событие, которое может когда угодно произойти, в зависимости от склонности жениха и невесты. Это обряд, тождественный триумфу и венчанию на царство, и его приурочение совершенно специфично. Свадьба являет собой не соединяющуюся по любви или рассудку пару: это действо победы над смертью, в котором жених и невеста – царствующие боги, и действо, происходящее в день поединка дня и ночи, или жизни и смерти. Поэтому это дни равноденствий и солнцеворотов, дни смен, дни но- вых переоценок (говоря по-нашему) вчерашних сил, дни кончающейся и начинающейся жизни» [Фрейденберг 1997: 75]. В символической проекции прощание Людвига и Рут с Европой и многолюдие Парижа соединяются в одно событие – свадьбу, которая проецируется и на героев, и на городское пространство. Рубежный характер этого события соответствует пограничной природе пространства, в котором оно совершается. По Греймасу, «если завязкой всего повествования было расторжение договора, то именно финальный эпизод “свадьбы” после всех перипетий восстанавливает разорванный договор» [Греймас 2004: 283].
Символика «катарсически» окрашенного перерождения в романе «Возлюби ближнего своего» усиливается еще и появлением в тексте романа Триумфальной арки: она прямо названа «воротами в небо» [Remarque 1956: 261] (т.е. воротами в рай), что усиливает «пограничную» семантику как самого города, так и совершающихся в нем событий. Архаическая семантика образа Триумфальной арки – «небесно-загробные ворота» [Фрейденберг 1997: 189]. Ее «специально сооружали для отвращения опасности: это говорит о том, что существование такой арки само по себе уже гарантировало избавление от смерти» [там же: 189-190]. Символическое перерождение героев, смена ими статуса с эмигрантского на неэмигрантский, происходящая в Париже, имеет «катарсическую» семантику «избавления от смерти» во многом за счет подчеркнуто «пограничной» символики Арки – «ворот в небо».
Здесь же Ремарк размещает сюжетный компонент, сигнализирующий о достижении баланса между жизнью и смертью: смерть хронологически соединяется с рождением нового человека. В Париже, пройдя все вехи эмигрантского пути, умирает «отец Моритц» – старый Моритц Розенталь, живой символ эмиграции. Его смерть описана как избавление от страданий и обретение покоя: «Оба ангела взяли его под руки, и так отец Моритц, старый странник, ветеран среди эмигрантов, шагнул, утешившись, через ворота, навстречу необычайному свету» [Remarque 1956: 314]. Перед смертью Моритц Розенталь узнает, что в отеле, где он проживает, 14 дней назад родился ребенок, который в силу этого уже по праву рождения считается французом [ibid.: 290291]. Он выражает желание взглянуть на ребенка, но, когда Эдит Розенфельд приносит его в комнату Моритца, тот уже мертв [ibid.: 314]. Здесь сюжетный комплекс уравновешивания смерти рождением имеет еще одну функцию: «новое рождение» Людвига и Рут для неэмигрантской жизни за пределами пространства эмиграции символически умножается и подтверждается этими двумя предваряющими его событиями – с одной стороны, смертью Моритца как обретением им вечного блаженства и, с другой стороны, рождением ребенка-француза, которому уже не грозит быть лишенным гражданства и испытать тяготы эмиграции.
Наконец, важнейшим сюжетным событием романа, напрямую связанным с его «катарсическим» завершением, становится гибель Йозефа Штайнера. На определенном этапе этот герой с риском для жизни возвращается из Парижа в Германию, чтобы его смертельно больная жена Мария могла умереть спокойно. Своей цели он добивается, но, будучи схваченным по доносу в больнице, после смерти Марии погибает, выбросившись из окна и увлекая за собой офицера гестапо Штайнбреннера.
Сюжетные линии Штайнера, с одной стороны, и Рут и Людвига – с другой, тесно связаны и дополняют друг друга. Так, в одном из эпизодов романа Людвиг Керн в поисках заработка приходит в дом к швейцарскому богачу Аммерсу, не зная, что тот является тайным шпионом нацистской партии [Remarque 1956: 195-196], и в итоге попадает в тюрьму [ibid.: 207]. Позже Штайнер предпринимает против Аммерса «штрафную экспедицию» (Strafexpedition) [ibid.: 255]: представившись офицером гестапо, он забирает у Аммерса 60 франков якобы в качестве пожертвования на партийные нужды и отчитывает его за то, что он поднял «ненужную шумиху» [ibid.: 253] в истории с эмигрантом Керном. «Недостача», которую претерпевает Керн, компенсируется Штайнером, который только после «штрафной экспедиции» против Аммерса завершает швейцарский этап своей жизни и перебирается во Францию.
Двухчастная структура этой ситуации иллюстрирует взаимную дополнительность судьбы Штайнера, Людвига и Рут. Эти три героя образуют единый частный мир, целостность которого нарушается из-за действий Аммерса в отношении Керна и восстанавливается благодаря авантюре Штайнера.
Свою самую полную реализацию эта дополнительность обретает в событиях, завершающих роман. Штайнер уезжает в Германию и погибает, а Людвиг Керн и Рут Холланд остаются в Париже и получают возможность уехать в Мексику. Необходимые для переезда деньги (более двух тысяч франков) Людвигу и Рут достаются в наследство от Штайнера. Поэтому жизнь Штайнера становится той жертвой, которой «покупается» избавление от эмигрантского бытия для Рут и Людвига. Справедливость такого толкова- ния подтверждается рядом фактов. Во-первых, Штайнер принадлежит к другому поколению: ему около 40 лет, в то время как Рут и Людвиг – представители поколения двадцатилетних. Во-вторых, Штайнер не имеет полноценной семьи: его жена Мария умирает от рака, до этого он не видит ее несколько лет, детей у них нет.
Подобная интерпретация данного сюжетного поворота опирается в том числе и на семантику имен героев. По доносу больничной медсестры Штайнер схвачен людьми из гестапо под руководством офицера Штайнбреннера, который за несколько лет до этого отправил Штайнера в концентрационный лагерь. Очевидное сходство этих фамилий замечает и сам Штайнбреннер: «И наши фамилии так замечательно подходят друг к другу – Штайнер и Штайнбреннер!» [Remarque 1956: 316]. Первая фамилия – Steiner – образована, очевидно, от слова Stein ‘камень’; вторая – Steinbrenner – содержит в себе два корня: Stein ‘камень’ и brennen ‘гореть’. Соотношение фамилий героев прочитывается следующим образом: Штайнбреннер – это «тот, кто сожжет Штайнера», и первый действительно становится виновником гибели второго. Роман завершается «взаимным» уничтожением этих двух героев (Штайнер после смерти Марии выбрасывается в окно и увлекает за собой Штайнбреннера). Более того: семантика «сожжения», заложенная в противостоянии Штайнера и Штайнбреннера, подтверждает тот факт, что гибель Штайнера – это жертва , поскольку акт жертвоприношения еще с архаических времен включал в себя сожжение жертвенного животного или мучного изделия [Фрейденберг 1997: 58]. О.М.Фрейденберг отмечает, что в архаической картине мира пребывание в огне было связано не только со смертью и погребальным костром, но и с новым рождением и обновлением; это свидетельствует о «единстве образов еды, жертвоприношения, священного варева и убийства, разрывания, бессмертия» [там же: 61]. «Самый огонь – алтаря, костра или печи – получил семантику того начала, которое родит и оживляет; отсюда – семантика погребального костра как частный случай регенерационной сущности огня» [там же: 61]. В силу этого жертвоприношение Штайнера связано с новым рождением Людвига и Рут самой своей сущностью, а не только фактом наследования молодыми героями денег на переезд.
С другой стороны, имя Йозефа Штайнера соотнесено не только с фамилией его врага Штайн-бреннера, но и с именем его жены Марии. Имена Йозефа и Марии Штайнер отсылают, вероятно, к именам библейских Иосифа и девы Марии. С учетом поколенческой разницы «новое рожде- ние» Людвига и Рут, символическими родителями которых являются Мария и Йозеф Штайнеры, ассоциативно связывается с рождением Иисуса (сына Марии и Иосифа), что подтверждает исключительную значимость этого события для романного сюжета. Причем в данном случае библейский контекст дополнен семантикой жертвоприношения старшего поколения во имя младшего.
Сюжет Йозефа Штайнера, который является составной частью комплекса жертвоприношения, выводится из соотнесения его имени с фамилией «Штайнбреннер» и именем «Мария» – такое художественное решение Ремарка представляет собой реликт архаических представлений о мире. Как отмечает О.М.Фрейденберг, «основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюжетостроения заключается в том, что значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам означает» [Фрейденберг 1997: 223].
Все это дает основания поставить под сомнение такие трактовки романного сюжета, в которых говорится, что Людвиг и Рут обретают возможность начать новую жизнь за пределами Европы в силу своей «способности освободиться от прошлого» [Schreckenberger 2001: 33], а Штайнер и другие герои старшего поколения такой способности лишены и поэтому обречены на гибель. В развитии романного сюжета линии Рут, Людвига и Штайнера не противопоставлены, а тесно взаимосвязаны и взаимно детерминированы. Едва ли можно говорить о «случайном» характере спасения Людвига и Рут (как это делает И.Шлёссер [Schlösser 2001: 18]). Заложенная в сюжете символика жертвоприношения дает возможность толковать события романа «Возлюби ближнего своего» следующим образом: герои старшего поколения Мария и Йозеф Штайнер не имеют полноценной семьи вследствие болезни и неблагоприятных исторических обстоятельств, но их жизнь приносится в жертву во имя «нового рождения» героев младшего поколения – Людвига Керна и Рут Холланд , которым благодаря этой жертве дана возможность освободиться от травмы нацизма и восполнить «потерю» старшего поколения.
Концентрация всех рассмотренных событий, наделенных символическим значением «нового рождения» и восстановления порядка в мире, – «свадьба», смерть Моритца как преодоление эмигрантского бытия и компенсация смерти рождением ребенка-неэмигранта, появление Арки как «ворот в небо», увязанные в одно событие жертвоприношение Штайнера и «выход» из эмиграции Людвига и Рут, – в рубежном пространстве Парижа придает сюжету романа «Возлюби ближнего своего» «катарсическое» звучание.
Это, в свою очередь, подтверждает справедливость выбранной нами исследовательской линии – рассмотрения катарсиса как гуманизации частного мира героя произведения. И читателю, и автору романа «Возлюби ближнего своего» известно, что историческая коллизия, вызвавшая к жизни эмиграцию и сформировавшая соответствующие обстоятельства жизни героев-эмигрантов, в его финале себя не исчерпывает. Национал-социализм продолжает набирать силу, эмигрантское сообщество продолжает существовать. Но в частном мире центральных персонажей травма, вызванная существованием национал-социализма, уже преодолена, и этого оказывается достаточно, чтобы обеспечить «катарсическую» семантику финала произведения.
Наличие в сюжете романа «Возлюби ближнего своего» «катарсического» элемента – прямое следствие наличия в его художественном пространстве «порогового», или «переломного», хронотопа. Под этим термином мы вслед за М.М.Бахтиным понимаем пространственную структуру особого типа, которая носит рубежный характер и заставляет героя проходить через определенные метаморфозы, в результате чего ликвидируется возникшая в начале «нехватка». В силу этого «катарсичность» сюжета произведения оказывается пространственно обусловленной; тип сюжета выводится из типа пространственной организации. С другой стороны, «пороговая» сущность анализируемого в настоящей статье событийного ряда романа подтверждает рубежный характер парижского пространства и «поддерживает» статус Парижа как границы пространства эмиграции. Эмиграция, таким образом, не только предоставляет Э.М.Ремарку тематический материал для художественной обработки, но и формирует в его романах единый сюжетно-пространственный комплекс, в рамках которого катарсис – компонент сюжета – оказывается пространственно детерминированным.
Список литературы «Катарсис» в сюжетно-пространственной организации романа Э.М. Ремарка «Возлюби ближнего своего»
- Аристотель. Об искусстве поэзии/пер. В.Г.Аппельрот//Аристотель. Поэтика. М.: Гослитиздат, 1957. С.37-138.
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике//Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Худож. лит., 1986. С.121-290.
- Бидерманн Г. Город//Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. С.60-61.
- Бройтман С.Н. Историческая поэтика//Теория литературы: учеб. пособие: В 2 т./Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Т. 2. М.: Академия, 2004. 360 с.
- Греймас А.Ж. В поисках трансформационных моделей//Греймас А.Ж. Структурная семантика: поиск метода. М.: Академический проект, 2004. С.278-319.
- Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов//Проблемы истории критики и поэтики реализма: межвуз. сб. Куйбышев, 1981. С.39-54.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста//Лотман Ю.М. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). СПб.: Искусство, 1998. С.14-285.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2000. 408 с.
- Нечепорук Е.М. Эрих Мария Ремарк//История зарубежной литературы ХХ века/под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. М.: Просвещение, 1984. С.84-90.
- Николаева Т.С. Творчество Ремарка-антифашиста. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1983. 134 с.
- Поршнева А.С. Динамика эмигрантского пространства в романах Э.М.Ремарка «Возлюби ближнего своего» и «Ночь в Лиссабоне»//Вестник Чувашского университета. 2008. № 4. С. 303-311.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001. 144 с.
- Тамарченко Н.Д. Литература как продукт деятельности: теоретическая поэтика//Теория литературы: учеб. пособие: В 2 т./Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Т. 1. М.: Академия, 2004. С.106-473.
- Топоров В.Н. Пространство и текст//Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227-284.
- Топоров В.Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте//Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 121-132.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.
- Хализев В.Е. Теория литературы. Изд. 2-е. М.: Высш. шк., 2000. 398 с.
- Baron V. Erich Maria Remarque „Die Nacht von Lissabon": Menschen auf der Flucht. Osnabrück: Gymnasium Carolinum [Facharbeit], 2003. 20 S.
- Ben Ammar S. Das Dritte Reich und die Emigration in zwei Romanen von Erich Maria Remarque: „Arc de Triomphe" und „Zeit zu leben und Zeit zu sterben": [Diplomarbeit]. Lille: Université Charles de Gaulles, 2000/2001. 89 S.
- Fabian R. Zur Integration deutscher Emigranten in Frankreich 1933-1945//Leben im Exil: Probleme der Integration deutscher Flüchtlinge im Ausland 1933-1945. Hamburg, 1981. S. 200-206.
- Placke H. Nazizeit, Exil und Krieg in E. M. Remarques Roman „Die Nacht von Lissabon" (1961) -das Sich-Erinnern und Aussprechen//Ursula Heukenkamp (Hrsg.). Schuld und Sühne? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit (1945-1961). Amsterdam; Atlanta, 2001. S. 91-102.
- Remarque E. M. Das gelobte Land. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1998. 442 S.
- Remarque E.M. Der schwarze Obelisk: Книга для чтения на немецком языке. СПб.: КОРОНА принт, КАРО, 2005. 480 S.
- Remarque E. M. Liebe deinen Nächsten. Wien; München; Basel: Verlag Kurt Desch, 1956. 320 S.
- Schlösser I. Die Darstellung des Exils bei Erich Maria Remarque: [Еxamensarbeit]. Köln: Universität, 2001. 113 S.
- Schreckenberger H. „Durchkommen ist alles". Physischer und psychischer Existenzkampf in Erich Maria Remarques Exil-Romanen//Text + Kritik. № 149. 2001. S. 30-41.