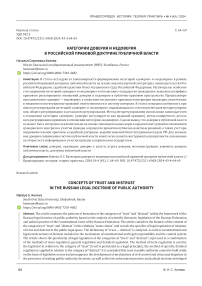Категории доверия и недоверия в российской правовой доктрине публичной власти
Автор: Конева Н.С.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Конституционное право
Статья в выпуске: 4 (43), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются закономерности формирования категорий «доверие» и «недоверие» в рамках российской правовой доктрины публичной власти на основе анализа научной литературы, законодательства Российской Федерации, судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации. Рассмотрены особенности содержания категорий «доверие» и «недоверие» в отношениях «государство-гражданин», выявлена специфика правового регулирования отношений доверия и недоверия в публично-правовом пространстве. Проанализирована дихотомия «доверие - недоверие», а также конституционно-правовые конструкции недоверия, включенные в механизм конституционно-правовой ответственности и систему контроля. В статье показана особенность правового регулирования категорий «доверие» и «недоверие», выражающаяся в сочетании методов метарегулирования, общего регулирования и детального регулирования. Метод метарегулирования использован законодателем в отношении категории «доверие» (доверие постулируется как правовой принцип), метод конкретного, детального регулирования применен в отношении категории «недоверие». Сделан вывод, что доверие к публичной власти не может быть построено исключительно на основе законодательных норм и предполагает развитие механизмов гражданского контроля и участия граждан в процессах принятия публично-властных решений, а также учет правоприменительной практики и судебной доктрины, вырабатываемой Конституционным Судом РФ. Для повышения доверия современная система публичной власти может использовать инструменты прозрачности, основанные на открытости информации и участии граждан в управлении государством.
Доверие, недоверие, доверие к власти, утрата доверия, метаконструкции, взаимное доверие, публичная власть, доктрина публичной власти
Короткий адрес: https://sciup.org/14132206
IDR: 14132206 | УДК: 342.5 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-43-4-64-69
Текст научной статьи Категории доверия и недоверия в российской правовой доктрине публичной власти
Правовая доктрина публичной власти играет ключевую роль в формировании правовой системы и определении отношений «государство — гражданин», является основой для законодательной деятельности, правоприменения и формирования правового сознания․ Как совокупность теоретических и практических концепций, оказывающих влияние на формирование правовых норм, правовая доктрина определяет не только формальные правила функционирования публичной власти, но и формирует установки и представления о легитимности государственной власти, создавая основы для доверия или недоверия гражданина к власти․
При этом доктрина не сводится к простой совокупности описаний положений законодательных актов, а представляет собой систему теоретических и практических решений․
Материалы и методы
Использованные методы — формально-юридический анализ, метод систематизации, сравнительно-правовой метод, методы правового моделирования — предопределены концептуальными рамками исследования․
Определение границ содержания правовой доктрины публичной власти во многом зависит от типа пра-вопонимания — это определяет, какие концепции будут ключевыми в содержании правовой доктрины․ Так, естественно-правовая теория отталкивается от идеи «природных» прав человека, которые существуют независимо от государства и в рамках этой теории правовая доктрина публичной власти основана на принципах свободы, равенства и прав человека, а государство выступает в роли «слуги» и «защитника» этих прав․ Для позитивистской теории правопонимания право — это воля государства, выраженная в законах․ Правовая доктрина в этом случае основана на принципах верховенства закона и «приоритета государства» в отношениях с гражданами․ В то же время социально-правовая теория, базирующаяся на учете влияния социальных факторов на правовую систему, понимает правовую доктрину в качестве инструмента достижения социального благополучия, справедливости и стабильности․
Описание исследования
Как комплексное понятие правовая доктрина публичной власти включает научную составляющую, государственную (политическую) составляющую и юридическую со-ставляющую․ При этом, как верно отмечает Т․ М․ Пряхина, «провести грань между этими составляющими можно лишь условно, так как именно синтезированность научного и практического — это важнейшее отличительное свойство доктрины» [1, с․ 11]․ Такое соединение научного и практического позволяет правовой доктрине вырабатывать сложные правовые конструкции, получающие отражение в законодательстве и правоприменении, обеспечивающие функционирование публичной власти и взаимодействие личности и государства, в том числе и в рамках дихотомии «доверие-недоверие» — категорий, лежащих в основе значительного числа социальных институтов и социальных связей․ Исходной категорией — «точкой отсчета» — выступает категория «доверие» — обзор подходов в литературе по вопросу соотношения доверия и права приводит к выводу, что доверие может выступать как сущностная подоснова права, как значимый внешний фактор, влияющий на право, как особый предмет правового регулирования, как элемент правосознания, как критерий оценки состояния политико-правовой действительности [2, с․ 43]․
Сложность правового содержания конструкций доверия и недоверия обусловлена тем, что они не могут быть основаны на абстрактных идеалах, должны опираться на конкретные механизмы гарантий прав и свобод граждан, а также на эффективные процедуры подотчетности и контроля, формироваться на основе принципов справедливости, равенства и защиты прав человека, что является условием их легитимности․ Оперирование же терминами «доверие» и «недоверие» как абстрактными, без уточнения их конкретных содержательных определений, приводит к неясности в понимании механизмов их формирования и измерения․ Кроме того, правовые конструкции «доверия» и «недоверия» в доктрине публичной власти не являются стабильными константами, они трансформируются под влиянием социально-политических процессов․ И потому доверие к публичной власти является не просто абстрактным понятием, а играет ключевую роль в обеспечении социальной стабильности․
Предпримем попытку обозначить особенности и правовое содержание парных категорий доверие-недоверие в доктрине публичной власти и роль правовой доктрины в содержательном наполнении и институционализации этих категорий․
Доверие как фундамент легитимности публичной власти. Доверие как сложная метаконструкция лежит в основе легитимности публичной власти, предполагая при этом не «пассивное принятие», а активное участие граждан (через участие в выборах, общественных движениях) в формировании и контроле за деятельностью государственных институтов․ Являясь одним из элементов концепции легитимности публичной власти, доверие предполагает веру в добросовестность и компетентность государства, с одной стороны, с другой — активное участие граждан в политической жизни․
Доверие к власти — это уверенность граждан в том, что они могут положиться на государство․ И хотя определенный уровень недоверия полезен для сохранения контроля и «бдительности» в публично-правовых отношениях, доверие к публичной власти, к государству и государственным институтам — важный элемент функционирования демократического общества и эффективного управления․
Концепция «конституционного доверия» предполагает не только наличие правовых норм, защищающих права и свободы, но и эффективную реализацию этих норм, обеспечивающую доверие граждан к правовой системе, не только ожидание от граждан доверия к государству, но и активное участие государства в формировании этого доверия, что достигается через прозрачность, подотчетность и эффективность деятельности органов публичной власти․ Другими словами, ответственное доверие не может быть «подарено», но должно быть «завоевано» путем проведения реформ, направленных на повышение качества и эффективности государственного управления․ Потому современные конституционные режимы стремятся к «конституционному доверию» — формированию доверия через законодательные и правовые нормы, защищающие права и свободы․
Невыполнение этих условий подрывает легитимность государственной власти, даже при наличии формально проработанных правовых гарантий․ Риск дефицита доверия к публичной власти — это риск эрозии институтов демократии и порождение авторитарных тенденций: именно в условиях недоверия к публичной власти граждане могут отказываться от участия в политической жизни, что позволяет авторитарным режимам использовать эту апатию для укрепления собственной власти․
Недоверие — как обратная связь для государства и публичной власти. В самом первом приближении недоверие чаще всего рассматривается как противоположность доверию, как «нехватка доверия», «утрата до-верия»․ В таком смысле недоверие к публичной власти является не «дефектом», а сигналом о необходимости изменений, о том, что государство не справляется с задачами, поставленными перед ним, и не оправдывает ожиданий граждан․ Недоверие граждан к государству в целом, институтам публичной власти и законодательству, ведет к противостоянию общества и власти, к гражданскому несогласию, социальным конфликтам [3, с․ 13–18]․
Напротив, повышение уровня прозрачности и подотчетности государственных органов является одним из ключевых факторов укрепления доверия, поскольку позволяет гражданам контролировать деятельность публичной власти․ Основой и условием формирования здорового уровня доверия к публичной власти является конституционное право на свободу слова и информации, реализация которого позволяет гражданам критически оценивать действия власти․
Доверие к публичной власти не является абстрактной величиной, но зависит от конкретных условий и контекстов: на уровень доверия к публичной власти влияют исторические особенности развития общества и государства, а также степень и характер участия граждан в политической жизни․ Так, активное и ответственное участие в выборах, общественных движениях способствует укреплению доверия к государству и публичной власти, поскольку граждане чувствуют свою причастность к процессу принятия решений․ При этом необходимо отличать уровень доверия к отдельным институтам публичной власти (например, к судам, парламенту) от уровня доверия к государству в целом, поскольку доверие к отдельным институтам может различаться и не является гарантией доверия к государству в целом․
Представляется, что различаются и механизмы возникновения доверия и недоверия к власти․ Недоверие граждан к публичной власти более связано с отсутствием этики в системе, нежели с функциональными аспектами системы публичной власти․ То есть этический аспект выходит на первый план․ Доверие — напротив — основывается на возможностях и функциональных особенностях системы публичной власти․ Именно поэтому можно вести речь и о доверии к отдельным институтам публичной власти и к отдельным публично-властным процедурам, что создает ценностную основу публичной власти в ее взаимоотношениях с гражданами и обществом․
Попытка «уловить» такую асимметричность условий возникновения доверия и недоверия приводит к предположению о том, что будет различаться и способ формализации доверия и недоверия в конституционном праве․
Как отмечает А․ Н․ Кокотов, формализация доверия, недоверия может происходить через исходные правовые средства: ценности, интересы, цели, задачи, прин-ципы․ При этом важно, что на уровне таких исходных правовых средств прямо не декларируется недоверие к чему-либо или к кому-либо․ А․ Н․ Кокотов объяснял это тем, что «недоверие не входит в сущностное ядро права как в его идеальном выражении, так и в официальной доктрине» [2, с․ 114]․
Возможности измерения доверия и недоверия. Измерение уровня доверия к публичной власти является сложной задачей, требующей применения разнообразных методов и инструментов и учета множества факторов, влияющих на уровень доверия, включая социально-демографические характеристики, исторический контекст, культурные особенности и др․
Значимы исследования индикаторов доверия и недоверия граждан к власти, в рамках которых предпринимается попытка формализации недоверия, то есть процесс перевода недоверия в явные и измеримые по-казатели․ В контексте отношений между людьми формализация недоверия может быть связана с разработкой системы оценки доверия между людьми на основе их поведения, истории взаимодействия, других факторов․
Так, для формализации недоверия в отношениях между странами могут быть использованы такие показатели как: нарушение международных договоров или отказ от ратификации; вмешательство во внутренние дела других стран или поддержка террористических или экстремистских организаций и режимов; военная агрессия в отношении других стран․ В одном из исследований, посвященных вопросам разграничения оснований доверия к национальному правительству и правительству штатов в США (результаты которого довольно типичны для подобного рода исследований), сделан вывод, что истоки доверия к правительству штата отличны от причин, по которым люди доверяют национальному правительству․ Эти различия связаны не только с политическими условиями и экономическими показателями, но и с тем, как штаты действуют в рамках федеральной системы управления, какова близость правительства штата к гражданам, от однородности электората штата [4, с․ 313–314]․
В литературе высказывалось также мнение, что «утрата доверия» — категория оценочная, и толкование соответствующих данному термину норм складывается лишь из судебной практики [5, с․ 347]․
Особенности правового закрепления доверия в конституционном праве. До появления в Конституции РФ в 2020 году положения о взаимном доверии государства и общества принцип доверия выводился доктринально из принципа правового государства․
С․ В․ Нарутто и А․ В․ Никитина полагают, что фактически данное положение Конституции о взаимном доверии можно считать конституционным принципом, очень близким принципу политической и социальной солидарности, отмечая при этом его декларативный, абстрактный характер [3, с․ 13]․
Принцип доверия определяет отношения как с отдельными органами власти, так и с государством в целом․ Эта позиция была сформулирована Конституционным Судом РФ в целом ряде решений — постановлении от 16 декабря 1997 года № 20-П1, постановлении от 24 мая 2001 года № 8-П2, постановлении от 23 апреля 2004 г․ № 9-П3, в которых суд подчеркивает, что изменение законодателем (в том числе посредством временного регулирования) ранее установленных правил должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает правовую определенность, сохранение разумной стабильности правового регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм и предсказуемость законодательной политики в социальной сфере․
В Постановлении от 14 января 2016 г․ № 1-П 4 , Конституционный Суд РФ формулирует позицию, согласно которой принципы правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства гарантируют гражданам, что решения принимаются уполномоченными государством органами на основе строгого исполнения законодательных предписаний, а также внимательной и ответственной оценки фактических обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение, прекращение прав․
В Федеральном законе от 21․07․2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» доверие формализуется через категорию «задачи» — так одной из задач общественного контроля названо повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечения тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества5․
Институционализация недоверия как способ поддержания доверия к публичной власти ․ Предыдущие рассуждения заставляют задаться вопросом, является ли недоверие полной противоположностью ситуации доверия к власти, исчерпывает ли это объяснение узконаправленное правовое содержание категории недо-верия․ Не заключён ли в конструкции недоверия также и регуляторный потенциал, позволяющий в результате формировать и поддерживать доверие граждан к публичной власти․ Если приведенные выше примеры — это иллюстрация выражения доверия через метаконструкции — принципы, задачи, цели, то недоверие, напротив, институционализируется чаще всего через конкретные конституционно-правовые конструкции․
В основе исследования правовой природы и роли институционализированного недоверия лежат, как представляется, следующие гипотезы:
-
— институционализированное недоверие — это не просто отрицательная тенденция, а сложный механизм, который может действовать как инструмент управления и обеспечения легитимности публичной власти;
-
— институционализация недоверия является реакцией на изменения в обществе и попыткой создать новые механизмы контроля за публичной властью в условиях повышенной недоверчивости граждан;
— институционализация недоверия может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для функционирования публичной власти, в зависимости от того, как она реализуется и какие механизмы применяются․
К числу конституционно-правовых конструкций недоверия относятся:
-
— выражение недоверия Правительству РФ со стороны Государственной Думы, предусмотренное ст․ 103 и ст․ 117 Конституции РФ 1 (при этом обращают на себя внимание терминологические различия — если процедура инициируется Государственной Думой — Конституция РФ употребляет термин «недоверие», если же вопрос перед Государственной Думой ставит само Правительство РФ, то речь идет о «вопросе о доверии»);
-
— ответственность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с выражением недоверия со стороны законодательного (представительного) органа и возможность обратиться к Президенту РФ с просьбой об отрешении его от должности;
-
— досрочное прекращение полномочий главы муниципального района, главы муниципального округа, главы городского округа в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации;
-
— полномочие законодательного (представительного) органа субъекта РФ принимать решение о недоверии (доверии) главе субъекта, а также отдельным министрам, если этот законодательный орган участвовал в их назначении․
В названных случаях институционализация недоверия — это, по сути, механизм легализации и формализации недоверия между органами публичной власти, ведущий в конечном счете к достижению доверия в системе публичной власти․
Такая институционализация, в основе которой лежит дихотомия доверия и недоверия, предполагает сочетание метарегулирования (например, принцип взаимного доверия между государством и гражданами) и конкретных конституционно-правовых конструкций или институтов, этот принцип детализирующих․ Доверие институционализируется через принципы, задачи, цен-ности․ Недоверие — через конструирование конституционно-правового института недоверия и встраивания его в систему сдержек и противовесов как на уровне горизонтального, так и вертикального разделения власти․
Сочетание метарегулирования и детального правового регулирования имеет ряд преимуществ, отражает особенности предмета и метода конституционного права — метарегулирование придает правовой системе гибкость и адаптивность, содержит потенциал приспособления к изменяющимся политико-правовым условиям и вызовам, способствует справедливости в правовом регулировании․ В свою очередь детальное правовое регулирование привносит в правовое регулирование ясность, предсказуемость и конкретные конституционно-правовые конструкции и институты․ Тем самым обеспечивается необходимый баланс между гибкостью и юридической определенностью в правовой системе․ В․ В․ Комарова пишет: «В процессе конституционной реформы 2020 года в Конституции Российской Федерации произошла смена парадигмы использования термина, что можно оценить как ответ на современные вызовы, стоящие перед государством и обществом․ Примером смены конституционной методологии может стать новая статья 75․1 Конституции России, в которой в полной мере проявляется отраслевой метод регулирования предмета» [6, с․ 32]․
Заключение. Выводы
Правовая доктрина играет важную роль в формировании правовых конструкций доверия и недоверия к публичной власти — она определяет установки и представления граждан о легитимности государственной власти и способна способствовать укреплению доверия к правовой системе․
«Доверие» как правовая категория, формируемая в рамках доктрины публичной власти, нуждается в переосмыслении, так как в условиях постмодерна и кризиса легитимности государства традиционные модели доверия становятся неэффективными․
Дефицит доверия к публичной власти может вести к «эрозии» институтов демократии и порождению авторитарных тенденций — отсутствие реализации правовых гарантий подрывает легитимность государства и усиливает дефицит доверия к власти, даже при наличии формально проработанных правовых норм․
Правовые конструкции недоверия в сфере власте-отношений «государство-гражданин» не являются отрицательным феноменом, они необходимы для сохранения баланса в системе публичной власти и предупреждения злоупотреблений и обеспечения справедливости․
Современная правовая доктрина публичной власти должна активно использовать инструменты прозрачности, основанные на открытости информации и участии граждан в государственном управлении․ В связи с этим значителен исследовательский потенциал вопросов взаимосвязи между правовой доктриной и публичным мнением, предполагающих изучение механизмов взаимодействия и влияния правовых конструкций на установки и представления граждан о публичной власти․
Список литературы Категории доверия и недоверия в российской правовой доктрине публичной власти
- Пряхина Т. М. Конституционная доктрина Российской Федерации: науч. издание / науч. ред. В. О. Лучин. Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2006. 323 с. EDN: QWWNWJ
- Кокотов А. Н. Доверие. Недоверие. Право. Москва: Юристъ, 2004. 192 c. EDN: XBNSGV
- Нарутто С. В., Никитина А. В. Конституционный принцип доверия в современном российском обществе // Конституционное и муниципальное право. 2022. № 7. С. 13-18. DOI: 10.18572/1812-3767-2022-7-13-18 EDN: BNQJCL
- Wolak J. Why Do People Trust Their State Government? // State Politics & Policy Quarterly. 2020. Vol. 20, Iss. 3. P. 313-329. DOI: 10.1177/1532440020913492 EDN: FOKMFF
- Украинцев В. Б., Савон И. В., Лепетикова И. Ю., Канаки В. В. Увольнение государственного служащего в связи с утратой доверия // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т. 8, № 1. С. 347-348. DOI: 10.26140/anie-2019-0801-0082 EDN: ZBIZDF
- Комарова В. В. Конституционно-правовая доктрина "доверие" в научной школе российского конституционализма // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина. 2022. № 6 (94). С. 29-38. DOI: 10.17803/2311-5998.2022.94.6.029-038 EDN: HVDFZS