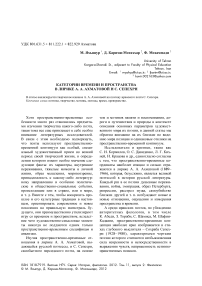Категории времени и пространства в лирике А. А. Ахматовой и С. Сепехри
Автор: Яхьяпур Марзие, Карими-Мотаххар Джанолах, Мохаммади Фатима
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется творческое влияние А. А. Ахматовой на поэтику иранского поэта С. Сепехри.
Поэтика, творчество, мотивы, методы, время, провтранство
Короткий адрес: https://sciup.org/14737740
IDR: 14737740 | УДК: 801.631.5
Текст научной статьи Категории времени и пространства в лирике А. А. Ахматовой и С. Сепехри
Хотя пространственно-временные особенности много раз становились предметами изучения творчества какого-либо поэта, такая тема все еще привлекает к себе особое внимание литературных исследователей. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что поэты используют пространственновременной континуум как особый, специальный художественный прием во всякий период своей творческой жизни, в определении которого имеют особое значение следующие факты: их характеры, внутренние переживания, тяжелые моменты в личной жизни, образ мышления, мировоззрение, принадлежность к какому-либо литературному направлению и особенно политические и общественно-социальные события, происходящие или в стране, или в мире, и т. д. Вместе с тем, чтобы воскресить прошлое и его культурные традиции в настоящем, ориентировать современное и новое поколения на правильную магистраль будущего, они преимущественно утилизируют игру со временем и пространством, вследствие чего художественно-смысловые моменты никогда не поддаются одним только пространственно-временным спецификам и анализам.
Изучая пространственно-временные отношения в лирике А. А. Ахматовой, выдающейся русской поэтессы, и С. Сепехри, самобытного персидского поэта, на основе тем и мотивов памяти и воспоминания, дороги и путешествия и природы в контексте описания основных параметров художественного мира их поэзии, в данной статье мы обратим внимание на их близкие по видению мира позиции и одинаковые отклики на пространственно-временной континуум.
Исследователи и критики, такие как С. И. Кормилов, О. С. Давиденко, Л. Г. Ких-ней, И. Крацова и др., единогласно согласны с тем, что пространственно-временные координаты наиболее изящно и сильно отражаются в лирике А. А. Ахматовой (1889– 1966), которая, безусловно, является великой поэтессой в истории русской литературы. Каждый раз в ее поэзии душевные переживания, война, эмиграция, образ Петербурга, репрессии, расстрел мужа, самоубийство близких друзей и т. п. возбуждают новые и новые отношения, ощущения и измерения пространства и времени.
А среди иранских поэтов, по убеждению авторитетных филологов, в том числе К. Абеди, З. Тораби, С. Шамиса, М. Шафии-Кадкани, пространственно-временная концепция наиболее ярко изображается в стихах глубокого мыслителя – Сохраба Сепех-ри (1928–1980), характерными чертами поэзии которого считаются необыкновенная сила искренности и непосредственности в выражении чувств, напряженность истиннонравственных поисков.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 2: Филология © М. Яхьяпур, Д. Карими-Мотаххар, Ф. Мохаммади, 2012
В стихах А. А. Ахматовой и С. Сепехри можно совсем ясно наблюдать взлеты и падения при изображении хронотопа (по определению М. Бахтина). Если их взгляды на данную категорию иногда приближаются друг к другу (даже в некоторых случаях можем признаться в полном сходстве пространственно-временных картин, ими нарисованных), то иной раз между ними – глубокая пропасть, которая нам как-то внушает дифференцированные подходы поэтов к пространственно-временной концепции. А между тем надо отметить, что у Ахматовой и Сепехри много общего в восприятии пространственно-временного пласта, хотя они не принадлежат ни к единой культуре, ни к единой нации, ни к единому литературному направлению (Ахматова – акмеистка, а Сепехри следовал принципам французского символизма, а иногда – «черного» романтизма).
В творчестве Ахматовой категория памяти становится своего рода «призмой, сквозь которую преломляются ключевые идеи и образы ее поэзии. По Ахматовой, прошлое не исчезает и в скрытом виде присутствует в настоящем, предопределяя и обусловливая его. Воскрешая с помощью памяти прошлое, Ахматова как бы дает его в подлиннике, как «переиздание навек забытых минут» [Небольсин, 1992]. Поэтому не случайно К. Чуковский, Ю. Левин, Д. Сегал, Р. Тименчик, В. Топоров, Т. Цивьян считали категорию памяти основополагающей и организующей для творчества Ахматовой. Данная категория особенно отчетливо и выразительно воплощается в поэме «Реквием», в циклах «В сороковом году», «В Царском Селе», «Северные элегии» и в следующих стихотворениях: «Маяковский в 1913 году», «На Смоленском кладбище», «Тот город, мной любимый с детства», «С новым годом! С новым горем!», «Ива», «Не недели, не месяцы – годы...», «Ленинград в марте 1941» и т. п., в которых совершенно четко изображено оживленное движение времени, возникающее, в общем, в четырех главных формах: 1) нынешние события осознаются как следствие событий прошлого; 2) настоящее и прошлое существуют одновременно; 3) настоящее и прошлое параллельно движутся к будущему; 4) все времена стремительно идут к внепространственно-вре-менной бесконечности. Для того чтобы осветить пространственно-временную ори- ентацию всего вышеизложенного, далее проанализируем цикл «В Царском Селе», в котором впервые возникает тема памяти в традиционном восприятии для А. Ахматовой.
Цикл «В Царском Селе» является одним из центральных в сборнике «Вечер», в который входят по порядку три следующих стихотворения: «По аллее проводят лошадок…» и «…А там мой мраморный двойник», «Смуглый отрок бродил по аллеям…». Все части данного цикла «неразрывно связаны между собой тем, что являются эмоциональным откликом на воспоминания детства, прошедшего в Царском Селе» 1. «Царское Село – это не просто место, где протекала юность лирической героини, разыгралась трагедия ее первой любви, но и лицейские годы А. Пушкина, это пушкинская эпоха в целом. Царское Село вводится в ценностную систему Ахматовой как символ прошлого и одновременно вневременной вечности» [Мусатов, 1992. С. 119–120]. Кроме того, по справедливому замечанию В. М. Жирмунского, «цикл “В Царском Селе” связывает настоящее с классическим прошлым, при сохранении чувства дистанции» [1973. С. 117]. Отсюда цикл «В Царском Селе» можно считать примечательной вехой литературного расцвета Ахматовой, так как «прерывистый, обратный ход сюжетного времени (то есть обращение к памяти персонажа как к внутреннему пространству для развертывания событий) мотивируется не авторской инициативой, а психологией “припоминания”. Такая постановка сознания героя позволяет сжать собственно время действия до немногих дней и часов, между тем как на “экран припоминания” могут проецироваться время и пространство целой человеческой жизни» 2.
Исходя из этого, память для Ахматовой не только тема, но и инструмент, средство создания художественного мира, в ее поэзии «...проекция стихов на план прошедшего времени говорит о том, что происходящее осмысляется с временной дистанции» [Ких- ней, 1997. С. 28]. Поэтому лирические сюжеты многих ее стихотворений, по убеждению большинства исследователей ахматовского творчества, в частности Л. Г. Ких-ней, построены по аналогии с «механизмом воспроизведения воспоминания, но не о пережитых чувствах, а об образах внешнего мира»:
В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.
Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость!
[Ахматова, 2009. С. 56–57] 3.
Детство, воспоминания которого не раз повторяются в лирике Сепехри, через которые поэт укрывается от мира в «зеленом саду одиночества», как времени чистого существования, поиски «друга», который есть «недостижимое божество, обретаемое поэтом в уединении», составляет ядро настроения, разлитого в стихах Сепехри 4. Наилучший пример этой темы получает отражение в стихотворении «Шасуса» из сборника «Обрушение солнца»:
Из окна
Гляжу на закат, [догорающий] за стеною детства.
Напрасно было. Было напрасно.
Над дверьми в зеленый сад обрушилась эта стена.
И под обломками пропали
Цепь игр золотая, и сказок светлое окно.
Тень моя там видна:
На глиняной крыше стою я,
С грустным лицом.
И взор мой устремлен на дымку заката
[Сепехри, 2008. С. 145] 5.
«Шасуса» – это пустыня, в которой, по-видимому, был чей-то мавзолей, уже разрушенный, и только руины его дошли до нашего времени. Поэтому С. Шири по праву отмечает, что «“Шасуса” является “полевым кладбищем” С. Сепехри по сравнению с “морским кладбищем” французского поэта П. Валери» 6.
В этом стихотворении герой видит в картине своего детства «одиночество», «детский дом» и его «цветки белой акации», он слушает «шум детей во время игр» и «баюканье матери». Лирический герой на все, прошедшее, печальными глазами смотрит. Время детства как-то связывает его с «вечностью», по-другому, приближает его к внепространственно-временной необъятности:
Под колыбельную,
Распускаются цветки белой акации: Вечность на ветвях
(пер. наш. С. 149).
В поэтическом произведении «Звук шагов воды», рассмотрев детское, подростковое и свою молодость, С. Сепехри склоняется к идиллическому миру, дорожа каждым мгновением, дорожа настоящим... К тому же здесь Сепехри «осознает прошлое и будущее, как форму сверхчувственного познания действительности» [Хогуги, 1994. С. 156]. Действительно, в этом стихотворении поэт сам «организует мир вокруг себя, вернее, он вкладывает в него свое содержание» [Со-леймани, 2001. С. 276]. Ясно, что категория памяти – одна из доминирующих тем в данном стихотворении, про которую Б. Мегда-ди отмечает: «…тема памяти, воспоминания и связанные с ней мотивы движения вспять, возвращения насквозь пронизывает “Звук шагов воды”. <…> Это поэтическое произведение, в самом деле, попытка сопротивления неумолимому течению времени, желание придать какому-то важному мгновению вечно длящийся, хотя бы и в воспоминании, характер. Все это подчинено одной цели: реконструировать мир своего детства, воссоздать атмосферу дома, семьи. В связи с этим, еще можно прибавить, что прошлое воспринимается поэтом как возвращение в детство, самосознание себя ребенком, ибо, с одной стороны, жизнь ребенка – это жизнь вне, и надмирная, а с другой, это переживание чего-то безвозвратно далекого, того, что сейчас, в настоящем, оказалось недоступ- ным, недосягаемым, – тоска по потерянному раю» [Мегдади, 1998. С. 42–49].
По ту сторону времени мой отец умер.
Голубым было небо, когда умер мой отец.
Рисовал мой отец.
Выделывал тар, на таре и играл.
Писал же хорошим почерком.
Был наш сад на стороне тени мудрости.
Наш сад был местом, где переплелись чувство и растение, Местом, где сошлись взор, клетка и зеркало, был наш сад.
Наш сад, вероятно, был дугой зеленого кольца счастья (пер. наш. С. 280–281).
Как видно, главным в данном стихотворении является то, что Сепехри связывает воедино настоящее с прошлым и будущим, для того чтобы достичь вечности и бесконечности . В результате этого поэт наслаждается каждым мгновением и всякой деятельностью в настоящий момент.
Таким образом, функция памяти в поэзии Сепехри и Ахматовой заключается в том, что, во-первых, она помогает лирическому герою (или лирической героини) вспомнить хоть целиком, хоть отдельно, все, что имело место в прошлом; во-вторых, память вплетает будущее в канву настоящего. Используя мотив «памяти», оба поэта хотели, чтобы лирическое «Я» заметил всякие явления и красоту этой мимолетной жизни, чтобы его сознание распознало свою причастность к бесконечности и поняло, что совсем новое отношение, новое измерение и вообще все новое обнаруживается в настоящем. К тому же мотив воспоминания, параллельно памяти, не только обращает время, но и, во-первых, превращает его в миг; во-вторых, переносит настоящее и будущее в новое качество, соединяясь с вечной необъятностью, вследствие чего осуществляется идея «мгновения – вечности» персидского поэта и русской поэтессы.
Однако при изображении пространственно-временной концепции можно наблюдать некую разницу в лирике Ахматовой и Се-пехри. Если поэтесса воссоздает в своих стихах «зримый облик эпохи», то персид- ский поэт вовсе не показывает определенную временную схему и совсем запутанно относится к категории времени, вследствие этого и к категории пространства. Ахматова, например, в «Северных элегиях. Первой» использует выражение «Россия Достоевского», обозначение времени и пространства которого «условно-сопоставительное, поскольку “город умеет казаться литографией старинной” и вызывать в памяти воспоминания, раскрывая посвященным свои тайны. Рефлексию героя отражают постоянно пересекающиеся временные пласты прошлого и настоящего. Настоящее время представлено особенно ярко системой предикатов: “прохожу”, “лучше не заглядывать”, “летят”, “уйдем” и т. д. Иначе говоря, Петербург реальный представлен настоящим временем, а Петербург ирреальный (существующий в воспоминаниях) – прошедшим» [Верхоло-мова, 2009. С. 115]. А Сепехри в первых четырех своих стихосборниках («Смерть цвета», «Жизнь снов», «Обрушение солнца», «Восток печали») рисует картину настоящего как мираж, как что-то опустошенное, в то время как прошедшее в его сознании неразрывно связывается с разочарованием и горестью, а будущее ему кажется безнадежно и смутно.
Пространственно-временная структура подробно проанализирована М. М. Бахтиным. Он считал ее сферой «случайных встреч» и «пересечения в одной пространственной и временной точке пространственного и временного пути различных людей». Именно здесь происходят события; здесь «время как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги)». Поэтому возможны метафоры дороги: «жизненный путь», исторический и др. Но основной смысл этих метафор – «течение времени» [Бахтин, 1986. С. 276]. Для нас особенно важен этот хронотоп именно потому, что в нем единство пространственно-временных определений раскрывается исключительно четко и ясно.
Если в «Звуке шагов воды» поэт больше всего погружается в «абстрактное» путешествие, созданное его творческим воображением, то поэтическое произведение «Путешественник» наполнено историческо-географическими названиями, которые свидетельствуют об «объективации художест- венного замысла». Сепехри в данном стихотворении часто прибегает к историческим образам и названиям, которые, по его определению, являются «хранителями памяти». В подтверждение этого можно основаться на следующих: Месопотамия, озеро Толл, Вавилон, Псалтырь, Бенарес, Иеремия, Хаммурапи законы, Греция, Венеция, Тадж-Махал, Ирак, Палестина и т. п. Все это говорит об объективных и в то же время субъективных путешествиях поэта в разные страны мира и в историю, в далекое прошлое с целью восстановить связь между прошлым и настоящим, которые ведут к будущему.
Детально описав пространство и время, в первой строфе поэт сообщает о приходе «путешественника». И скоро станет ясно, что он недолго останется у хозяина, а продолжит свое путешествие, уже давным-давно начавшееся.
В закатный час, посреди изнуренных вещей,
С надеждою взор устремлялся на необъятность времени.
Ароматы садовых цветов ветер на зеленом ковре покоя
В дар жизни приносил.
Пассажир автобуса
Вышел:
«Какое прозрачное небо!»
Пошел вдоль улицы и исчез вдалеке (пер. наш. С. 182–183).
На наш взгляд, герой Сепехри, с одной стороны, видит в «дальнем горизонте» что-то светлое и отправляется в путь, однако он одинок (отсюда мотив «одиночества» в лирике поэта), и силы у него недостаточны, к тому же он еще не знает, что ему угодно и как можно избавиться от душевного ада и вечного мрака, поэтому герой молодого поэта становится «потерянным» и в пространстве, и во времени. С другой стороны, «Путешественник» символизирует человека с начала его рождения до самой смерти. По философской концепции Сепехри, смерть – конец земной жизни и начало вечности. Поэтому его герой нигде не задерживается, и он все проходит по дороге, ведущей к внепространственно-временной бесконеч- ности. Однако критик Д. Ашури иначе анализирует хронотоп дороги в данном стихотворении, с которым же нельзя не согласиться: «Герой Сепехри чаще всего знает свой путь и его конечный пункт наперед, но не имеет никаких гарантий относительно их преодоления. Нет у него и уверенности в благосклонности времени к его планам. Высокая его цель – оставить свой след на одолеваемом пути, олицетворяющем единую дорогу – историю целого народа, где сливаются тени предков со своими потомками» [Ашури, 2001. С. 132–133]:
Я все еще в странствии.
Чудится мне,
По мировым водам лодка плывет,
И я – пассажир лодки – уже тысячи лет Живую песню мореплавания старинного… пою (пер. наш. С. 188–189).
Мотив дороги в поэтическом творчестве Ахматовой является одним из основных мотивов (слово дорога встречается в ее стихах 54 раза, его синоним путь – 51 раз). Нередко это слово означает дорогу к смерти: «Я гощу у смерти белой / По дороге в тьму...»; «Мне снится, что меня ведет палач / По голубым предутренним дорогам...». «Но только в стихотворении “Дорога не скажу куда” слово дорога употреблено в такой необычной синтаксической конструкции. Ахматова применяет здесь фигуру умолчания, не желая прямо сказать, куда ведет эта дорога. Вместе с тем этот оборот удивителен в стилистическом плане. Подчеркнуто разговорный, он резко контрастирует с глубоким философским содержанием стихотворения» [Черных, 2008]. Наряду с этим тема дороги в ее поэзии возникала в прямой или непрямой связи с понятиями «память», «воспоминания» и «природа». Такая тема в лирике поэтессы намекала на тот важный факт, что дорога жизни и дорога смерти одновременно идут к бесконечности, вот почему жизнь в ее сознании прекрасна, несмотря на то что она тленна, и мысль о смерти не приводит за собой ужас и страх, потому что она воспринимается как органическая часть бытия.
Творчество поэта и поэтессы насыщено метафоричностью, которые строятся на ассоциативном сближении явлений. Зрительно-пространственные детали, звуковые, цветовые, обонятельные, вещественно-кон- кретные образы, и временные координаты свидетельствуют о неразрывной связи между временем и пространством. К этому еще можно добавить тот факт, что одним из значимых творческих принципов двух поэтов является чувствительность к подробностям, природным и бытовым «мелочам» (например, можно указать на игру цвета и света в стихотворениях «Вечерняя комната», «Песня последней встречи» и «Белой ночью» Ахматовой, а также в большинстве стихов сборника «Смерть цвета», «Жизнь снов» и «Зеленый объем» С. Сепехри), которая утверждает их связь с миром.
Стихотворение «Песня последней встречи», в котором перед нами возникают зрительно-пространственные образы и цветовые представления, намекающие на крепкую связь между пространством и временем, подтверждает высказывание И. Н. Невинской о важности «предметных деталей» в поэзии поэтессы: «В лирике Ахматовой чувство сжимает действительность настолько, что без пространственных обозначений, несущих в своей семантике соотнесенность с непредметным миром, уже не обойтись. Последнее достигается через включение в текст стихов обозначений предметных деталей, которые опосредовано выражают эмоции героини» [Верхоломова, 2009. С. 111– 113]. К тому же ночной мрак, осенний холод, противопоставление смерти и жизни говорят о внутренней напряженности героини в этом стихотворении:
Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно - желтым огнем (С. 23).
В данном стихотворении предельная четкость картины и предметность изображаемого мира усиливаются тогда, когда героиня вспоминает:
... Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступней,
А я знала – их только три! (С. 23).
И «вещность», предметность бросается в глаза в поэтическом творчестве Сепехри. Его лирику переполняют внешние явления. Они отходят от внутреннего мира, от индивидуализма, чтобы «в напряженности попы- ток найти скрытые отношения между предметами и сущностями внешнего мира» [То-раби, 2003. С. 95]. Например, можно опереться на стихотворение «Движение слова существования» из сборника «Зеленый объем»:
Жизнь – это скворец улетел.
Что ж ты загрустил?
Радостей ведь немало: например, вот это солнце,
Ребенок послезавтра,
Голуби на той неделе.
Кто-то умер прошедшей ночью…
А еще – хорош пшеничный хлеб.
А еще – льется вода, и кони пьют.
Капли стекают,
Снег на плечах тишины, И время на стеблях сирени
(пер. наш. С. 392–393).
Решающим в формировании пространственно-временной концепции у двух поэтов считается воздействие природы. В лучших пейзажных зарисовках поэта и поэтессы отразились времена суток и года и душевное состояние лирического «Я». Кроме того, они видели в природе путь к вечности, к внепространственно-временному простору. Но здесь можно наблюдать некую разницу: если Ахматова хотела говорить за весь мир от своего лица, то Сепехри предпочитал, чтобы мир говорил за него и вместо него.
Стихотворение «Небывалая осень построила купол высокий...», на первый взгляд, посвящено природе. Причем пейзаж – через эпитеты и сравнения («зори нестерпимые, бесовские и алые», солнце, «как вошедший в столицу мятежник») – отражает атмосферу времени. Осень и весна воспринимаются не только как полярные понятия, но и как сменяющие друг друга времена года, и как периоды в жизни героини. Ей, помнящей о весенних «розах», любовь видится иной («крапива»), но «крапива запахла, как розы, но только сильней». Ощущения становятся острее, так как за ними стоит знание реальности, стремление, освободившись от случайного, поверхностного, увидеть суть вещей, свет, скрытый за «облаками». И только финальная строка, знаменующая приход возлюбленного, «разъясняет» причину столь дивного преображения осенней природы, вскрывает симпатические связи между природным и личным бытием и в то же время «вписывает» любовную встречу в контекст эпохи [Буслакова, 2001. С. 63-65].
Образы природного мира, тяга и любовь к природе у С. Сепехри - путь к правильному познанию мира, как в пространственном, так и во временном аспектах, и путь к обретению истинного своего «Я». Д. Ашури так пишет об этом: «Природа, как зеркало, отражает человека и вместе с ним проходит все этапы его жизни - младенчество, взросление и старение. Это некая книга, символические знаки, через которые можно просмотреть прошлое, настоящее и будущее» [Хогуги, 1994. С. 276-277]. В своей лирике поэт достигает такой высшей степени гармонии и единства с природой, что, по убеждению К. Абеди, «во всем окружающем слышит только голос единства, что он сильно интересуется всякой вещью и увлекается различными пространством и временем. Именно поэтому жизнь, на его взгляд, такая красивая и прекрасная» [Абеди, 2005. С. 190-191]:
Я позову тучи,
Соединю нитью глаза и солнце, сердце и любовь, тень и воду, ветку и ветер.
Соединю сон ребенка и песню сверчка, Заверчу флюгера в воздухе, Наполню влагой сосуды с цветами.
Приду и ласково рассыплю зеленую траву лошадям и коровам, Изнемогшим от жажды кобылицам принесу ведро росы, От старого осла в пути отгоню оводов. Я приду и у каждой стены посажу по гвоздике.
И у каждого окна прочту по стиху. Каждой вороне подарю по дереву, Змее шепну: «Как прекрасны лягушки». Я буду мирить,
Узнавать,
Буду бродить, Пить свет И любить...
(пер. В. Полещука. С. 345-346).
Сепехри дорожит каждой минутой жизни природы, ведь природа у поэта - символ вечности и бесконечности :
Между мигом и землей нет стебля, обремененного плодами страха.
Сопутник! Мы соединены вечностью цветов.
<...>
И да творим мы каждый миг два берега своей жизни,
И каждый миг [их] отпускаем.
Идем же, идем, тихо напевая песнь безбрежности
(пер. наш. С. 173, 180).
Таким образом, вся жизнь, по мнению Сепехри и Ахматовой, целое мироздание во всем многообразии звуков и запахов, разливе красок, богатстве ощущений. Это и сады, и пруды, и ограды, и цветы, и небо, и земля, и т. д. Поэтому можно сказать, что характерная черта поэтического стиля С. Сепехри и А. Ахматовой - чрезвычайная сила и интенсивность контакта лирического героя с миром, конечно, не с общественно-политической точки зрения, а сквозь призму природных представлений.
Персидский поэт стремится избавиться от каких-либо кабал, рамок и цепей, для того чтобы, во-первых, находиться вне времени и пространства, где все сливается воедино; во-вторых, после этого необратимость времени, как раньше, не подверглась печали и разочарованию. Исходя из этого в его лирике «пространство и время, преодолевая замкнутость определенного места и времени действия, восходят к запредельности. Хронотоп обретает у Сепехри новые грани и смыслы, явившись отражением менявшегося в то время личностного мировосприятия: он тяготеет к простору и к большому времени» [Абеди, 2005. С. 235].
Такое стремление к бесконечности совершенно наглядно и очевидно в поэзии Ахматовой. Размыв границы, поэтесса хотела наслаждаться каждым мгновением, потому что, по ее убеждению, неповторимо бытие и невозвратимо то, что миновало. Отсюда она, так же как великий иранский поэт, больше не поддалась разочарованию при мысли о скоротечности времени и жизни, и образ смерти у нее замещен образом вечности. Однако надо напомнить, если Сохраб Сепехри живет для мига, мгновения настоящего, то Ахматова - для вечности прошлого.
Но кто нас защитит от ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен?
Татарское, дремучее Пришло из никуда ... ...
И время прочь , и пространство прочь ,
Я все разглядела сквозь белую ночь... ...
Я вернуться не хотела
Никуда оттуда (С. 284, 292, 294).
Как видим, А. Ахматова, особенно в произведениях последних двух десятилетий, «из земной юдоли уводит в “никуда” и возвращает в жизнь “ниоткуда”» [Добин, 1968. С. 174–178]. Кроме того, «чем дальше отлетает пережитое, тем горше ощущение бытийной опустошенности, оплакать которую не хватает слез, и слезы эти миру невидимы. Тайной поэтического бытия стала запре-дельность. Тайной этого, земного, бытия – обреченность. Так Анна Ахматова вышла к бытию и вечности » [Давиденко, 2005] .
Итак, нами была проанализирована общность и близость лирики А. А. Ахматовой и С. Сепехри в пространственно-временном плане.
Темы и мотивы памяти и воспоминания, дороги и путешествия включились в творчество двух поэтов, соответственно чему прошлое не мыслилось как что-то уходящее невозвратно, отстраняющееся от настоящего и будущего. Вместе с тем стихи поэта и поэтессы – попытка «припоминания» того, что имело место в далеком или недалеком прошлом и практически до неузнаваемости преобразилось в настоящем. К тому же природа – всеобъемлющая, главная тема творчества Ахматовой и Сепехри. Они постоянно обращаются к природе, когда высказывают самые сокровенные мысли о себе, о своем прошлом, настоящем и будущем. В дополнение к сказанному еще можно прибавить, что их художественный мир раскрывается обычно через ассоциации с жизнью природы. Именно отсюда стремление к всеобщей гармонии, к единству всего сущего на земле.
Таким образом, через поэтическое творчество при помощи различных мотивов и методов А. А. Ахматова и С. Сепехри пытались придать человеческому опыту характер «мгновения – вечности», сильного чувства, переживания, восторга, тем самым транс- формировав его, создав совсем новый и светлый мир из темноты.