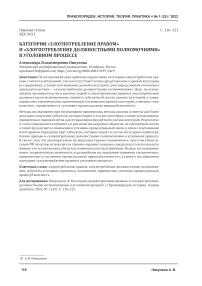Категории "злоупотребление правом" и "злоупотребление должностными полномочиями" в уголовном процессе
Автор: Никулина А.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей
Статья в выпуске: 1 (32), 2022 года.
Бесплатный доступ
На сегодняшний день проблема определения категории «злоупотребление правом» считается актуальной, так как отсутствует четкое представление о данной категории, ее содержании, а также соотношении данной категории с уже определенной уголовным законодательством - «злоупотребление должностными полномочиями». Цель: на основе анализа законодательства и научных теорий о злоупотреблении правом и злоупотреблении должностными полномочиями, выявить субъектный состав данных категорий, а также определить терминологию, применяемую в отношении данных категорий, а именно: «полномочие», «правомочие» и «уголовно-процессуальная правосубъектность». Методы исследования: при исследовании применялись методы анализа и синтеза для более детального изучения субъектов, которые входят в эти две категории, а также использовался сравнительно-правовой метод для отграничения предметного состава категорий. Результаты: в статье определяется общность и различие исследуемых объектов, их субъектный состав, а также предлагаются изменения в уголовно-процессуальный закон, в связи с изученными категориями. Определен круг субъектов, которые входят в состав категории «злоупотребление правом» и «злоупотребление должностными полномочиями» в уголовном процессе. В связи с тем, что законодательно не закреплен термин «полномочие», при этом в Конституции РФ зачастую используется термин «предмет ведения» предлагается использовать именно его в отношении субъектов, имеющих властные функции. Вывод: исследование имеет теоретическую значимость в дальнейшем исследовании терминов «полномочие», «правомочие» и «уголовно-процессуальная правосубъектность», а также в исследовании категории «злоупотребление правом в уголовном процессе».
Злоупотребление правом, злоупотребление должностными полномочиями, субъекты уголовного процесса, полномочие, правомочие, уголовно-процессуальная правосубъектность
Короткий адрес: https://sciup.org/14123528
IDR: 14123528 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Категории "злоупотребление правом" и "злоупотребление должностными полномочиями" в уголовном процессе
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия ,
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia ,
При изучении института злоупотребления правом в уголовном процессе необходимо отграничивать его от злоупотребления правом должностными лицами. Это необходимо для того, чтобы отграничить ответственность, наступающую при злоупотреблении правом участниками уголовного процесса, от уголовной ответственности, наступающей при злоупотреблении должностными полномочиями.
Описание исследования
В соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ1: «должностное лицо — лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления».
В соответствии с разделом 4 УПК РФ2 к участникам относятся: суд, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, участники уголовного судопроизводства со сторон защиты и иные участники. К участникам со стороны обвинения относятся: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители (глава 6). К участникам со стороны защиты относятся: подозреваемый, обвиняемый, законные представители, защитник, гражданский ответчик и представители. Таким образом из общего числа участников уголовного судопроизводства мы можем выделить лиц, обладающих должностными полномочиями, и лиц, не обладающих властными полномочиями.
Как справедливо отметила Н. В. Осодоева в своей статье, что и помощник судьи, и секретарь судебного заседания, и заявитель жалобы, и педагог или психолог, все они являются участниками уголовного судопроизводства [7, с. 149–150]. А также, мы можем определить и их субъективное положение: помощник судьи и секретарь судебного заседания, участвуют в суде в силу своего должностного положения, тогда как заявитель жалобы участвует в уголовном судопроизводстве в силу своих прав на участие в судебном заседании, выступать с репликой, давать пояснения по существу поданной жалобы и т. д. Педагог или психолог, участвующие при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, участвуют в силу своей специальности, и имеют они права, а не обязанности (право знакомиться с протоколом допроса, задавать вопросы и т. д.), то есть их статус не продиктован должностным положением.
Обращаясь к Приказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.08.2019 № 1931, мы видим, что должность помощника суда относится к должности государственной гражданской службы РФ, также в соответствии с данным регламентом установлены и полномочия помощника (Раздел 3).
В ст. 245 УПК РФ указываются должностные обязанности секретаря судебного заседания, что тоже подтверждает его статус должностного лица.
Заявитель жалобы в соответствии со статьей 125 УПК РФ имеет возможность реализации прав, не имея при этом обязанностей. Педагог или психолог также имеют права, предоставленные им уголовно-процессуальным законом (п. 5 ст. 425 УПК РФ).
При этом, в науке есть неопределенность по вопросу о том, является ли должностное лицо субъектом, которое может злоупотреблять правами в уголовном процессе. Так, О. И. Да-ровских включает должностных лиц в классификацию по субъектам злоупотребления правами в уголовном судопроизводстве [3, с. 9].
Должностное лицо участвует в уголовном судопроизводстве исходя из своих должностных обязанностей, значит и «права» у него те, которые принадлежат ему в соответствии с его статусом, что даже нельзя назвать правами, а только полномочиями. Таким образом, если должностное лицо злоупотребит правом в уголовном процессе, на любой его стадии, оно понесет уголовную ответственность. Если же должностное лицо участвует в уголовном судопроизводстве в статусе лица — участника, которое имеет права и обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, но не полномочия (к примеру, законный представитель), он вправе реализовать права и несет обязанности лица, участвующего в уголовном судопроизводстве. Таким образом, при злоупотреблении правом четко видно, в каких случаях происходит злоупотребление правом, а в каких — злоупотребление должностными полномочиями.
А. Б. Диваев в своей научной работе раскрывает различия между «злоупотреблением правом» и «злоупотребление должностными полномочиями», указывая следующие доводы: «Во-первых, в отличие от субъективного права полномочие не подразумевает свободы воли носителя права при его использовании. Полномочием нельзя распорядиться по своему желанию. Это обстоятельство связано с публично-правовым характером должностных полномочий, которым его носитель не только вправе, но и обязан воспользоваться при наличии предусмотренных законом оснований для этого. По сути, полномочие — это и право, и обязанность одновременно». [4, с. 39]
Можно согласится с позицией А. Б. Дивае-ва, так как все доводы были приведены верно. Особенно хочется отметить то, что действительно полномочие у должностного лица — это сочетание права и обязанности, то есть оно не может называться ни правом, ни обязанностью. А также, можно сделать вывод о том, что они должны быть отделимы друг от друга. Рассматривая же это в контексте злоупотребления, их связывает общность того, что при злоупотреблении право (или полномочие) всегда осуществляется во вред другому лицу, обществу или государству, что немаловажно, так как это можно назвать их общим признаком.
Интересно заметить, что законодательно не закреплено понятие и «полномочия», что часто приводит к некоторому замешательству, почему же основа устройства закрепления за лицами полномочий так и не установлена законодательством, при этом перечень полномочий различных органов, должностных лиц и т. д. довольно обширен. Тогда как термин «права» введен в ст. 17 Конституции РФ и он закладывает основу для регулирования перечня всех прав и свобод человека1.
Государственно-правовой терминологический словарь «Конституционный лексикон» указывает, что полномочия есть не что иное как «права и обязанности государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица, иных участников общественных отношений, установленные нормативным юридическим актом» [1, с. 495]. Следовательно, полномочие не относится только лишь должностному лицу, но при этом, данное определение не противоречит вышесказанному, при условии того, что мы говорим именно о полномочиях должностного лица.
При этом, в данном словаре указывается, что и термин «правомочие» есть то же самое, что и полномочие [1, с. 514]. Возникает некая коллизия в словаре и заключается она в том, что данные термины используются в разных случаях, при этом являются синонимами. Но так как правомочия включает в себя лишь одну сторону — права, а полномочия включает в себя обе стороны — права и обязанности, значит признать их синонимами будет ошибкой.
В большом юридическом словаре под правомочием понимается «предусмотренная законом возможность участника правоотношения совершать определенные действия или требовать известных действий от другого участника этого правоотношения» [5, с. 419]. Данное определение более похоже на истину, а также в ряде других юридических словарей термин «правомочие» определяется также. В данном словаре термин «правомочие» применяется в ряде определений, относящихся к гражданским правоотношениям (имущественные права, моральные права автора, отчуждение).
При этом, в законодательной базе не нашлось подтверждения того, что должностное лицо может быть наделено правомочиями, данных термин используется только в гражданских правоотношениях (ГК РФ2, ФЗ от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»3, Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-14 и др.)
Подтверждение того, что полномочие является прерогативой не только должностных лиц, мы видим в ст. 53 УПК РФ «Полномочия защитника», исходя из формулировки названия статьи, мы видим, что защитник, не являясь должностным лицом, имеет полномочия, которые предоставлены ему уголовно-процессуальным законом.
В научной литературе можно найти определение термина «полномочие», Гадельши-на Л. И. определяет полномочие как «юридически закрепленную совокупность прав и обязанностей субъекта правоотношения, связанную с осуществление им власти в сфере определенных общественных отношений» [2, с. 121]. Но при этом, как мы уже выяснили, субъектом полномочия может быть не только участник отношений, наделенный властными функциями. Но если же автор рассматривает именно «государственное полномочие», тогда можно согласиться с данным высказыванием. Далее, автор предлагает применять в отношении государственных лиц и органов, имеющих властные функции, термин «предметы ведения», который закреплен в Конституции РФ (ст. 71, 73, 76 и др.). Можно согласиться с предложением автора, необходимо внести изменения в законодательство относительно введения термина «предметы ведения» для лиц и органов, которые имеют властные функции.
А также, для того чтобы избежать двусмысленности в определении понятия «полномочия», необходимо ограничить круг субъектов, которые наделены или могут быть наделены полномочиями.
Такие исследователи как Ю. В. Песковая, О. Ю. Кузнецов, А. С. Таран указывают на то, что помимо вышеуказанных понятий, существует также термин «правосубъектность», который представляет собой способность лица выступать субъектом правоотношений. При этом, О. Ю. Кузнецов рассуждает о правосубъектности переводчика в уголовном процессе, не рассматривая при этом природу термина «правосубъектность» в рамках уголовно-процессуальных правоотношений [6]. Ю. В. Песковая в своей диссертации рассматривает вопрос об уголовно-процессуальной правосубъектности лица, страдающего психическими расстройствами, при этом сформулировав понятие предмета исследования [8, с. 10]. А. С. Таран в своем исследовании, используя историко-сравнительный метод, объединила точки зрения ученых, затрагивая вопрос об актуальности исследования категории «правосубъектность», а также о ее теоретической и практической значимости [9].
А. Б. Диваев в своей работе полно раскрывает сущность категории «уголовно-процессуальная правосубъектность», придя к выводу о том, что это совокупность уголовно-процессуальной дееспособности и уголовно-процессуальной правоспособности, рассматривает в своей работе субъектов, которые имеют уголовно-процессуальную правоспособность и дееспособность, а также дает определения исследуемым категориям, но при этом не дает понятие категории «уголовно-процессуальная правосубъектность», но устанавливая ее границы и устанавливая понятие субъектов уголовно-процессуального права [См.: 4].
Вы вод
Конечно, исследование категории «уголовно-процессуальная правосубъектность» требует дальнейшего исследования, тем более что на сегодняшний день данная категория является актуальной и есть неразрешенные вопросы о сущности этой категории.
Следовательно, мы можем сказать, что категории «полномочия» и «уголовно-процессуальная правосубъектность» применимы в уголовном процессе, отражают разные понятия и подлежат дальнейшему исследованию. Несмотря на то, что в уголовном процессе довольно часто используется понятие «полномочия», нет как такового единообразного определения данной категории, а также необходимо законодательно закрепить круг субъектов, которые могут быть наделены полномочиями. Категория же «правосубъектность» новая, практически не исследованная, но при этом исследование данной категории имеет теоретическую и практическую значимость для уголовно-процессуального права.
Заключение
Таким образом, относительно уголовного процесса, учитывая то положение, которое занимает каждый отдельный участник уголовного процесса, можно сделать вывод о том, имеет ли он властные функции в процессе своей деятельности или не имеет и относительно этого можно определить, может ли он злоупотреблять должностными полномочиями либо он может злоупотреблять правами в уголовном процессе.
Из этого следует, что злоупотреблять должностными полномочиями могут только должностные лица, которые выполняют свои обязанности в соответствии с предоставленными им полномочиями уголовно-процессуальным законом, а это суд, со стороны обвинения: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель.
Из перечня участников уголовного процесса, не имеющих полномочий: подозреваемый, обвиняемый, законные представители, защитник, гражданский ответчик, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители и др. — эти лица не имеют возможности злоупотреблять должностными полномочиями, но при этом они могут злоупотребить правами, которые им предоставляются уголовно-процессуальным законом.
Список литературы Категории "злоупотребление правом" и "злоупотребление должностными полномочиями" в уголовном процессе
- Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. Москва: Юстицинформ, 2015. 640 с.
- Гадельшина Л. И. К вопросу о понятии "государственное полномочие" // Вестник экономики, права и социологии. 2012. № 2. С. 121-124.
- Даровских О. И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. 25 с.
- Диваев А. Б. Злоупотребление правами участников судебного разбирательства уголовных дел в условиях состязательности // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 35-42.
- Додонов В. Н. Большой юридический словарь. Москва: Инфра-М, 2001. 623 с.
- Кузнецов О. Ю. Правосубъектность переводчика в уголовном процессе. // Вестник международного юридического института при Министерстве юстиции РФ. 2005. № 1 (13). С. 47-78.
- Осодоева Н. В. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности // Закон и право. 2020. № 12. С. 149-151.
- Песковая Ю. В. Уголовно-процессуальная правосубъектность лица, страдающего психическим расстройством: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2013. 26 с.
- Таран А. С. Уголовно-процессуальная правосубъектность: постановка проблемы // Юридический вестник Самарского университета. 2017. Т. 3, № 2. С. 87-92.