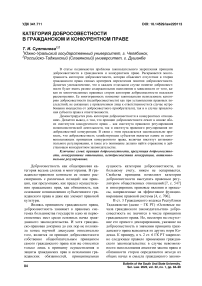Категория добросовестности в гражданском и конкурентном праве
Автор: Султонова Тахмина Истамовна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы гражданского права
Статья в выпуске: 1 т.22, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимаются проблемы законодательного закрепления принципа добросовестности в гражданском и конкурентном праве. Раскрывается многогранность категории добросовестности, которая объясняет отсутствие в теории гражданского права единых критериев определения понятия добросовестности. Делается умозаключение, что в каждом отдельном случае понятие добросовестности будет иметь разное содержательное наполнение в зависимости от того, какая из многочисленных правовых сторон категории добросовестности подлежит рассмотрению. Ее многогранность позволяет законодателю использовать категорию добросовестности (недобросовестности) как при установлении правовых последствий, не связанных с привлечением лица к ответственности (в случае истребования имущества от добросовестного приобретателя), так и в случае привлечения субъекта права к ответственности. Демонстрируется роль категории добросовестности в конкурентных отношениях. Делается вывод, о том, что принцип добросовестности лежит в основе обоих институтов конкурентного права - как института правового регулирования монополистической деятельности, так и института правового регулирования недобросовестной конкуренции. В связи с этим предлагается законодательно признать, что добросовестность хозяйствующих субъектов является одним из основополагающих принципов конкурентного права, включая институт антимонопольного регулирования, и такое его понимание должно найти отражение в действующем конкурентном законодательстве.
Принцип добросовестности, презумпция добросовестности, конкурентные отношения, недобросовестная конкуренция, антимонопольное регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147235816
IDR: 147235816 | УДК: 341.711 | DOI: 10.14529/law220113
Текст научной статьи Категория добросовестности в гражданском и конкурентном праве
Добросовестность как общеправовая категория весьма сложна и многогранна. В гражданско-правовом контексте ее можно рассматривать с различных позиций: как принцип, как презумпцию, как предел осуществления гражданских прав, как обязанность, как основание возникновения субъективного гражданского права и даже как элемент правовой культуры.
Являясь принципом гражданского права, добросовестность занимает в правовых системах большинства государств одно из первостепенных мест среди основных начал гражданского законодательства. И хотя гражданско-правовая доктрина до сих пор не положила конец научной дискуссии относительно того, является ли принцип добросовестности собственно общеобязательным принципом самого гражданского права или же относится только лишь к принципу осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей, принципиальная сущность категории добросовестности, по большому счету, никем не оспаривается. Свойства принципа позволяют категории добросовестности выступать правовым регулятором общественных отношений [7, с. 547] и интегрировать правовые явления и процессы, направленные на эффективное функционирование правовой системы [4, с. 706].
В ст. 3 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее - ГК РТ) «Основные начала гражданского законодательства» добросовестность не значится в числе принципов гражданского права. Но, несмотря на отсутствие его прямого декларирования, указание на добросовестность в значении принципа гражданского права выводится из других норм Кодекса. К примеру, в ч. 2 ст. 6 ГК РТ закреплено следующее правило применения гражданского законодательства: в случае невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законо- дательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. В ст. 616 ГК РТ, определяющей обязанности по предоставлению содержания с иждивением, указывается, что при разрешении возникшего между сторонами спора об объеме содержания суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности. Статья 683 ГК РТ гласит, что арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, если докажет, что издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно улучшению его эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были нарушены принципы добросовестности и разумности.
Именно значение принципа добросовестности лежит в основе многих частноправовых институтов, поскольку идея честности и порядочности действий участников гражданско-правовых отношений проходит красной нитью через весь механизм гражданско-правового регулирования. Как отмечается в юридической литературе, «принцип добросовестности гражданского права заключается в необходимости для его субъектов действовать без намерения причинения вреда другим участникам гражданских правоотношений, не допуская легкомыслия и небрежности по отношению к возможному причинению вреда, а также соотносить свои действия с типичными гражданско-правовыми моделями поведения участников гражданских правоотношений, правами, свободами и законными интересами других лиц, общества и государства» [8, с. 18].
Кроме того, добросовестность, выступая принципом гражданского права, является и гражданско-правовой презумпцией. Выступая в данном случае средством юридической техники, добросовестность определяет внутренний логический механизм действия гражданско-правовых норм следующим образом: обязанность по доказыванию фактических обстоятельств, указывающих на недобросовестность субъекта права, лежит на том лице, которое заявляет о недобросовестности. В ГК РТ алгоритм действия этой презумпции закреплен в ч. 2 п. 4 ст. 10.
В той же ст. 10 ГК РТ (ч. 1 п. 4) добросовестность определяется еще в одном качестве - как один из пределов осуществления граж- данских прав. В данном случае добросовестность выступает некой границей, выход за пределы которой называется злоупотреблением правом, правовым последствием которого может явиться отказ в защите гражданского права в судебном порядке.
Нередко в гражданском законодательстве добросовестность упоминается в значении гражданско-правовой обязанности. К примеру, в силу ч. 3 ст. 54 ГК РТ лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Обеспеченный кредитор обязан добросовестно принимать меры для реализации предмета обеспечения таким образом, чтобы это было выгодно для всех участвующих сторон с учетом реальных условий действительности (ч. 2 ст. 641 ГК РТ).
В определенных случаях добросовестность может являться основанием возникновения субъективного гражданского права. Так, в соответствии со ст. 258 ГК РТ лицо -гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течении пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). В силу ст. 244 ГК РТ, если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое действует добросовестно, осуществило переработку для себя.
И в довершение всему добросовестность является составным элементом правовой культуры. В этом качестве она выполняет функцию некоего «эталона и мерила поведения субъектов права» [5, с. 132] и является ориентиром при осуществлении гражданского судопроизводства. Это позволяет признавать категорию добросовестности своего рода «квинтэссенцией», пронизывающей все гражданско-правовые отношения.
Такая многогранность феномена добросовестности, на наш взгляд, является ответом на вопрос, почему теория гражданского права до сих пор не выработала единых критериев определения понятия добросовестности и не определилась с ее местом в системе гражданско-правового регулирования. Думается, попытки
Проблемы и вопросы гражданского права сделать это будут всегда обречены на провал, потому что нельзя подвести столь многогранное явление, как добросовестность, к каким-то универсальным характеристикам, способным отразить все ее качественные стороны. В каждом отельном случае понятие добросовестности будет иметь разное содержательное наполнение в зависимости от того, какая из многочисленных правовых сторон этого сложного явления подлежит рассмотрению. К примеру, добросовестность-принцип и добросовестность-презумпция – разнопорядковые явления хотя бы по тому основанию, что для презумпции характерен признак опровержимости, а принцип опровергнуть нельзя.
Приведем другой пример. В юридической литературе очень часто возникают дискуссии на предмет возможности проведения параллели между такими категориями, как недобросовестность и виновность (добросовестность и невиновность). Не вдаваясь в подробности этих споров, хочется лишь сказать, что здесь все относительно: чтобы судить о той или иной правовой стороне добросовестности, необходимо оценить контекст. Может, и неправильно с позиции логики судить о добросовестности через призму вины, когда она исследуется в значении принципа. В данном случае вину и добросовестность можно рассматривать как взаимоисключающие явления, потому что добросовестность заканчивается там, где берет начало виновность.
Но если рассматривать добросовестность в значении гражданской обязанности, то, думается, это вполне допустимо, потому что здесь добросовестность (недобросовестность) характеризуют поведение лица в смысле его отношения к своим действиям и их последствиям. В данном случае признание поведения добросовестным (недобросовестным), по сути, означает квалификацию его в качестве правомерного (неправомерного) [1, с. 6]. Поэтому здесь вполне допустимо, что неисполнение обязанности вести себя добросовестно и нарушение запретов на недобросовестные действия указывают на виновность.
В случае оценки действий приобретателя с позиции добросовестности при решении вопроса о виндикации имущества вопрос о проведении параллели между недобросовестностью и виновностью в корне не может стоять, потому что здесь имеет место проявление добросовестности в значении презумпции. Но если недобросовестность в тех или иных от- ношениях принимает обличие обмана и принуждения, то она уже служит критерием определения виновности.
Особенно это наглядно видно в конкурентных отношениях. Предусмотренные Законом Республики Таджикистан «О защите конкуренции» формы недобросовестной конкуренции – это правонарушения, явившиеся следствием нарушения законодательного запрета на недобросовестную конкурентную практику. Здесь недобросовестность облечена в форму обмана, введения в заблуждение и других подобных действий, а поэтому она может служить критерием определения виновности.
Продемонстрированная разнопорядко-вость одного и того же правового явления позволяет законодателю использовать категорию добросовестности (недобросовестности) как при установлении правовых последствий, не связанных с привлечением лица к ответственности (в случае истребования имущества от добросовестного приобретателя), так и в случае привлечения субъекта права к ответственности.
Если же говорить о конкурентных отношениях, то без преувеличения можно сказать, что для сферы конкуренции категория добросовестности имеет особое значение. Для конкурентного права, как ни для какой другой области правового регулирования, присуща идея добросовестного соперничества, так как «конкуренция не сводится к борьбе каждого против каждого» [6, с. 328], а протекает в параллельном направлении, что позволяет называть ее добросовестной конкуренцией. Значительная часть действий хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на конкурентном рынке, их характер и содержание подвержены и обусловлены влиянием норм добропорядочности, разумности и справедливости. Как справедливо подмечает Р. Книпер, «в последние десятилетия принципы защиты доверия и обязанность действовать добросовестно приобрели огромное значение и вытесняют классический принцип, согласно которому каждый вправе осуществлять свои собственные интересы, не считаясь с интересами партнера по рынку, или точнее: не считаясь с конкурентом» [3, с. 39].
Недобросовестное поведение субъектов хозяйствования в сфере конкуренции причиняет вред конкурентам, потребителям, угро- жает стабильности экономического оборота в целом. Именно поэтому в законах о конкуренции практически всех стран, как с романогерманской, так и англосаксонской системами права, выделяется отдельная глава, налагающая запреты на различные проявления недобросовестной конкуренции.
Но выход за пределы добросовестности не ограничивается случаями проявления актов недобросовестной конкуренции. Идея доброй совести наполняет собой также все другие сферы конкурентных отношений. А поэтому за рамками добросовестного поведения будет находиться любое поведение хозяйствующих субъектов, когда оно переходит границы честности и добропорядочности. Например, такие действия хозяйствующих субъектов, как установление монопольных цен, изъятие товара из обращения с целью создания дефицита, навязывание невыгодных условий контрагенту по договору, картельные сговоры – это не формы недобросовестной конкуренции, а проявления монополистической деятельности. Но так же, как и в случае недобросовестной конкуренции, в основе этих действий лежит нечестная конкурентная тактика хозяйствующих субъектов, одни из которых извлекают дополнительную прибыль из своего доминирующего положения, злоупотребляя им, другие компенсируют отсутствие рыночной власти посредством картельных соглашений, действуя как один монополист.
Этим мы хотим сказать, что монополистическая деятельность, хотя и не является актом недобросовестной конкуренции с точки зрения квалификации этого вида антиконкурентного правонарушения, но в любом случае находит свое выражение в подавлении добросовестной конкуренции. А поэтому не только институт правового регулирования недобросовестной конкуренции, но и институт правового регулирования монополистической деятельности, играет важную роль в реализации принципа поддержания добросовестной конкуренции. Другое дело, что категория добросовестности используется этими институтами для решения различных задач: применительно к формам недобросовестной конкуренции она призвана сохранить «качество конкуренции», а применительно к проявлениям монополистической деятельности – «свободу конкуренции».
Предусмотренные антимонопольным за- конодательством административные рычаги воздействия на участников экономических отношений также основаны на принципе добросовестности. Требования добросовестности здесь находят выражение в установлении негативных обязанностей воздержаться от определенных действий, являющихся проявлением действия общего запрета на совершение монополистической деятельности.
На добросовестные начала функционирования монопольных рынков дополнительно указывает также тот факт, что сами проявления злоупотребления доминирующим положением, будучи разновидностью злоупотребления правом, выражают собой недобросовестное осуществление субъективных гражданских прав, противоправный характер которых вытекает из безусловной презумпции разумности, справедливости и добросовестности действий участников гражданских правоотношений.
Опираясь на такие рассуждения, можно сделать вывод, что принцип добросовестности лежит в основе обоих институтов конкурентного права – как института правового регулирования монополистической деятельности, так и института правового регулирования недобросовестной конкуренции. Для всех антиконкурентных правонарушений независимо от видовой принадлежности добросовестность является некой дополнительной границей, в рамках которой хозяйствующий субъект действует «без умысла причинить вред другому лицу, а также не допускает самонадеянности и небрежности к возможному причинению вреда» [2, с. 16].
Из этого следует, что сфера действия принципа добросовестности не должна ограничиваться возможностью применения лишь к составам недобросовестной конкуренции. Его применение необходимо распространить на весь спектр конкурентных отношений, включая институт антимонопольного регулирования. Принцип добросовестности должен регулировать не только случаи недобросовестной конкуренции, но и ситуации, связанные с монополистической деятельностью. Квалификация таких сложных составов правонарушений, как антимонопольные нарушения, равным образом должна исходить из оценки поведения хозяйствующих субъектов, подозреваемых в совершении монополистической деятельности, на предмет их добросовестности.
Однако без специального законодательного закрепления норм о добросовестности все эти рассуждения сводятся всего-навсего к умозрительным заключениям, сделанным на уровне здравого смысла. Этим мы хотим сказать, что только нормативно-правовое закрепление норм о добросовестности, раскрывающих ту или иную качественную сторону этого явления, может обеспечить реализацию того истинного назначения, которое она несет в себе, – благоприятствовать соблюдению всеми участниками экономического оборота конкурентных правил, способствовать формированию комфортной деловой среды и атмосферы доверия на рынке. В противном случае все это «чтение между строк», изложенное выше, само по себе имеет исключительно теоретический характер и не несет нужной специфической правовой нагрузки.
Мы не случайно подняли этот вопрос. Дело в том, что, несмотря на известную значимость категории добросовестности для всех видов конкурентных отношений, Закон Республики Таджикистан «О защите конкуренции» не раскрывает понятие добросовестности. Закрепление принципа добросовестности в нем также отсутствует. Закон отстраняется от решения вопроса о том, какое поведение хозяйствующих субъектов признавать добросовестным. Определение добросовестности можно вывести лишь самостоятельным путем через анализ законодательного положения недобросовестной конкуренции.
Однако такое самостоятельное толкование понятия добросовестности будет всегда носить субъективный характер, потому что правоприменитель в данном случае свободен в вопросе изъяснения истинного смысла закона и может наполнять эту категорию тем содержанием, которое соответствует его собственным представлениям добросовестности.
К тому же недобросовестность, будучи понятием, противоположным добросовестности, используется в законе исключительно для квалификации форм недобросовестной кон- куренции, что не позволяет применить его к другим институтам конкурентного права.
Таким образом, следует признать, что добросовестность хозяйствующих субъектов является одним из основополагающих принципов конкурентного права, включая институт антимонопольного регулирования, и такое его понимание должно найти отражение в действующем конкурентном законодательстве.
Список литературы Категория добросовестности в гражданском и конкурентном праве
- Волков, А. В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом / А. В. Волков // Юрист. - 2013. - № 8. - С. 3-7.
- Емельянов, В. Пределы осуществления гражданских прав / В. Емельянов // Российская юстиция. - 1999. - № 6. - С. 14-16.
- Книпер, Р. Защита добросовестности и легитимного доверия как современный принцип гражданского права / Р. Книпер // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящен. 20-летию Гражданского кодекса Республики Казахстан. - Алматы, 2014. - 592 с.
- Конституционное право и политика: сборник материалов Международной научной конференции / отв. ред. С. А. Авакьян. - М.: Юрист, 2012. - 800 с.
- Курбонов, К. Ш. Добросовестность в гражданских правоотношениях и ее правовой эффект / К. Ш. Курбонов. - СПб.: Питер, 2018. - 340 с.
- Ойкен, В. Основы национальной экономии / В. Ойкен. - М.: Экономика, 1996. - 351 с.
- Сулейменов, М. К. Гражданское право Республики Казахстан: опыт теоретического исследования. Раздел 1. Общие проблемы гражданского права / М. К. Сулейменов. - Алматы, 2016. - Т. 2. - Ч. 2. - 576 с.
- Татарников, А. В. Принципы разумности и добросовестности в гражданском праве России: автореферат дис.... канд. юрид. наук / А. В. Татарников. - М., 2010. - 30 с.