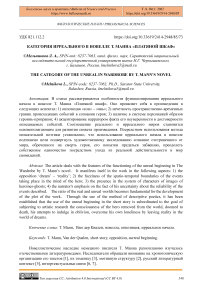Категория ирреального в новелле Т. Манна "Платяной шкаф"
Автор: Мельникова Любовь Александровна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 12 т.8, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности функционирования ирреального начала в новелле Т. Манна «Платяной шкаф». Оно проявляет себя в произведении в следующих аспектах: 1) оппозиция «сон» - «явь»; 2) нечеткость пространственно-временных границ происходящих событий в сознании героя; 3) наличие в системе персонажей образов героинь-призраков; 4) акцентирование нарратором факта его неуверенности в достоверности описываемых событий. Соотношение реального и ирреального миров становится основополагающим для развития сюжета произведения. Посредством использования метода описательной поэтики установлено, что использование ирреального начала в новелле подчинено цели подвергнуть художественному исследованию сознание отстраненного от мира, обреченного на смерть героя, его попытки предаться забвению, преодолеть собственное одиночество посредством ухода из реальной действительности в мир сновидений.
Манн, ван дер квален, новелла, оппозиция, ирреальное начало
Короткий адрес: https://sciup.org/14126050
IDR: 14126050 | УДК: 821.112.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/85/73
Текст научной статьи Категория ирреального в новелле Т. Манна "Платяной шкаф"
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 821.112.2
Новеллистическое наследие немецкого писателя Т. Манна разнопланово изучалось отечественными литературоведами. Исследователи обращали внимание на хронотопическую организацию его текстов [1], их тематику [3], мотивную структуру [2], русский литературный контекст [5], интертекстуальные связи [6, 7].
В настоящей статье наше внимание будет сосредоточено на особенностях функционирования в новелле «Платяной шкаф» ирреального начала.
Категория ирреального в рассматриваемом произведении оказывается тесно связанной с мотивом путешествия, который получает воплощение как в контексте реального географического пространства (персонаж является пассажиром поезда Берлин-Рим), так и в воображении героя, сознание которого балансирует на границе сна и действительности.
Непосредственному описанию внешнего облика Альбрехта ван дер Квалена предшествует репрезентация его психологического портрета. Последний воссоздается посредством использования приема внутреннего монолога. Наблюдая, как на перроне женщина с трудом справляется с тяжелым саквояжем, Альбрехт констатирует: «Бедняжка, милая, <…> Если бы я мог тебе помочь, приютить тебя, успокоить, хотя бы ради твоей верхней губы! Но так уж заведено – каждый живет для себя, и я, не чувствуя сейчас страха, стою вот здесь и наблюдаю за тобой, словно за барахтающимся жучком» [4, с. 105]. Это высказывание показывает, что данному персонажу оказываются присущи высокомерие, сладострастие, эгоизм. Он не способен на бескорыстную помощь другим людям, так как думает прежде всего о своих интересах и собственной выгоде.
Временная отнесенность событий в новелле выражена не четко: «Было то утро или вечер? Ван дер Квален не знал» [4, с. 105]. Расплывчатой временной организации произведения вторит указание на неопределенность возраста героя: «По его лицу едва ли удалось бы определить его возраст: ему могло быть от двадцати пяти до сорока лет» [4, с. 105]. Но несмотря на это, повествователь задает определенные коннотации восприятия данного персонажа.: «Цвет лица у него был желтоватый, а глаза черные и блестящие, как уголь, подведенные синевой. Эти глаза возвещали недоброе <…>» [4, с. 105]. Приведенная цитата демонстрирует, что данный герой наделен в новелле зловещим ореолом, хотя как таковых предосудительных поступков по мере развития действия он не совершает.
Действие новеллы начинается во время сумерек. Герой не знает, ни в каком городе остановился его поезд, ни сколько времени он проспал. Состояние физического сна Ван дер Квалена вторит его стараниям предаться сну духовному: «Разве не казалось ему, что он проспал целые сутки, – а может, и больше, – ничего не слыша и не ведая, крепким, на редкость крепким сном?» [4, с. 105]. Жизненным девизом персонажа является утверждение: «Все должно висеть в воздухе», что обусловлено знанием им того обстоятельства, что из-за болезни ему остается жить несколько месяцев. Этим объясняется его беспечно-отстраненное отношение к жизни, сознание персонажа не стремится к четкой ориентации во времени и пространстве: «Должно быть, теперь осень, - думал он, вглядываясь в сырой и туманный сумрак, окутавший вокзал. – Больше я ничего не знаю! Знаю ли вообще, где нахожусь?» [4, с. 106]. Примечательно, что подобное отношение к земной реальности не вызывает у Ван дер Квалена никакого дискомфорта, а скорее, напротив, усиливает чувство радостной отрешенности. Таким образом, болезнь героя становится ключевым фактором, формирующим его мироотношение, а оппозиция «сон» – «явь» – главным сюжетообразующим началом произведения.
В новелле получает художественную реализацию принцип двоемирия. С одной стороны, реальность, наделенная четкими пространственно-временными координатами, соседствует с реальностью, границы которой определяются лишь предположениями дер Квалена. С другой стороны, земная реальность соотносится с миром снов персонажа. Новелла начинается с описания состояния пробудившегося от сна дер Квалена. Описание его пробуждения после сна в поезде сопровождается комментарием, подчеркивающим нечеткость восприятия последним действительности: «Это состояние подобно пробуждению от забытья или обморока <…> Наши нервы, сразу утратив опору в ритме движения, которому они отдавались, повергнуты в смятение и растерянность» [4, с. 104].
Повествованию о приключениях Квалена в городе предшествует упоминание о том, что герой покинул вагон, будучи сонным. Это подчеркивается соответствующими эпитетами: «осоловелые от сна глаза», «опьяненный сном». Его зрительные и слуховые анализаторы не посылают ему никаких сигналов, когда он видит название станции на табличке и не слышит, когда его произносит кондуктор.
В своих внутренних монологах Ван дер Квален осуществляет попытку самоидентификации. В этом процессе ключевым является осознание персонажем своего одиночества. В своих внутренних монологах ван дер Квален, подобно романтическому герою, противопоставляет себя окружающему миру, в результате возникает оппозиция «Квален» – «толпа»: «А я иду в самой их гуще, и при этом так одинок, как никто на свете. У меня нет ни дел, ни цели. У меня нет даже трости, на которую я мог бы опереться. Нельзя быть более неприкаянным, более свободным и более безучастным, чем я. Никто мне ничем не обязан, и я никому не обязан ничем» [4, с. 107]. Примечательно, что у героя отсутствует как внешняя опора (трость), так и внутренняя (вера в себя).
Воссоздавая образ романтически отстраненного от остального мира персонажа, Т. Манн в то же время не дает в первой части новеллы никаких комментариев об отношении последнего к искусству.
Проявление мистических мотивов в новелле связано с центральным вещественным образом произведения – платяным шкафом. На первый взгляд, он является предметом, относящимся к миру мещан. Однако упоминание о том, что в этом шкафу отсутствует задняя стенка можно рассматривать в качестве указания на то, что он выполняет роль своего рода портала между миром реальным и ирреальным, миром филистеров и миром художников. Филистерский интерьер арендуемого Ван дер Кваленом помещения диссонирует с его мистически-сказочной атмосферой. Это демонстрируется посредством о тех звуках, который там слышит герой, например, ясный, серебристый звон, который он сравнивает с падением «золотого кольца в серебряную чашу» [4, с. 110]. Эту фразу дер Квалена можно рассматривать в качестве аллюзийной отсылки к повести-сказке Э.Т. А. Гофмана «Золотой горшок», в которой появление Серпентины перед Ансельмом также сопровождается чудесными звуками. Именно в платяном шкафу манновский обнаруживает девушку, являющую собой воплощение совершенной женской красоты. Своей внешностью она чем-то схожа с богиней Венерой: «Она была совершенно нагая и одну руку, узкую и нежную, подняла высоко, зацепив указательным пальцем крюк на потолке шкафа. Волны длинных каштановых волос ниспадали на ее детские плечи, дышавшие таким очарованием, что, увидев их, можно было лишь зарыдать. В ее миндалевидных черных глазах искрился огонек свечи. Рот ее, пожалуй, был чересчур велик, но выражения столь сладостного, как уста благодатного сна, что приникают к нашему челу после многотрудного дня. Пятки ее были плотно сомкнуты, и стройные ноги тесно прижаты одна к другой [4, с. 112]. Из содержания истории, рассказанной этой девушкой дер Квалену следует, что она являет собой призрак убитой когда-то возлюбленным девушки. Мотив явления прекрасной девушки присутствует и в творчестве Э.Т.А. Гофмана, например, в новелле «Стихийный дух». В этом контексте особый символизм приобретает семантика названия новеллы Т. Манна. Платяной шкаф можно трактовать как не только как место хранения одежды героя, но средоточие и его тайных помыслов, надежд, мечтаний. В образе девушки-призрака получают художественное воплощение как представления дер Квалена об идеальной женственности, так и утоление потребности в ласке и любви.
При этом нарратор, описывая эту историю произошедшую с дер Кваленом, подчеркивает собственную неуверенность в достоверности этих событий, возникает оппозиция «действительное» - «кажущееся». Возможно, что вся эта история – лишь плод пылкого воображения или сюжет одного из снов центрального героя.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что категория ирреального в новелле Т. Манна «Платяной шкаф» проявляет себя в следующих аспектах: 1) оппозиция «сон» - «явь»; 2) нечеткость пространственно-временных границ происходящих событий в сознании героя; 3) наличие в системе персонажей образов героинь-призраков; 4) акцентирование нарратором факта его неуверенности в достоверности описываемых событий. Ирреальное начало в данном произведении используется для того, чтобы подвергнуть художественному исследованию процесс переживания героем приближения смерти, его попытки забвения и преодоления собственного одиночества посредством ухода от действительности в мир снов.
Список литературы Категория ирреального в новелле Т. Манна "Платяной шкаф"
- Абилова Ф. А. Топос Венеции в новеллах Т. Манна и Д. Дю Морье // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016. № 2 (34). С. 120-127.
- Аверкина С. Н. Мотив увядания в новелле Т. Манна "Обманутая" // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. 2012. №19. С.121-127.
- Мальчуков Л. И. Новелла - роман - новелла (итальянская тема в творчестве братьев Манн 1980-1900 гг.) // Жанр и композиция литературного произведения. Историко-литературные и теоретические исследования. Межвузовский сборник. Петрозаводск, 1989. С. 113-136.
- Манн Т. Платяной шкаф // Собрание сочинений: в 10 т. Т. 7. Рассказы. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 104-113.
- Мельникова Л. А. Традиции Ф. М. Достоевского в новелле Т. Манна "Алчущие" // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14. № 8. С. 2378-2383.
- Никулина Е. И., Цыпкин Э. И. Русская тема в ранней новеллистике Томаса Манна // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2010. № 4-2 (84). С. 244-246.
- Рзаева С. Т. Новелла Томаса Манна "Смерть в Венеции" в интертексте культуры // Научный диалог. 2018. №5. С. 152-163.