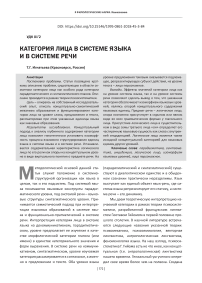Категория лица в системе языка и в системе речи
Автор: Игнатьева Тамара Георгиевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 3 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Статья посвящена краткому описанию проблем, существующих в области семантики категории лица как особого рода категории парадигматического и синтагматического планов. Описание проводится в рамках теории психосистематики. Цель - опираясь на собственный исследовательский опыт, описать концептуально-семантический механизм образования и функционирования категории лица на уровне слова, предложения и текста, рассматиривая при этом указанные единицы языка как знаковые образования. Результаты исследования. Концептуальный подход к анализу глубинного содержания категории лица позволяет гипотетически установить изоморфность процесса языкового структурирования единиц языка в системе языка и в системе речи. Устанавливается содержательная характеристика логического лица по его роли как опоры на концептуальном уровне в виде виртуального понятия о предмете речи. На уровне предложения таковым оказывается подлежащее, репрезентирующее субъект действия, на уровне текста - лицо персонажное. Выводы. Эффекты значений категории лица как на уровне системы языка, так и на уровне системы речи позволяют сделать вывод о том, что указанная категория обеспечивает изоморфизм языковых уровней, являясь опорой концептуального содержания языковых единиц. Предмет речи - логическое лицо, опора постоянно присутствует в скрытом или явном виде во всех грамматических формах у глагольного лица. Присутствие логического лица в существительном в виде семы третьего лица «он» определяет его частиречную языковую сущность как слова с внутренней инциденцией. Логическое лицо является также исходной концептуальной категорией для языковых единиц других уровней.
Парадигматика, синтагматика, инциденция, логическое лицо, изоморфизм языковых уровней, лицо персонажное
Короткий адрес: https://sciup.org/144161723
IDR: 144161723 | УДК: 81.2 | DOI: 10.25146/1995-0861-2018-45-3-84
Текст научной статьи Категория лица в системе языка и в системе речи
DOI:
М етодологической основой данной статьи служит положение о системноструктурной организации как языка в целом, так и его подсистем. Под системой языка понимаются языковые конструкты парадигматического уровня, под системой речи - языковые структуры синтагматического уровня. Принимается семиотический подход при интерпретации языковых образований в системе языка и функционально-прагматический в системе речи. Интерпретация категории лица в системе языка на докоммуникативном, парадигматическом, уровне предполагает ее изучение в качестве морфологической категории глагола (или имени) в единстве категориального значения и форм выражения. В системе речи на коммуникативном, синтагматическом, уровне изучаемая категория рассматривается в синтаксисе, а именно в предложении и тексте. Оба уровня языка
(парадигматический и синтагматический) существуют в диалектическом единстве и в обыденном сознании практически неразделимы. Язык выступает как единый объект язык-речь, где система языка репрезентирует его статику, а система речи – его динамику.
Мы даем теоретическую интерпретацию изучаемой категории в рамках теории психосистематики, разработанной французским лингвистом Гюставом Гийомом в первой половине прошлого столетия. В научной литературе встречаются следующие названия указанной теории: психомеханика, психосемиология, векторная лингвистика, антропологическая лингвистика, феноменология языка. На наш взгляд, психосистематика Г. Гийома есть не что иное, как концептуальная (т.е. антропологическая) лингвистика нашего времени. Гениальный ум ученого опередил свое время более чем на полвека. Создана теория, объясняющая построение и функционирование языка как системы систем, где все взаимосвязано. Мы понимаем трактование термина «психосистематика» как изучение психических (когнитивных) механизмов человека в процессе создания языковых знаковых структур в системе языка и их функционирования в системе речи. В психосистематике создается целостная картина существования и функционирования языка и речи в речевой деятельности. Графически дихотомия язык-речь представлена в виде интеграла, т.е. в виде объеденяющего две стороны символа, а не в виде горизонтальной черты, разъе-деняющей язык и речь, как у Ф. де Соссюра.
В российской науке изучению, развитию, популяризации теории психосистематики посвятила свою деятельность доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Луиза Михайловна Скрелина. Созданная ею научная школа (15 докторов и 56 кандидатов наук), работа научного семинара этой школы в виде 17 двухгодичных конференций, труды самой Луизы Михайловны отражают все многообразие поисков и дискуссий по проблемам антропологической лингвистики. В настоящее время дело Луизы Михайловны Скрелиной продолжает доктор филологических наук, профессор Лидия Анатольевна Становая. Московское крыло школы организует и направляет доктор филологических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Лариса Георгиевна Викулова.
Семантическая сторона категории лица имеет разную трактовку. В лингвистической традиции семантика категории представлена как отношение субъекта действия и говорящего лица и включает три субкатегории: первое лицо указывает на то, что субъект действия совпадает с говорящим, второе лицо соотносит субъект действия с собеседником, третье лицо указывает на то, что субъект действия не включает ни говорящего, ни слушающего. Три лица образуют иерархию по признаку «личности» и «субъективности». Признак «личность» противопоставляет первое и второе лицо третьему, первое и второе лицо всегда соотносятся с одушевленными объектами, третье лицо может указывать на любой объект [Гак, 2000, с. 362]. Точка зрения традиционной грамматики восходит к идеям Э. Бенвениста в рамках его теории высказывания. Лицо мыслится как субъект, участвующий или не участвующий в высказывании. На формальном уровне категориальное значение представлено в парадигме местоимений, где ядром системы являются личные местоимения, а также местоименные прилагательные и глагольные окончания. Дискуссионным остается категориальный статус третьего лица. Одни ученые выводят третье лицо за пределы категории лица, отказывая ему в статусе участника акта коммуникации и на этом основании определяя его как «не лицо» [Бенвенист, 2010]. Другие ученые считают, что третье лицо не может быть выведено за пределы категории лица, что Э. Бенвенист путает отсутствие в акте коммуникации объекта речи, обозначенного формой третьего лица (absence de personne), и отсутствие лица (personne absente). Третье лицо, которое может показаться наименее « личностным» из всех трех лиц, тем не менее не является «не лицом» [Joly, 1987]. Вторая точка зрения опирается на положение Г. Гийома об объектном, или логическом, лице. В рассуждениях присутствует идея эксплицитности и имплицитности в языке. Объектное, или логическое, лицо – это лицо, о котором идет речь. Оно может имплицитно присутствовать как в первом, так и во втором лице, поскольку говорящее лицо может говорить и о самом себе.
Первое лицо – это тот, кто, говоря о себе, становится не только первым говорящим лицом, но и третьим лицом, о котором говорится. Второе лицо содержит в себе в такой же степени, как и первое лицо, идею третьего лица, поскольку третьим лицом, о котором говорится, может стать и «ты». Первое и второе лицо в акте коммуникации имеют двойную референцию: с лицом говорящим (эксплицитная референция) и с лицом, о котором говорится (имплицитная референция). Семантический состав парадигмы личных местоимений описывается следующим образом. Первое лицо – я = первое
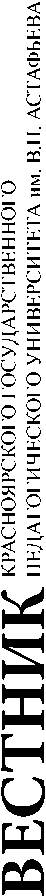
лицо в коммуникации + лицо, о котором идет речь; второе лицо - ты = второе лицо в коммуникации + лицо, о котором идет речь; третье лицо - он = отсутствующее лицо в коммуникации + лицо о котором идет речь. В данном случае под местоимением «он» подразумевается не участник коммуникации, а предмет речи, то, о чем говорят коммуниканты. В парадигме присутствует постоянный элемент и этот элемент, т.е. предмет речи, и есть логическое, объектное, лицо. В акте коммуникации логическое лицо всегда играет пассивную роль и вследствие своей постоянности образует систему грамматических лиц. Л.М. Скрелина говорит по этому поводу следующее: «Первое и второе лицо объединяют в своей семантической структуре понятия субъекта и объекта речи, а третье лицо имеет только последнее, существуя вне референции с реальным лицом коммуникативного акта. Однако “он”, который не говорит и к которому не обращаются в акте речи, постоянно присутствует в семантике первых двух форм, которые по праву называются формами личных местоимений, обозначая действительные лица коммуникации. Постоянство значения лица, о котором идет речь, является фактом, на котором основывается внутренняя экономия системы лица и системы местоимения. Всегда существующее понятие объекта речи, т.е. того, о чем говорится, и есть основа объектного, логического лица [Скрелина, 2009, с. 190].
Двойственный характер категории лица отметил П.А. Флоренский, говоря о том, что «я» трансцедентно, скрыто не только от других, но и от себя самого в собственной своей глубине. «Я» является же «оно» – как «ты» и как «он». Как «ты» оно являет себя лицом, а как «он» – вещью (Флоренский, 1990). Способность лица быть вещью в языке реализуется в наличии категории лица у имени существительного. При этом у имени существительного лицо инвариантно – всегда третье, тогда как у глагола оно и инвариантно (всегда имеет место) и вариантно (бытование реализуется в трех лицах). В психосистематике принято положение о том, что категория лица принадлежит и глаголу, и имени существительному. У глагола данная категория реверсивна, т.е. взаимовозвратна, взаимно обратима в том плане, что она проявляется в имплицитном или эксплицитном присутствии объектного логического лица в порядковых лицах глагола. Другими словами, предмет речи - логическое лицо, опора, постоянно присутствует в скрытом или явном виде во всех грамматических формах глагольного лица. Присутствие логического лица в существительном в виде семы третьего лица определяет его языковую, части-речную сущность как слова с внутренней инциденцией. Инциденция есть механизм соотнесения (совмещения) вклада (в традиционной терминологии семантики - сигнификата), т.е. значения, с опорой (в традиционной терминологии - денотата), т.е. обозначения, внутри слова как знака. Имя существительное имеет внутреннюю инциденцию, т.е. значит то же, что и обозначает. У имени прилагательного инциденция внешняя. Значение есть, а обозначения нет. Обозначение прилагательное «ищет» в существительном, стремится к нему, оно инцидентно существительному. Тот же механизм у глагола: значение действия есть, но обозначение его нужно искать у существительного. Глагол тоже инцедентен имени существительному. У наречия инциденция второй степени. Оно инцедентно существительному через глагол. Таким образом решается проблема иерархии основных частей речи, где на вершине иерархии находится имя существительное. Как указывает Л.М. Скрелина, «понятия логического лица и инциденции, участвуя в описании психомеханизма слов как частей речи, поддерживают разделение слов на две группы: имя существительное и все остальные части речи. Вместе с тем за всеми словами закреплена одна операция: инциденция вклада к опоре, т.е. к логическому лицу. Механизм инциденции и понятие логического лица совершенно четко выявляют изоморфизм слова и предложения по их структуре. Конструирование слова и предложения происходит по одной схеме: референция «вклада» к «опоре», предиката к субъекту, ремы к теме, коммента к топику [Скрелина, 2009, с.196].
В системе речи, на синтагматическом уровне, категория лица реализуется через подлежащее. Подчеркнем еще раз, что под термином «лицо» мы имеем в виду лицо логическое, т.е. предмет коммуникации, то, о чем идет речь. Для того чтобы составить представление о подлежащем как о целостном синтаксическом объекте, имеющем двусторонний модус существования, необходимо рассмотреть его сущность и отношения со сказуемым со стороны содержания.
Свою системную характеристику как слово с внутренней инциденцией существительное сохраняет и в речи, т.е. в предложении, а через предложение и в тексте. Это становится возможным вследствие того, что в существительном, как об этом было сказано выше, в его концептуальной структуре как слове с внутренней инциденцией постоянно присутствует семантический стержень, опора, денотат (образ предмета, с которым совмещается вклад (сигнификат, понятие о предмете). Семантическая опора существительного в предложении выступает в качестве логической опоры предложения его постоянным элементом, логическим лицом, тем, о чем идет речь. Оставаясь словом с внутренней ин-цеденцией, заключая в себе как в языковом знаке значение и обозначение предмета мысли, подлежащее становится логической опорой в предложении, с которой соотносятся другие члены предложения. На уровне членов предложения термины «вклад» и «опора» можно соотнести с такими устоявшимися в науке терминами, как «субъект» и «предикат», но употребление терминов «вклад» и «опора» относит нас к общему семантическому уровню и может объяснить процесс конструирования, порождения единиц языка любого уровня при лингвистическом анализе.
Различие между структурой слова и предложения, рассматриваемых с точки зрения механизма инциденции, состоит в различии последовательности импульсов. У слова последовательность импульсов идет от вклада к опоре. Предложение образуется последовательностью ипульсов от опоры к вкладу. Иной порядок следования импульсов здесь невозможен, посколь- ку опора, или логическое лицо, мыслится как элемент постоянный, соответствующий тому, о чем идет речь, тогда как вклад есть то, что говорится о предмете речи, что определяет предмет речи [Скрелина, 1980, с. 67]. Инцидентная соотнесенность членов предложения носит характер системных операций, повторяющихся каждый раз в ходе порождения каждого конкретного высказывания. Вместе с тем предикативный характер инциденции, вследствие своего программно-алгоритмического характера, может лишать предложение сущностного подлежащего и делать подлежащим какую-либо другую формальную единицу, например местоимение. Семантический механизм инцедентной соотнесенности на уровне членов предложения предстает как движение мысли от семантемы к семантеме и может быть гипотетически представлено в виде виртуальной, концептуальной схемы на уровне системы языка.
Генезис подлежащего включает несколько моментов. Первый – это момент оформления материального субстрата подлежащего, т.е. имени существительного в системе языка. Оформление имени существительного, которым оно выражено, как части речи связывается в психосистематике с идеей пространства. Системы операций, оформляющих генезис имени, называются топогенезом. В этот момент происходит, во-первых, оформление лексического и грамматического значений имени существительного, выполняющего функцию подлежащего, которые связаны между собой отношениями включения. Во-вторых, происходит оформление существительного как слова с внутренней инциденцией. В первый момент имя существительное, служащее материальным субстратом подлежащего, в результате ряда системных операций оформляется как виртуальное понятие в единстве лексического и грамматического означаемого как слово с внутренней инциденцией.
Второй момент - момент перехода существительного из языка в речь, его актуализация. Объем понятия, выраженного именем существительным, в системе языка не определен. В речи этому понятию должен быть сообщен тот
объем, который соответствовал бы содержанию передаваемой мысли в связи с интенцией говорящего: существительное передает либо общую идею о предмете, либо индивидуальное конкретное представление, указание на объем передаваемого понятия осуществляется при помощи актуализаторов, основным из которых во французском языке является артикль.
Следующий момент, третий, мы определяем как момент функционирования лексически значимого, определившегося по грамматической форме актуализованного существительного, занимающего синтаксическую позицию подлежащего в структуре предложения. Третий момент относится к дискурсивному времени, которое понимается как реальное, измеримое время порождения высказывания. В то время как момент один и момент два относятся к оперативному преддискурсивному времени, которое есть реальное, но неизмеримое в силу мгновенности совершаемых в мозгу операций.
Если рассматривать предикативную основу предложения с точки зрения инцидентной соотнесенности ее членов, то становится ясным, почему сказуемое находит опору в подлежащем. По словам Г. Гийома, функция подлежащего соответствует функции с положительной инциденцией, в то время как функция глагола-сказуемого соответствует функции с отрицательной инциденцией, т.е. с инциденцией, которая ищет себе опору [Гийом, 1992]. По своей природе подлежащее представляет из себя опору, а сказуемое – вклад. Механизм инцидентной соотнесенности членов предложения имеет в качестве исходной точки подлежащее, поскольку последнее является опорой, логическим лицом предложения, предметом мысли, с которым соотносится вклад в форме сказуемого, репрезентирующий признак предмета, понимаемого в широком смысле. По существу, механизм инцидентной соотнесенности подлежащего и сказуемого есть механизм их предикативных отношений. Предици-рование признака предмету лежит в основе механизма инциденции на уровне речи. Для того чтобы состоялся акт высказывания, мало вычленить предмет речи, необходимо еще его опре- делить. Такое определение происходит в результате предицирования признака предмету, которое осуществляет сказуемое и которое составляет сущность предикативных функций как сказуемого, так и подлежащего. Лингвисты единодушны в том мнении, что сказуемое выполняет предикативную функцию. Если это так, то подлежащее есть член предложения, вызывающий предикативную функцию. Если бы не требовалось определить подлежащее, то не нужно было бы и сказуемое. Подлежащее способно вызывать предикативную функцию, так как по своей природе это элемент, требующий определения, поскольку означает предмет мысли. В этом плане подлежащее является абсолютным определяемым и как таковое имеет инвариантную форму, независимую от класса сказуемого, и независимую позицию в структуре предложения. На концептуально-семантическом уровне в теории психосистематики проблема иерархии главных членов предложения решается однозначно в пользу подлежащего. Являясь логическим лицом, подлежащее «вызывает» у сказуемого необходимость инцедентного соотнесения спред-метом мысли, что на уровне речи реализуется в процессе синтаксического согласования сказуемого с подлежащим, т.е. в предложенческой категории предикативности.
Высшим уровнем в системе речи является текст. Используя положения теории психосистематики, мы разработали модель структурирования семантики художественного текста. Мы полагаем, что для такой единицы, как текст, логическим лицом, опорой в семантической структуре является лицо персонажное. Употребляя термин «лицо персонажное», наряду с термином «персонаж», мы хотим подчеркнуть лингвистический уровень исследования, поскольку термин «персонаж» традиционно принадлежит литературоведению. Персонаж соответствует понятию предмета речи как того, о чем идет речь. Вкладом, понятием того, что говорится о предмете речи, будет рассматриваться информация о персонаже, заложенная в тексте, которую в обобщенном виде можно рассматривать как признак предмета речи.
Доказательством того, что персонаж можно рассматривать в качестве опоры, логического объектного лица служит тот факт, что персонаж определяет сущностно-бытийный, онтологический характер художественного текста, обеспечивая его когезию, цельность и целостность. Выступая предметом описания, т.е. предметом, о котором идет рачь, персонаж выступает стержнем, который проходит через весь текст и как бы «стягивает» все его части в единое целое. Персонаж обеспечивает целостность текста, выступая в качестве логического лица, опоры текста, потому что он является его смысловой доминантой, он есть то, «что предметно тождественно в разных лексических оформлениях, т.е. смысл. Именно потому, что смысл всегда предметный, его структура (модель) обладает цельностью и наглядностью. Лексические значения, раполо-женные в тексте, образуют не просто “букет” в микротеме текста, но “картину”, про содержание которой можно рассказать по-разному. Это обстоятельство имеет исключительно важное значение при коммуникации» [Жинкин, 1982, с. 81]. Есть еще один довод в пользу утверждения о персонаже как смысловой опоре текста: если произвести замену одного персонажа на другой, текст в смысловом плане «рассыплется».
Речемыслительный механизм порождения текста, как и в других языковых единицах, есть механизм инциденции. Мы полагаем, что по механизму инциденции художественный текст – это знак с внутренней инциденцией, как имя существительное. Он имеет опору (персонажное лицо) и вклад (информацию о персонаже, или признак опоры) внутри себя как знака, в своей семантической структуре. Сошлемся в подтверждение этой идеи на мнение А.А. Потебни, который указывал, что создание слова, процесс речи, понимание происходят по одним законам [Потебня, 1993, с. 79]. Механизм соотнесенности вклада и опоры есть процесс психический, мыслительный, изначально присущий человеку в его отношениях с другими людьми (оппозиция Человек / Человек в психосистематике) и с внешним миром ( оппозиция Универсум / Человек ). На уровне текста данный механизм дей ствует как в системе автора, так и в системе читателя. Для такой сложной лингвистической единицы, как текст, механизм ее образования состоит из множества мыслительных операций (импульсов), предваряющих и сопровождающих ее рождение. Последовательность этих импульсов определена Г. Гийомом следующим образом: возможность мысленного видения - возможность мысленного высказывания – возможность устного или письменного высказывания - действительность речи – результат речи. Алгоритм построения текста в лингвистическом сознании автора и читателя в обобщенно-гипотетическом виде проходит три этапа: in posse – in fieri – in esse. Возможность мысленного видения соответствует этапу in posse, возможность мысленного высказывания и возможность устного и письменного высказывания соответствуют этапу in fieri, действительная речь и результат речи соответствуют этапу in esse. Как указывает С.Д. Кацнельсон, речемыслительный процесс заключает в себе ряд операций, результаты которых не могут быть предсказаны с абсолютной точностью. Структура текстов определяется не только их содержанием и лежащими в сознании порождающего процесс исходными структурами, но и ситуативными условиями речи и некоторыми другими, не поддающимися точному учету фактами, влияющими на стратегию говорящего. Тем не менее общий ход процесса, основные этапы его протекания могут быть определены с достаточной точностью [Кацнельсон, 1972, с. 121].
Этапы структурирования художественного текста в кратком изложении выглядят следующим образом, На первом этапе - in posse - в зависимости от коммуникативной установки и интенций автора происходит образование общего, нерасчлененного представления о текстовой ситуации в ее пространственной и временной сути, которое мы определяем как замысел. По словам М.М. Бахтина, замысел определяет предмет речи и его границы, предметно-смысловую исчерпанность и сочетается с предметом речи как субъективный момент высказывания с объективным в неразрывном единстве, очевидно, и являющегося темой [Бахтин, 1979, с. 256].
На этом этапе в результате ряда системных операций от общего к частному и обратно в когнитивном пространстве автора вычленяется материальный субстрат текста, его логическое лицо, опора как виртуальное понятие о персонаже.
На втором этапе - in fieri - авторское сознание производит анализ текстовой ситуации, ее «разборку» в соответствии с коммуникативными задачами автора. На данном этапе созидающая мысль автора намечает смысловые «вехи» текста в виде отдельных его фрагментов, которые в соответствии с закономерностями его линейной структуры должны образовывать некоторую схему, отражающую порядок следования элементов содержания. Такая схема составляет композицию текста. На наш взгляд, композиционная структура текста представляет собой ментальнолингвистические заготовки текстовой деятельности автора в виде модульной и когниотипич-ной структуры. Каждый фрагмент текста является одновременно модулем и когниотипом. Как модуль он есть частичка текста, которая может «выниматься» из общей структуры текста, заменяться на другую, если изменился замысел автора. Как когниотип он есть фрейм, инвариант, стремящийся к достаточно жесткой схеме.
На третьем этапе - in esse - происходит экспликация мыслительного содержания в реальную текстовую ткань путем воплощения в материальные знаки языка. В ходе актуализации языковые единицы получают тот семантический объем, который соответствует содержанию передаваемой мысли. Осуществляется функционирование лексически значимых, определившихся по грамматической форме актуализован-ных единиц, которые занимают синтаксические позиции в структуре предложения в ходе линейного развертывания текста в форме внешней речи. Последнее обстоятельство необходимо подчеркнуть особо, поскольку порождение текста в системе автора имеет конечным результатом факт внешней речи - текст, произнесенный или записанный на бумаге. Безусловно, поэтапность рождения текста, иерархия этапов носят условный характер и являются лишь способом рассуждения. Вопрос о том, что первично – семантико-концептуальные процессы или языковые – не нашел в науке однозначного ответа. В психосистематике принято положение о том, что операции построения мысли и языка идут вместе. Созидающая мысль имеет остановки «перехваты» самой себя, во время которых она погружается в «контейнер грамматической формы» и актуализируется в речи. Этапы in posse, In fieri, In esse в процессе порождения текста являются остановками, во время которых происходит конструирование конститутивных семантических узлов текста.
В ходе наших рассуждений установлено, что логическим лицом, его опорой в художественном тексте является образ персонажа, формирующийся на первом этапе порождения текста, который реализуется как замысел. В связи с антропологической направленностью современных лингвистических исследований, изучение категории лица получает новый импульс, о чем, в частности, свидетельствует появление термина «лингвоперсонология». Представляется, что интерес ученых к данной категории закономерен, поскольку категория лица объем-лет в себе онтологические обоснования антропоморфизма языка. В языкознании существует длительная традиция изучения лица грамматического. Мы полагаем, что в рамках лингвистики текста (в данном случае речь идет о лингвистике литературного текста) можно говорить о существовании лица художественного, которое составит оппозицию лицу грамматическому на текстовом уровне. В лингвистической науке на сегодняшний день можно считать общепринятыми такие категории, как «время грамматическое» и «время художественное», «пространство грамматическое» и «пространство художественное». На наш взгляд, вполне логично в оппозицию лицу грамматическому ввести категорию лица художественного. Введение данной категории придало бы хронотопной структуре текста «время - пространство» трехчленный вид «время – пространство – лицо», при этом последний член трихотомии должен стоять на первом месте, поскольку только он может «вдохнуть жизнь» в две другие категории и обеспечить абсолютный антропоцентризм художественного текста, который, как известно, является его важнейшей специфической чертой. Мы полагаем, что категория художественного лица включает в себя лицо авторское, лицо персонажное, лицо читательское. Оставляя в стороне первый и третий члены оппозиции в силу их определенной разработанности, мы обращаемся ко второму члену оппозиции – лицу персонажному.
Термин «персонаж» традиционно задействован в литературоведении. Между тем, как справедливо указывают Ж. Дюкро и Ц. Тодоров, «проблема персонажа есть прежде всего проблема лингвистическая, которая не существует помимо слов, поскольку персонаж есть существо рукописное» (Ducrot, Todorov, 1972, с. 286). Мы могли бы добавить, что персонаж есть категория текстовая, поскольку, с одной стороны, выполняет в тексте структурную функцию, осуществляя целостность текста. В качестве предмета описания персонаж выступает стержнем, который проходит через весь текст и как бы «стягивает» все его части в единое целое. Воздействие литературно-художественного текста на читателя осуществляется через персонаж. В силу вышеизложенного употребление введенного нами термина «лицо персонажное» представляется оправданным, так как подчеркивает лингвистическую окраску исследования.
Как показали наши исследования на материале диахронических текстов французского Средневековья, семантическая структура лица персонажного включает в себя три субкатегории: лицо событийное (персонажи первого плана), лицо коллективное (персонажи второго, третьего и т.д. планов), лицо циклическое (персонажи, обладающие циклообразующей функцией, как, например, Карл Великий в Каролингском цикле героического эпоса или король Артур). Для текстов крупных форм эта категория важна. Иногда лицо циклическое может совпадать с лицом событийным, иногда нет. Работая с диахроническими текстами, мы обратили внимание на то, что их композиционная структура имеет две формы, которые мы обозначаем как моноличностную и полиличностную. В монолич-ностных текстах центральной фигурой является один герой, один образ, одна личность. Так, например, очевидна одногеройность героического, животного, аллегорического эпоса. С другой стороны, существуют полиличностные тексты, где центральными героями являются два персонажа. Как правило, это влюбленная пара - «Тристан и Изольда», «Окассен и Николетта» и др. В наших разработках на уровне коммуникативного содержания анализ языкового материала производится на моноличностном тексте куртуазного романа как одного из самых репрезентативных жанров французского Средневековья. В частности, анализируется роман Кретьена де Труа «Рыцарь со львом», где главный персонаж, событийное лицо в нашей терминологии, репрезентирует образ идеального куртуазного рыцаря, явившегося примером для подражания на многие века в литературной культуре Европы. Были изучены способы номинации персонажного событийного лица. Мы руководствовались тезисом о том, что вопрос наименования есть вопрос познания. Н.Д. Арутюнова прямо указывает на то, что квалификация предмета, его познание, проникновение в его суть осознается говорящим как его номинация, и это осознание отложилось в самих способах пользования языком, в самом значении глагола «называть» [Арутюнова, 1977, с. 333, 334]. Формат статьи не позволяет сделать исчерпывающий анализ способов номинации персонажного лица как семантической опоры текста. Собственно, это сделано в нашем монографическом исследовании [Игнатьева, 2013]. Тем не менее, завершая изложение теоретических оснований анализа категории лица, в качестве общего вывода отметим, что терминологически семантический объем данного понятия в современной науке значительно расширился и включает в себя его толкование не только на парадигматическом уровне в системе языка как грамматическую категорию глагола, но и на синтагматическом уровне в системе речи как концептуальное содержание языковых единиц в предложении и тексте, обеспечивая их антропологический характер.
Словари
-
1. Douay C., Rouland D. Vocabulaire thecnique de la psychomécanique du language. Ces mots de Gustave Guillaume. Rennes, 1990. 217 p.
-
2. Dubois J. Dictionnaire de linguistique et des sciences du language. Paris, 1994. 514 p.
-
3. Ducrot O., Todorov T. Dictionnaire encyclo-pédique des sciences du language. Paris, 1972. 470 p.
Список литературы Категория лица в системе языка и в системе речи
- Douay C., Rouland D. Vocabulaire thecnique de la psychomecanique du language. Ces mots de Gustave Guillaume. Rennes, 1990. 217 p.
- Dubois J. Dictionnaire de linguistique et des sciences du language. Paris, 1994. 514 p.
- Ducrot O., Todorov T. Dictionnaire encyclopedique des sciences du language. Paris, 1972. 470 p.
- Арутюнова Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. С. 304-356.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 444 с.