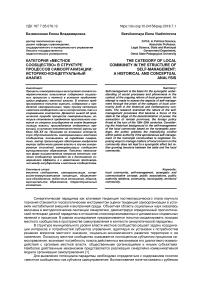Категория "местное сообщество" в структуре процессов самоорганизации: историко-концептуальный анализ
Автор: Безвиконная Елена Владимировна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
Процессы самоорганизации выступают основой синергетического осмысления содержания социальных процессов и явлений в условиях продолжающейся реформы местной власти. В статье предпринимается попытка оценить содержание и проявления самоорганизации через призму категории «местное сообщество» как в историческом, так и в современном контексте. Делается вывод об органической природе процессов самоорганизации, которые становятся предметом пристального внимания со стороны государства на этапе децентрализации власти, присоединения отдаленных провинций, в условиях внешнеполитической угрозы рубежа XIX-XX вв. Принимая во внимание историческую обусловленность самоорганизации местного сообщества, основываясь на парадигме синергетики, автор прогнозирует обострение конфликта внутри публичного уровня власти в случае игнорирования стихийной самоорганизации сообществ муниципального образования. Попытки навязывания форм осуществления вопросов местного значения сообществу приводят не к достижению синергийного эффекта, а к нарастанию противоречий между государством и местным сообществом.
Местное сообщество, самоорганизация, синергийно-коммуникативная концепция, общественные объединения, публичные отношения, община, муниципальное образование, территориальный коллектив
Короткий адрес: https://sciup.org/149132380
IDR: 149132380 | УДК: 167.7:35.076.12 | DOI: 10.24158/pep.2018.7.1
Текст научной статьи Категория "местное сообщество" в структуре процессов самоорганизации: историко-концептуальный анализ
КАТЕГОРИЯ «МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО» В СТРУКТУРЕ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ: ИСТОРИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Синергетическая парадигма как ключевая тенденция постнеклассического этапа научного познания становится гносеологическим инструментом оценки тенденций самоорганизации в условиях нестабильной внешней и внутренней среды. Объектная область социальных наук оказалась включена в методологические сентенции синергетики, демонстрируя определенный прогностический потенциал данной парадигмы в отношении сложноорганизованных и динамичных социальных явлений и процессов. В рамках исследования предпринимается попытка смоделировать позицию местного сообщества в пространстве самоуправления в контексте синергетической парадигмы.
В структуре муниципального уровня власти местное сообщество решает задачу координации интересов и потребностей субъектов управления, адаптируя их установки к потребностям решения вопросов местного значения, социально-экономического развития территории и ее населения. Поскольку местное сообщество оказывается полноценным субъектом процессов самоуправления, возникает потребность поиска действенных механизмов его диалогового взаимодействия с органами местной власти, общественными организациями и иными субъектами. Наиболее действенным механизмом представляется реализация синергийно-коммуникативной модели организации самоуправления [1].
Для выявления потенциала парадигмы необходимо определиться с содержанием понятия «местное сообщество» как субъекта самоуправления. Возникновение понятия связано с рубежом
XIX–XX вв. и стало следствием неспособности имперского государства в условиях присоединения провинций, разнообразия моделей регионального управления, земской реформы сохранять централизованную систему управления государством. Дискуссии представителей общественной мысли традиционно касались источников развития российской государственности, диалога общественной и государственной природы пореформенной России. В частности, представитель теории свободной общины В.Н. Лешков исходил из признания общины в качестве выразителя воли местного сообщества, неспособного осуществлять общественное управление, в связи с чем появляется земство как выражение «принципа общего для общин и обществ, а не мнения отдельных лиц» [2, с. 22], как способ согласования интересов общества и индивидуумов. Несмотря на недооценку потенциала местного сообщества, Лешков определяет его в качестве «творящего субъекта» [3, с. 25], источника «общественного права, или права естественных человеческих обществ созидать и развивать в стране разумные начала для того, чтобы с сохранением личной свободы, постепенно и настойчиво уничтожать причины, рождающие различные действия частных лиц, противные разуму и праву» [4, с. 2].
Отдельные принципы концепции свободной общины применительно к организации городского самоуправления нашли отражение в работах Д.Д. Семенова. Основным началом самоуправления, по его мнению, выступает независимость в управлении местными делами посредством народного представительства [5, с. 103]: «Степень высоты культуры современной жизни выражается не только в развитии начал государственных, а в правильном соотношении этих начал с общественными и личными» [6, с. 213]. Местное сообщество ассоциируется Семеновым с общиной, интегрирующей личные и общественные интересы.
Содержание хозяйственной теории сводится к утверждению, что общество само «ведает своими общественными интересами», а за центральными органами сохраняется управление только государственными делами [7, с. 489]. В то же время самоуправление оценивается в качестве «идеологического элемента», является «выражением свободы в обществе, т. е. свободы сообществ развиваться в соответствии со своими собственными приоритетами» [8, с. 490]. Разграничивая общественные и государственные (политические) полномочия в сфере хозяйственно-экономической деятельности, общественная теория оказывается в неразрешимом противоречии – отсутствие критериев, в соответствии с которыми общественные и государственные интересы могут быть определены, а также неопределенность круга субъектов самоуправления – местное общество, общественные объединения или общинное самоуправление.
Для выхода из этого противоречия представители хозяйственной теории придают органам самоуправления статус особых негосударственных публично-правовых союзов, действующих на определенной территории и обязательных для представителей местного общества. Так, по мнению И.И. Дитятина, наделение самоуправления публично-властными полномочиями становится возможным лишь в условиях бесконтрольной децентрализации власти, которая служит угрозой государственному единству России: «…город является самостоятельной единицей по отношению только к своим общинным чисто местным делам; только в этих делах и интересах он является автономическим лицом, не касаясь интересов частных лиц с их индивидуальной или государственной точки зрения…» [9, с. 101].
Общественная теория впервые пытается осмыслить понятие «местное общество» как ключевой субъект политико-экономических процессов на местах, выразителя общественных интересов. Несомненно, ее представителям сложно было выйти за рамки универсального общинного подхода к толкованию самоуправления, частично поглощающего государственное, поэтому местное общество приобретает особую ценность как носитель общинных интересов, а не как самостоятельный субъект публично-властных отношений.
Полноценное системное обоснование категория «местное сообщество» получила в трудах представителей государственной теории самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст), признающей самоуправление в качестве одной из форм организации местного государственного управления. Задачей самоуправления становилось обеспечение государственных интересов и потребностей: «…самоуправление есть система внутреннего управления, при которой государство передает некоторые из своих задач в руки местного населения…, управлять нельзя иначе как при помощи административных актов, обязательных для всех жителей…» [10, с. 33]. Местное сообщество оценивалось в качестве «бесформенного» социального феномена, неспособного стать основой властной иерархии [11, с. 47–48], занимающего подчиненное положение по отношению к воле государства. Признавая ценность общины для государства, Л. Штейн отводил ей роль «воспитательницы отдельного, единичного, для государственно-гражданской жизни» [12, с. 30]. Именно община должна была подготовить гражданина к свободной, сознательной жизни в государстве, помочь осознать ее единые цели и задачи. Таким образом, подчеркивалась ключевая роль общинной самоорганизации местного общества в процессе политической социализации индивида, проявления его гражданской активности и политического самосознания.
Особое значение в процессе формирования эффективного государственного устройства, по мнению Б.Н. Чичерина, приобретает общественное мнение: «Власть должна находить опору в мыслях и чувствах народа» [13, с. 440]. Как «выражение общественного самосознания» общественное мнение представляет собой «средний» уровень сознания, «высшим» воплощением которого может стать только представительное учреждение. Только в этом случае общественное мнение может стать реальной политической силой и оказывать влияние на политический процесс. Средствами его совершенствования выступают: распространение образования: «…обще-ство малообразованное к политической жизни неспособно» [14, с. 446], развитие политической литературы и журналистики («журнализма»).
Государственная теория самоуправления попыталась достигнуть компромисса между государственными и общественными интересами и потребностями, используя для этого публично-правовой институт местного управления. Преодолевая сложившиеся противоречия, теория лишила местное сообщество – носителя общинного коллективного сознания – статуса субъекта управленческих отношений, сохранив за ним потенциальное право реализовывать свои интересы в рамках представительных учреждений – земств. Самоорганизационные возможности сообщества оценивались в качестве деструктивного источника, противоречащего принципу целостности системы государственного управления Российской империи. В то же время именно местное сообщество, согласно государственной теории, выступало первичной организационной ячейкой формирования властных отношений, своеобразным «подготовительным звеном» в процессе активизации гражданственности российского общества.
В общественно-политической мысли XIX–XX вв. предпринимались отдельные попытки осмысления роли местного сообщества в политическом процессе на уровне самоуправления через призму соотношения местных и государственных интересов, личных, общественных и государственных потребностей. Местное сообщество оценивалось в качестве формы объединения населения определенной территории, носителя общинного патриархального самосознания и потенциального источника гражданской активности (демократизации). Ограниченность самоорга-низационного потенциала российского общества придавала особое значение организационной активности государственной власти, координирующей (направляющей) инициативе местного сообщества посредством институтов представительной демократии (земств).
В Советском государстве идея местных сообществ, предполагающая децентрализацию полномочий органов государственной власти, вступила в противоречие с задачами развития централизованного государства – диктатуры пролетариата. Она вновь приобрела предметные очертания в 1990-х гг. в условиях преобразования системы местной власти, развития принципов народовластия в действующем законодательстве, а также концепции публичной власти в общественных науках. Понятие «местное сообщество» рассматривается в специальных исследованиях в соотношении с такими устоявшимися категориями, как «муниципальное образование», «политическое сообщество» и «территориальный коллектив (общность)» [15].
Введение в научный оборот понятия «муниципальное образование» явилось результатом подготовительного этапа первой реформы местного самоуправления в России в 1995 г. Отсутствие в основном Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ термина «местное сообщество» и его замена понятием «муниципальное образование» были направлены на развитие принципа субсидиарности в отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления [16, с. 104]. По мнению Н.С. Бондаря, «муниципальное образование» не отражает всего разнообразия социальных отношений, характерного для поселенческой общности людей, т. е. местного сообщества, «…поскольку в рамках поселений осуществляются не только функции административного управления, но и прежде всего функции самостоятельного налаживания населением своей жизни…» [17, с. 67].
Вместе с тем процесс законотворчества 1990-х гг. активизировал сторонников дуалистической модели местного самоуправления и даже теории свободной общины. В связи с этим необходимо остановиться на трех проектах закона, представленных на обсуждение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в 1995 г. Так, согласно ст. 5 проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» президента России Б.Н. Ельцина, местное сообщество должно было приобрести статус самостоятельного субъекта политического процесса на местном уровне власти: «Население, проживающее на территории городских… и сельских поселений и иных территорий…, объединенное общими интересами в решении вопросов местного значения (курсив мой. – Е. Б.), образует местное сообщество. Членом местного сообщества является гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории, в границах которой осуществляется местное самоуправление (территория местного сообщества)» [18, с. 170]. Ключевым признаком сообщества, наделенного собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, становится принадлежность к определенной локальной территории. Придавая особое значение местному сообществу и его участию в различных формах непосредственного народовластия, законодатель оценивает самоуправление в качестве средства объединения людей, превращения их в общность, обладающую единством мировоззренческих установок.
Аналогичный подход лег в основу одного из наиболее часто цитируемых проектов закона – проекта депутатов Государственной думы И.В. Муравьева, З.И. Саетгалиева, Л.В. Олейник, М.А. Васильева, Ю.В. Соколова, Е.А. Костерина, В.А. Котляр. Согласно проекту, местное самоуправление оценивается исключительно через призму самостоятельной, инициативной деятельности местного общества по решению вопросов местного значения: «Местное сообщество составляет население, проживающее в городских, сельских поселениях и на других территориях, в границах которых с учетом исторических и иных местных традиций… осуществляется местное самоуправление» [19, ст. 1]. Достаточно общий подход к осмыслению содержания и основных направлений деятельности местного сообщества и его органов дополняется перспективными принципами организации местного самоуправления: поиск местным сообществом и его органами новых форм и направлений деятельности, гласность и учет общественного мнения, сочетание интересов местного сообщества и государственных интересов (ст. 4). Очевидная декларативность данных принципов не лишает их несомненного достоинства – формирования условий для разработки положений концепции публичного управления, составившей концептуальную основу административной реформы в России. В дальнейшем задача осмысления места самоуправления как самостоятельного уровня публичной власти и выразителя местных интересов получит официальное закрепление в Указе Президента РФ «Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в РФ» от 15 октября 1999 г. № 1370 [20].
Но наиболее полемичным представляется совместный проект рабочей группы депутатов Государственной думы (координатор – А.А. Долгополов) и экспертов Межрегионального экспертного совета проблем местного самоуправления (ответственный исполнитель – В.Н. Федотов). Его основу составили принципы Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. (свобода, демократия и социальная эффективность), адаптированные к местным российским условиям: «Высшей целью местного самоуправления в Российской Федерации является обеспечение, соблюдение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина на основе организации самостоятельного решения населением вопросов своей жизнедеятельности, владения, пользования и распоряжения землей и муниципальной собственностью. Одной из основных целей местного самоуправления является возрождение и развитие исторических и культурных традиций и обычаев населения данной территории» [21, ст. 2]. Локальный характер территории, на которой осуществляется самоуправление, ограниченный состав населения – менее 5–15 тыс. человек (ст. 7) дают основание законодателям вводить универсальную категорию «общинное самоуправление» не только применительно к особым административно-территориальным единицам (казачьим общинам), но и ко всем остальным территориям. Представляется, что подобные декларативные проекты никакого отношения к концепции свободной общины или к общественной теории самоуправления не имеют, а являются отражением общеполитической тенденции поиска эффективной концептуальной основы стратегического развития местного самоуправления в России на переходном этапе 1990-х гг.
В дальнейшем эволюция российского законодательства шла в направлении последовательного вытеснения из юридической теории и практики категории «местное сообщество» и ее замены нейтральным по смыслу термином «население». «В проекте реформы местного самоуправления отсутствуют общественные механизмы развития местных сообществ, гражданской инициативы (курсив мой. – Е. Б. ); они подменены формализацией властных функций органов местного самоуправления» [22, с. 67]. При обсуждении очередного проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2003 г. данное понятие оказалось исключено из окончательного текста закона. На протяжении 1996–2003 гг. категория «местное сообщество» регулярно возникала в постановлениях Конституционного суда РФ и региональных нормативных актах в весьма противоречивых интерпретациях, зачастую противоречащих положениям Основного Закона – Конституции [23]. Становится очевидным стремление законодателя разрешить сложившееся противоречие в употреблении понятия посредством отказа от его использования в юридической практике.
Несомненно, местное сообщество обладает отдельными признаками как территориального коллектива, так и муниципального образования, например зависимость от локальной территории, общность населения, совместные коллективные интересы, но вместе с тем оно является самостоятельной социальной группой, включенной в процессы самоорганизации, посредством которых она реализует собственный муниципальный интерес. Местное сообщество с точки зрения современной концепции социального управления есть объединенная территорией постоянного или преимущественного проживания открытая социальная система, способная как субъект управления к самосохранению и развитию, улучшению качества жизни человека как первичного звена системы [24]. Данное определение, на наш взгляд, является наиболее содержательным, позволяя выделить ключевой признак местного сообщества: образование естественным путем, посредством самоорганизации (самовоспроизводства) на основе муниципального интереса (причастности к территории).
В результате с позиции концепции социального управления местное сообщество предстает в качестве первичного элемента социального управления, с одной стороны обеспечивающего формирование гражданского общества, а с другой – придающего целостность системе публичных отношений посредством выработки общественного интереса. Дуалистичный характер местного сообщества не позволяет включать его ни в структуры публичной власти, ни в структуры гражданского общества. Любая инициатива местных сообществ, не опирающаяся на реальные интересы, будет обречена изначально и даже при значительном финансировании просуществует недолго [25, с. 195], поскольку не порождена общественным интересом и потребностями. Поэтому использование исключительно вертикальных каналов политической коммуникации порождает искажение реального содержания общественных потребностей и интересов. Преодоление данного противоречия в отношениях гражданского общества (частью которого является местное сообщество) и политических институтов становится возможным при условии использования механизмов процесса самоорганизации, формой которого выступают гражданские инициативы различных коллективных субъектов политического процесса. Таким образом, становится очевидным, что процесс спонтанной самоорганизации граждан на локальной территории представляет собой зарождение структур местного сообщества.
Включаясь в процесс самоорганизации сообщество способно институционализироваться в различных общественных организациях, объединениях, а также самостоятельно реализовывать собственные муниципальные интересы и потребности через кооперативное взаимодействие с иными субъектами политического процесса (органы публичной власти, политические институты и др.) посредством формальных и неформальных политических коммуникаций. В зависимости от формы зарождения процесса самоорганизации местного сообщества возможно выделить три их вида: институциональная (использование форм непосредственного волеизъявления населения – территориальное общественное самоуправление, товарищество собственников жилья и т. д.), проектная (деятельность фондов развития местного сообщества) и спонтанная (объединения по интересам, протестные движения и объединения). Условия для зарождения гражданского общества закладываются преимущественно в рамках спонтанной и проектной форм самоорганизации, поскольку они предполагают наличие собственной инициативы членов местного сообщества.
Обобщая существующие определения, мы пришли к следующему толкованию понятия «местное сообщество»: естественная форма самоорганизации местного населения, постоянно или временно находящегося на соответствующей территории и пребывающего в постоянных коммуникативных взаимодействиях, обусловленных общими муниципальными интересами . Местное сообщество выступает в качестве субъекта сетевого политического и социального взаимодействия людей, проживающих на одной территории, посредством диалога и социального партнерства [26, с. 9–10].
Неоднородность структуры местного сообщества также определяется его дуалистическим характером. Согласно классификации В.Н. Лазарева, сообщества разделяются на три вида:
-
– сетевые (семейные, родственные, дружеские, товарищеские связи) – отличаются тесными межличностными связями, обеспечивающими социальную и психологическую устойчивость социальных отношений (семейные, молодежные ассоциации);
-
– соседские (территориальные) – основаны на соседских взаимоотношениях (территориальное общественное самоуправление), составляют ядро местного сообщества;
-
– гражданско-ассоциативные (общественные организации, некоммерческие и неформальные организации) – особенностью выступает наличие свободы выбора и добровольности участия в условиях осознания жизненной важности определенных ценностей или проблем [27, с. 136–144].
Устойчивое развитие местного сообщества определяется позитивной совместной деятельностью всех видов локальных сообществ, а также участием населения в решении вопросов местной жизнедеятельности посредством самоорганизации и консолидации муниципальных интересов. При этом определяющим показателем гражданской активности становится способность местного сообщества преодолеть замкнутость внутрисемейных (групповых) связей и выйти на общественный уровень осознания существующих проблем местного значения. Процесс самоорганизации местного сообщества представляет собой сложную систему взаимодействий всех политических субъектов. Самоорганизация местного сообщества есть система организационных воздействий (упорядочения, координации и т. д.), направленных местным сообществом на самого себя с целью обеспечения оптимального функционирования и развития территории муниципального образования. Наиболее очевидным проявлением самоорганизационной активности местного сообщества должно стать территориальное общественное самоуправление как механизм защиты интересов и прав жителей локальной территории.
Самоорганизация прежде всего предполагает осуществление организационного взаимодействия любого из структурных элементов синергийно-коммуникативной модели самоуправления (граждан, общественных организаций, инициативных групп, органов публичной власти, биз-нес-сообщества и др.) на основе кооперативных интересов и договорного характера отношений.
В рамках синергийно-коммуникативной модели самоорганизационный потенциал местного сообщества выступает первичным звеном процесса принятия управленческих решений на местном уровне власти [28, с. 450]. Его отличительным свойством является способность динамично трансформироваться в зависимости от результатов коммуникативного взаимодействия и достижения кооперативного (синергетического) эффекта, т. е. согласования интересов и потребностей всех заинтересованных субъектов. Преобладание формальных коммуникативных связей влечет за собой ограничение самоорганизационного потенциала местного сообщества, ставит его в зависимость от публично-властных институтов, зачастую способствуя «перегрузке» каналов передачи информации из внешней среды.
Процесс самоорганизации прежде всего предполагает осуществление взаимодействия всех элементов коммуникативно-самоорганизационной модели самоуправления (граждан, общественных организаций, инициативных групп граждан, органов публичной власти и др.) на основе кооперативных интересов и потребностей с целью нахождения консенсуса. Отличительным свойством местного сообщества является способность динамично развиваться в зависимости от результатов коммуникативного взаимодействия и достижения кооперативного (синергетического) эффекта, т. е. согласования интересов и потребностей всех заинтересованных субъектов. Преобладание формальных коммуникативных связей влечет за собой ограничение процесса самоорганизации местного сообщества и приводит к установлению его зависимости от публичных институтов, зачастую способствуя «перегрузке» каналов передачи информации из внешней среды.
Устойчивое развитие местного сообщества определяется его политической активностью в процессе решения вопросов местного значения. При этом определяющим показателем гражданской активности становится способность местного сообщества преодолеть замкнутость внутрисемейных (групповых) связей и выйти на общественный уровень осознания существующих проблем местного значения [29]. Процесс самоорганизации местного сообщества представляет собой сложную систему взаимодействий всех субъектов политического процесса (упорядочения, координации и т. д.), направленных сообществом на самого себя с целью обеспечения оптимального функционирования и развития территории муниципального образования. Несмотря на наличие устойчивых предпосылок для складывания местных сообществ на локальных территориях России: наличие проявлений личной активности граждан в общественно-политической жизни, увеличение численности общественных объединений, политическое участие граждан в институционализированных формах волеизъявления, в целом местные сообщества, «…выдвигая из своих рядов наиболее инициативных и инновативных граждан в ряды общественных движений, т. е. будучи средой порождающей, не становятся средой поддерживающей (за редким исключением особых пиков социальной напряженности), но представляют собой скорее среду индифферентную, которая может в определенных условиях оказываться и враждебной» [30, с. 16].
Необходимым условием формирования местного сообщества в условиях доминирования традиционалистских установок становится политика местной власти, направленная на идеологическую поддержку форм его самоорганизации, создание условий для проявлений гражданской инициативы. Перспективным воплощением процесса самоорганизации местного сообщества должны стать общественные объединения как механизм артикуляции, агрегирования и защиты интересов жителей локальной территории.
Ссылки:
-
1. Безвиконная Е.В. Синергийно-коммуникативная модель местного самоуправления: опыт конструирования и анализа // Общественные науки. 2011. № 3. С. 448–456.
-
2. Лешков В.Н. О праве самостоятельности как основе для самоуправления. СПб., 1872. 26 с.
-
3. Там же. С. 25.
-
4. Лешков В.Н. Общественное право народонаселения. СПб., 1875. 18 с.
-
5. Семенов Д.Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты. СПб., 1901. 387 с.
-
6. Там же. С. 213.
-
7. Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 2. СПб., 1901. 596 с.
-
8. Там же. С. 490.
-
9. Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. Т. 1. Введение. Города России в XVIII столетии. СПб., 1875. 508 с. 10. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 3. Органы местного управления. СПб., 1883.
-
11. Там же. С. 47–48.
-
12. Штейн Л. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции, Англии и Германии. СПб., 1874. 578 с.
-
13. Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866. 553 с.
-
14. Там же. С. 446.
-
15. Кот В.С. Политическое сообщество: генезис, развитие на Западе и особенности формирования в современной России : автореф. дис. … д-ра полит. наук. Орел, 2006. 61 с.
-
16. Ароян А.С. Субсидиарность в политическом пространстве России: основные направления эффективного взаимодействия государства, местного самоуправления и гражданского общества : монография. Ростов н/Д., 2010. 167 с.
-
17. Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. Ростов н/Д., 1998. 382 с.
-
18. См.: Шугрина Е.С. Муниципальное право : учеб. пособие. Новосибирск, 1995. 268 с.
-
19. Проект реформы местного самоуправления депутатов Государственной думы И.В. Муравьева, З.И. Саетгалиева, Л.В. Олейник, М.А. Васильева, Ю.В. Соколова, Е.А. Костерина, В.А. Котляр // Российская газета. 1995. 14 янв.
-
20. Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в РФ [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 15 окт. 1999 г. № 1370. Доступ из информ.-правового портала «Гарант».
-
21. Проект реформы местного самоуправления депутатов Государственной думы … С. 208.
-
22. Ковалевский В.Ф. Местное самоуправление в Москве: закон принят // Местное самоуправление в России : сб. ст. / под ред. В.Б. Зотова. М., 2003. 400 с.
-
23. Баженова О.И. О назначении понятия «местное сообщество» при реализации гражданами права на местное самоуправление в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 7. С. 31–35.
-
24. Морозова Л.П. Факторы развития местного сообщества в условиях современной России (на примере местных сообществ Мурманской области) : автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб., 2009. 25 с.
-
25. Макогон Т.И. Местные сообщества и гражданские инициативы // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. № 11 (113). С. 192–198.
-
26. Невеличко Л.Г. Особенности местных сообществ в социальной структуре российского общества : автореф. дис. … канд. социол. наук. Хабаровск, 2012. 21 с.
-
27. Лазарев В.Н. Социальные основы местного самоуправления : монография. Белгород, 2004. 298 с.
-
28. Безвиконная Е.В. Указ. соч. С. 450.
-
29. Гегедюш Н.С. Механизмы содействия развитию институтов гражданского общества в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. Вып. 34. Октябрь. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__34._oktjabr_2012_g./problemi_upravlenija_teorija_i_prak-tika/gegedush.pdf (дата обращения: 20.07.2018).
-
30. Халий И.А. Общественные движения как инновационный потенциал местных сообществ в современной России : автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 2008. 50 с.
Список литературы Категория "местное сообщество" в структуре процессов самоорганизации: историко-концептуальный анализ
- Безвиконная Е.В. Синергийно-коммуникативная модель местного самоуправления: опыт конструирования и анализа // Общественные науки. 2011. № 3. С. 448-456.
- Лешков В.Н. О праве самостоятельности как основе для самоуправления. СПб., 1872. 26 с.
- Лешков В.Н. Общественное право народонаселения. СПб., 1875. 18 с.
- Семенов Д.Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты. СПб., 1901. 387 с.
- Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 2. СПб., 1901. 596 с.
- Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. Т. 1. Введение. Города России в XVIII столетии. СПб., 1875. 508 с.
- Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 3. Органы местного управления. СПб., 1883.
- Штейн Л. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции, Англии и Германии. СПб., 1874. 578 с.
- Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866. 553 с.
- Кот В.С. Политическое сообщество: генезис, развитие на Западе и особенности формирования в современной России: автореф. дис. … д-ра полит. наук. Орел, 2006. 61 с.
- Ароян А.С. Субсидиарность в политическом пространстве России: основные направления эффективного взаимодействия государства, местного самоуправления и гражданского общества: монография. Ростов н/Д., 2010. 167 с.
- Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. Ростов н/Д., 1998. 382 с.
- Шугрина Е.С. Муниципальное право: учеб. пособие. Новосибирск, 1995. 268 с.
- Проект реформы местного самоуправления депутатов Государственной думы И.В. Муравьева, З.И. Саетгалиева, Л.В. Олейник, М.А. Васильева, Ю.В. Соколова, Е.А. Костерина, В.А. Котляр // Российская газета. 1995. 14 янв.
- Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в РФ [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 15 окт. 1999 г. № 1370. Доступ из информ.-правового портала «Гарант».
- Ковалевский В.Ф. Местное самоуправление в Москве: закон принят // Местное самоуправление в России: сб. ст. / под ред. В.Б. Зотова. М., 2003. 400 с.
- Баженова О.И. О назначении понятия «местное сообщество» при реализации гражданами права на местное самоуправление в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 7. С. 31-35.
- Морозова Л.П. Факторы развития местного сообщества в условиях современной России (на примере местных сообществ Мурманской области): автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб., 2009. 25 с.
- Макогон Т.И. Местные сообщества и гражданские инициативы // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. № 11 (113). С. 192-198.
- Невеличко Л.Г. Особенности местных сообществ в социальной структуре российского общества: автореф. дис. … канд. социол. наук. Хабаровск, 2012. 21 с.
- Лазарев В.Н. Социальные основы местного самоуправления: монография. Белгород, 2004. 298 с.
- Гегедюш Н.С. Механизмы содействия развитию институтов гражданского общества в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. Вып. 34. Октябрь. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__34._oktjabr_2012_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/gegedush.pdf (дата обращения: 20.07.2018).
- Халий И.А. Общественные движения как инновационный потенциал местных сообществ в современной России: автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 2008. 50 с.