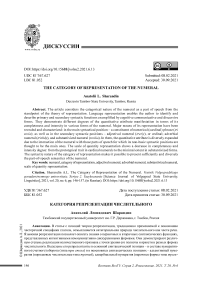Категория репрезентации числительного
Автор: Шарандин Анатолий Леонидович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 6 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций теории репрезентации, традиционно применяемой к пониманию частеречной специфики глагола, осмысливается категориальная природа числительного как части речи. Языковая репрезентация позволяет описать знания о первичных и вторичных синтаксических функциях, представленных когнитивными коммуникативно-дискурсивными формами. Они демонстрируют различную степень реализации количественного признака с точки зрения его полноты и яркости в разных формах числительного. Выделены его репрезентанты в основной синтаксической позиции - в составе нумеративного (счетного) оборота (типа три стола) и в неосновных синтаксических позициях - адъективный нумератив (порядковые числительные типа третий), адвербиальный нумератив (наречные формы типа трижды) и субстантивный нумератив (существительные типа тройка). В них количественный признак оказывается осложненным в результате взаимодействия числительного с теми частями речи, для которых его неосновные синтаксические позиции являются основными. Шкала количественности демонстрирует уменьшение степени полноты и яркости восприятия количественного признака в направлении от прототипического (количественные числительные) до минимального в субстантивных формах. Синтаксический характер категории репрезентации позволяет отразить в большем объеме и разнообразии частеречную семантику числительного.
Числительное, категория репрезентации, адъективный нумератив, адвербиальный нумератив, субстантивный нумератив, шкала количественности
Короткий адрес: https://sciup.org/149139443
IDR: 149139443 | УДК: 81'367.627 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.6.13
Текст научной статьи Категория репрезентации числительного
DOI:
В самом общем виде понятийное содержание слова «репрезентация» осмысливается как представление одного в другом и посредством другого. Естественно, такое толкование в дальнейшем получило в разных сферах научных знаний конкретизацию, чтобы оказаться востребованным в качестве термина и научного определения. В результате мы имеем употребление термина «репрезентация» в философии, психологии, социологии, теории познания, лингвистике и т. д. Например, в общефилософском смысле «репрезентация – это сущность, выступающая в познавательной деятельности человека в качестве заместителя некоторой другой сущности. Это опосредованное, “вторичное” представление идеальных и материальных объектов, их свойств, отношений и процессов» [Энциклопедия эпистемологии...]. В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой понятие репрезентации отражено в дефиниции «репрезентативной функции языка», то есть «функции языка, определяющей речевой акт в его отношении к референту, или предмету мысли» [Ахманова, 1969, с. 508].
В лингвистических работах термин «репрезентация» сочетается с термином «категория». По мнению С.А. Кузнецова, первым, кто обосновал категорию репрезентации (на материале английского глагола), был А.И. Смир-ницкий [Кузнецов]. Согласно А.И. Смирниц-кому, категория репрезентации «есть категория, которая представляет процесс в различных вариациях – как чистый процесс или же как процесс, осложненный другими (предметными или “признаковыми”) моментами»
[Смирницкий, 1959, с. 246–247]. В результате эти «вариации» оказываются представленными в разных формах, которые отразили и тем самым репрезентировали «степень полноты» и «яркости» процесса как глагольного признака. Вместе с тем о представлении процесса в различных глагольных образованиях писал еще А.А. Шахматов: «Часть речи, называемая глаголом, включает в себе не только названия активного признака простые, но также обосложненные теми или иными сопутствующими представлениями» [Шахматов, 1941, с. 460].
Употребление термина «репрезентация» в сочетании с термином «категория» обусловливает восприятие данного сочетания в качестве терминологического, что и позволяет включать его в систему грамматических терминов, связанных с категориальным описанием глагола как части речи. Наиболее полно рассмотрение понятийного содержания термина «категория репрезентации» было представлено в отношении русского глагола в работе Л.Л. Буланина «Структура русского глагола как части речи и его грамматические категории» (1983). Следуя за своими предшественниками, он трактует категорию репрезентации как регулярное категориальное противопоставление личных и неличных форм, основное различие между которыми видит в плане восприятия содержания: с какой степенью полноты и насколько ярко процесс представлен в той или иной глагольной форме именно как процесс [Буланин, 1983]. В сущности, категория репрезентации имеет синтаксическое обоснование, поскольку рассматриваемые глагольные формы были связаны с синтаксической функцией, которую они выполняли в качестве членов предложения. При этом она осмысливается как иерархически организованная система, структура которой определяется степенью и яркостью выражения частеречной семантики в той или иной синтаксической позиции. Кроме того, данная категория характеризуется признаком обязательности и определяет ту или иную часть в целом в системе частей речи.
На наш взгляд, выделение категории репрезентации, которая характеризует глагол в целом, заслуживает внимания и концептуально перспективно. Она позволяет выявить содержательную сущность репрезентантов и увидеть их назначение в коммуникативном процессе. Объединение данных репрезентантов в одну парадигму в этом случае, наряду с парадигмами грамматических категорий, дает возможность использовать ее в качестве характеризующего признака части речи, в качестве категории-параметра и не противопоставлять жестко морфологию и синтаксис, а учитывать их единство в плане грамматической характеристики части речи. Однако, принимая в целом позицию Л.Л. Буланина о выделении данной категории, мы считаем несколько безапелляционным его утверждение о том, что категорией репрезентации вообще обладает только глагол как часть речи [Шарандин, 2017a].
Несомненно, категория репрезентации в качестве характеризующего признака глагола значительно усиливает грамматическую сторону его описания. Она позволяет включить в изучение и определение глагола как части речи не только морфологию, но и синтаксис, представленный разнообразием употреблений в разных синтаксических позициях, причем не только в главных (основных), но и во второстепенных (неосновных) позициях [Шарандин, 2009; 2017б]. Однако согласиться с мнением Л.Л. Буланина о том, что категория репрезентации присуща только русскому глаголу как части речи, представляется не совсем корректным и убедительным. Но при этом критерии ее выделения в глаголе могут быть приняты за основу для выделения и осмысления данной категории в отношении других частей речи .
Результаты и обсуждение
Категория репрезентации рассматривается нами как система когнитивных коммуникативно-дискурсивных форм лексемы . Это структуры словесного типа, которые объединены общностью лексического значения в различных синтаксических позициях в составе высказывания и предстают в них в той или иной морфологической форме. Различия между ними определяются когнитивными и коммуникативными целями говорящего. Это приводит к созданию различных высказываний, в которых лексема эксплицирует разные в плане концептуальной структуры образования, репрезентирующие одно и то же концептуальное (лексическое) содержание [Шарандин, 2017в]. Например, глагол закрывать / закрыть в значении «cдвинуть, задвинуть что-н. для преграждения доступа. З. дверь. З. окно » (Ожегов, с. 180) не только употребляется в основной синтаксической позиции – предиката, но и имеет своих репрезентантов (представителей) в неосновных синтаксических позициях, в которых он представлен особыми формами. Так, в позиции определения глагол закрывать / закрыть оформлен как причастие ( закрывающий , закрытый ), в позиции обстоятельства – как деепричастие ( закрывая , закрыв ), а в позиции подлежащего и дополнения – в качестве девер-батива ( закрывание , закрытие ).
В рамках статьи представлена точка зрения, согласно которой категория репрезентации присуща числительному с количественным значением типа два, пять. Традиционно числительное определяется как именная часть речи (имя числительное) и включает в свой состав слова, которые обозначают количество предметов (три стола, пять столов, десять столов). Это – узкое понимание числительного как части речи (Л.В. Щерба). Все исследователи сходятся во мнении об отражении количественных отношений в семантике числительного, что и позволяет видеть в количественных числительных, выражающих данные отношения, своего рода прототип числительного как части речи. Так, в «Русской грамматике» (1980) мы находим следующее определение: «Имя числительное – это часть речи, обозначающая количество и выражаю- щая это значение в морфологических категориях падежа (последовательно) и рода (непоследовательно)» [Русская грамматика, 1980, с. 573]. Строго говоря, числительными являются слова типа три, пять, два (две), оба (обе).
Не вдаваясь в детальный анализ состава числительного как части речи (подробно см.: [Чеснокова, 1997]), обратим внимание на связь семантики числительного не только с понятием количества, но и числа. Числовое значение указывает на связь со счетной системой, в основе которой – ряд натуральных чисел, обозначающих математическое понятие. Этот ряд представляет собой упорядоченную совокупность чисел, которые находятся в строгой последовательности в счетном ряду ( два , три , четыре , двадцать , двести ), но при этом они могут сочетаться друг с другом, образуя бесконечное количество натуральных чисел ( двадцать три , двести три ). Числовые значения отражают специфику математического мышления, в котором числа не отягощены связью с предметами. Поэтому в математических формулах они оказываются самостоятельными и полноценными членами предложения, обеспечивающими понимание и восприятие содержания этих формул, представленных в языке в виде высказываний, например: К двум прибавить пять – будет семь. Два умножить на пять – будет десять. Такое «поведение» числительных коррелирует с функционированием («поведением») знаменательных слов, являющихся членами предложения и определяющих содержание высказывания. Ср.: Книга лежит на столе .
Однако если числовое значение связано с предметом, то числительное уже имеет не значение числа как математического понятия, а количественное значение, которое характеризует признак предмета ( пять книг , два стола ). В результате происходит утрата числительным самостоятельности в составе высказывания, и числительное включается в состав некоторого количественного (счетного) оборота, или нумеративного словосочетания, который выступает в качестве единого и целостного члена предложения. В этом случае мы имеем другой вид отношений между количественным признаком и предметом – это отношения необходимого информативного восполнения.
Таким образом, числительное в составе математических формул и высказываний может рассматриваться как собственно понятийное слово. Оно отражает специфику математического мышления и является научным понятием. Числительное же с количественным значением отражает уже не математическое, а обыденное, практическое мышление, которое позволяет человеку воспринимать действительность в неразрывной связи количественного признака с предметом. Причем эта связь не пропадает и в том случае, когда предмет не называется в высказывании, но предметная ассоциация (ориентация на предмет) при этом присутствует и подсказывается контекстом, например: « На опушке леса появились солдаты». – «Сколько?» – спросил командир. «Пять», – ответил разведчик. Именно представление в обыденном сознании количественных отношений становится основным и системным для носителей языка, что находит отражение в языковой картине мира. Поэтому, на наш взгляд, состав числительного как части речи русского языка включает в себя слова с количественным значением, которое характеризуется признаком и обусловлено связью с предметами при их счете.
Как и в случае с глаголом, рассмотрим неосновные синтаксические позиции количественных числительных, для которых основной синтаксической позицией является синтаксическая позиция нумеративного оборота (комплекса) в целом. Большинство лингвистов считают, что в синтаксическом плане количественные числительные (но не числовые числительные!) несамостоятельны, поскольку их лексическая семантика – обозначение количества – требует информативного восполнения. Это достигается путем употребления количественных числительных в сочетаниях с существительными, и в результате данные сочетания образуют смысловое единство. Оно реализуется в синтаксически устойчивом образовании (словосочетании), которое выполняет функцию одного члена предложения. При этом атрибутивное согласование числительного с существительным представлено в косвенных формах ( пяти книг , пятью книгами ), тогда как в Им. п. и Вин. п. мы имеем формальное управление ( пять книг , пять девушек ).
Однако такого рода сочетания, на наш взгляд, не являются первичными и не определяются реальным опытом восприятия отношений между предметами и их количеством. Человек воспринимает прежде всего предметы, а затем подвергает их счету с той или иной целью, например: На столе лежали пять книг. Эта фраза представляет собой контаминацию двух мыслительных операций: На столе лежали книги. Книг было пять. Эти пять книг принес сегодня отец. Другими словами, сочетание пять книг, будучи неразложимым в определительном количественноименном сочетании, оказывается разложимым в предметно-предикативном сочетании, в котором числительное выполняет предикативную функцию. Причем именно предикативная функция оказывается первичной. Поэтому, в принципе, числительное представлено количественно-предикативными словами (ср. качественно-предикативные слова в отношении слов типа добрый / быть добрым). Именно это позволяет воспринимать определенное или неопределенное количество как самостоятельный мыслительный признак по отношению к предметам, то есть как актуализированную информацию, востребованную в коммуникации. Однако данная актуализация чаще всего оказывается свернутой в нумера-тивном сочетании (обороте), преобразуясь в определительную функцию. В результате количественно-атрибутивное согласование определяет восприятие количества предметов. Количество не воспринимается в отдельности от предметов, которое оно определяет, а как бы сливается в единое целое с предметом и оказывается своего рода единым предметом (субъектом) или объектом мысли, выступая в качестве одного члена предложения (Пять книг лежали на столе / Я увидел на столе пять книг). В этом мы усматриваем специфику синтаксического употребления количественных числительных. Она в том, что их синтаксическая функция оказывается как бы двойственной – предикативно-определительной. При этом предикативность числительного в количественно-именном сочетании в большей степени имеет скрытый характер, тогда как атрибутивность (определительность) – эксплицитный характер. Однако связь с количественным признаком в предикативной по- зиции всегда существует, что и обеспечивает количественному признаку в нашем сознании самостоятельную концептуализацию. Следовательно, синтаксическая позиция числительного вне счетного (нумеративного) оборота может рассматриваться в качестве вторичной, неосновной позиции.
В этом плане особый интерес вызывают прежде всего образования типа второй , пятый , то есть образования, которые обозначают отношение к порядку предметов при счете ( второй тайм , пятый номер ). Что происходит с числительным, когда оно попадает в позицию определения, присущую относительному прилагательному? Во-первых, слово, выражающее несамостоятельный количественный признак, получает статус самостоятельного члена предложения – согласованного определения. Во-вторых, количественный признак претерпевает концептуальные изменения: он уже связан не с количеством предметов при счете, а с порядком предметов при счете, то есть на первый план выступает семантика отношения, которая присуща относительным прилагательным как части речи. Ср.: Отец купил ребенку пять книг о войне. Четыре книги ребенок прочитал за время каникул, но пятая книга так и осталась непрочитанной. Данные изменения нашли отражение в морфологических характеристиках порядкового числительного. Оно стало изменяться по падежам, родам и числам, то есть так, как изменяется относительное прилагательное. Вот почему в некоторых исследованиях слова, обозначающие порядок предметов при счете, включаются не в состав числительного, а в состав прилагательного.
В связи с этим возникает вопрос об отношениях между количественным числительным (например, пять) и порядковым числительным (пятый соответственно). Являются ли эти отношения однопорядковыми и мы имеем два самостоятельных лексико-грамматических разряда (ЛГР) числительных или же мы имеем особую адъективную форму количественного числительного пять в позиции определения? Оценивая порядковые образования в плане лексической семантики, мы усматриваем их тождественность с количественными числительными. Различия же связаны с грамматикой, обусловленной разными синтак- сическими позициями. Однако в этом случае перед нами не словообразование, а формообразование, представленное синтаксической деривацией (по Е. Куриловичу).
Вопрос же о том, что является показателем формообразования – нулевой формообразующий суффикс или флексия, выполняющая, наряду со словоизменительной, формообразовательную функцию, – спорный. Большинство лингвистов усматривает в этом случае нулевую суффиксацию.
Таким образом, порядковые числительные, будучи образованными от количественных числительных, демонстрируют концептуальные признаки отношения к счету предметов, которое позволяет определить порядковое место предмета. Другими словами, мы имеем результат взаимодействия количественного числительного и относительного прилагательного, когда количественное числительное из своей основной синтаксической позиции – несамостоятельного количественного признака предмета – попадает в основную позицию относительного прилагательного и предстает в ней как самостоятельный количественный признак. Это сопровождается морфологическими изменениями в характеристике количественного числительного, представленного в форме относительного прилагательного, но при этом не происходит разрыва с лексическим значением количественного числительного. Такого рода грамматические изменения в целом позволяют рассматривать порядковые числительные как когнитивные коммуникативно-дискурсивные формы количественного числительного. В концептуальном плане восприятие количества в порядковых числительных осложнено отношением к порядку предметов при счете. В результате значение количества оказывается несколько затушеванным, менее ярким и полным по сравнению с количественным восприятием, выраженным количественными числительными. Именно поэтому на шкале признака «количество» порядковые числительные не являются прототипическими.
Иерархические отношения в системе частей речи позволяют увидеть и взаимодействие числительного с наречием. В этом случае мы имеем восприятие количественного признака по отношению к глагольному призна- ку. Например, в высказывании Он уже трижды говорил об этом образование трижды имеет количественное значение (три раза). В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова трижды определяется как наречие в значении «три раза», правда, при этом приведен пример Трижды три – девять, в котором трижды имеет числовое значение (Ожегов).
Как и в случае с порядковыми числительными, для нас важно, что трижды выполняет самостоятельную синтаксическую функцию – обстоятельственно-определительную (говорил сколько раз или который раз ). С точки зрения денотативного значения три и трижды тождественны, а различия связаны с употреблением в разных синтаксических позициях. Три , употребляясь в нумератив-ном обороте, выполняет определительную функцию по отношению к предмету, с которым числительное сочетается ( Я мог три раза прочитать стих и запомнить его – Мне достаточно было трех прочтений стиха, чтобы запомнить его ), а трижды – обстоятельственную функцию ( Мне достаточно было прочитать трижды стихотворение, чтобы запомнить его ). Следовательно, перед нами формы одного слова, но только не морфологические, а синтаксические, обусловленные различиями в синтаксических позициях, которые связаны с морфологическим оформлением слов, употребленных в ней. Другими словами, синтаксическая позиция, которая является основной для наречий, обусловила неизменяемость наречных форм числительного: утрачивается категория падежа, которая была присуща количественному числительному (да и порядковым числительным).
В концептуальном же плане наречные формы типа трижды позволяют дополнить признаковую семантику, выраженную глаголом-предикатом, количественным обстоятельственным признаком. Поэтому мы вправе видеть в этих образованиях когнитивные коммуникативно-дискурсивные формы количественного числительного.
Таким образом, наряду с порядковыми числительными, которые являются репрезентантами частеречного концепта КОЛИЧЕСТВО, числительное имеет особые формы наречного типа в синтаксической позиции обстоятельства, которое характеризует действие в количественном плане. В результате собственно количественное числительное в своей основной позиции определяет количественный признак по отношению к предмету (объекту), выраженному существительным, образуя с ним нумеративный оборот, а в случае употребления в роли обстоятельства характеризует действие, выражая самостоятельный дополнительный по отношению к предикату признак.
Иерархические отношения в системе частей речи позволяют выделить и субстантивные формы количественного числительного в качестве его когнитивных коммуникативно-дискурсивных форм. Речь идет о таких образованиях, как тройка и тысяча .
Слова тысяча, миллион, миллиард имеют разную трактовку в научной и учебной литературе. Одни лингвисты рассматривают их как числительные (А.А. Шахматов, А.Н. Тихонов), другие считают их существительными (А.А. Зализняк, М.В. Шульга). Некоторые лингвисты стремятся увидеть в них слова, не устоявшиеся в частеречном смысле. Так, по мнению В.В. Виноградова, слово тысяча занимает промежуточное положение между существительным и числительным, но при этом «втягивается в орбиту числительных». Об этом свидетельствует форма Тв. п. тысячью, которая аналогична форме пятью [Виноградов, 1947, с. 293]. Рассмотрение их как существительных связано с тем, что они имеют род (моя тысяча, мой миллион), изменяются по падежам и числам (тысяча – тысячи, к тысяче, к тысячам, о тысяче, о тысячах), то есть склоняются и управляют Род. п. существительных (В.В. Виноградов, А.Е. Супрун, И.Г. Милославский, «Русская грамматика»). Существует и точка зрения, согласно которой слова типа тысяча являются омонимами, представляющими существительные и числительные [Буланин, 1976, с. 87]. Однако, по мнению Л.Д. Чесноковой, «считать эти слова функциональными омонимами вряд ли возможно, так как они не могут выступать в том или ином тексте только как имена существительные без признаков числительных, признаки обеих частей речи в них представлены слитно и всегда сопутствуют один другому, с большей или меньшей актуализацией то одного, то другого. Такое явление для функцио- нальных омонимов не типично» [Чеснокова, 1997, с. 118]. Поэтому Л.Д. Чеснокова определяет их как синкретичные образования, в которых объединены признаки имен числительных и признаки имен существительных (в том или ином их соотношении). Так, в слове тысяча, считает она, признаки числительного более сильны, чем в словах миллион, миллиард [Чеснокова, 1997, с. 118].
Прежде всего целесообразно обратить внимание на то, что в функции числительных данные слова входят в числовой ряд, образуют составные числительные ( триста девять тысяч ), могут употребляться вне сочетаний с существительными, не определяются прилагательными, не имеют форм числа [Чеснокова, 1997, с. 119–110]. Числовое значение позволяет рассматривать их в составе особого структурно-семантического типа слов, отражающих математическое мышление. Употребляется слово тысяча и в количественном значении, образуя нумеративный оборот с существительным ( Тысяча книг лежала на столе ). Употребление же слова тысяча во множественном числе, думается, привносит в высказывание дополнительный смысловой оттенок – неопределенности ( Тысячи книг лежали на столе ). В плане смысловых изменений это в какой-то степени коррелирует с употреблением во мн. ч., в частности, традиционно выделяемых абстрактных существительных типа красота ( Красоты нашего города всегда привлекали внимание туристов ). Такое употребление позволяет исследователям определять существительное красоты как конкретное. Известно, что и вещественные существительные типа мед , употребляясь во множественном числе, получают несколько иное содержательное осмысление: они обозначают уже не столько вещество как таковое, сколько конкретные виды, сорта того или иного вещества ( Продаваемые покупателям меды поражали своим своеобразным вкусом ). Вполне вероятно, что и слово тысяча во мн. ч. претерпевает семантические изменения, утрачивая количественную определенность и приобретая неопределенную количественность.
На наш взгляд, с точки зрения динамической теории частей речи в синкретичности слов типа тысяча можно видеть взаимодей- ствие частей речи, которое позволяет выделять количественные субстантивные формы, однако не имеющие производного характера, то есть тысяча – это субстантивная форма количественного числительного тысяча. Грамматические признаки существительного в этом случае объясняются наличием синтаксических условий, в которые вовлекается числительное, не теряя своей количественной семантики. К ним, в частности, можно отнести употребление числительного тысяча с определениями, например: Он отдал другу последнюю тысячу рублей, который обещал эту тысячу возвратить через месяц. Такая сочетаемость в большей степени присуща словам субстантивной номинативной семантики. Ее особенностью является то, что тысяча имеет родовой признак, который присущ существительным. В принципе, можно видеть и определенную счетность в таких сочетаниях, как пять тысяч (ср. пять столов), которая в большей степени присуща нумера-тивным сочетаниям числительного и существительного. Числительное пять как бы определяет сочетание тысяча столов (пять тысяч столов). Субстантивным характером числительных типа тысяча можно объяснить и возможность их употребления в переносном смысле в составе стилистических фигур (тысяча проблем), поскольку собственно числительные этим свойством не обладают. В случаях переносного употребления актуализируется не количественное, а оценочное значение (Твое решение создало тысячу проблем для коллектива). Употребляясь в виде субстантивной формы, числительные типа тысяча способны образовать производные со значением оценочности (тысчонка, миллиончик, миллионище), что собственно числительным несвойственно.
Таким образом, в употреблениях слов тысяча, миллион, миллиард в субстантивном значении можно видеть, с позиций взаимодействия частей речи, особую субстантивную форму количественного числительного. В результате в них отражается та или иная степень гибридности, позволяющая рассматривать их в качестве особых форм именно числительного, поскольку их количественная семантика оказывается тождественной с их употреблением в синтаксической позиции ко- личественных числительных. Другими словами, тысяча, например, не есть существительное, образовавшееся лексико-семантическим способом, в результате чего возникли бы омонимы, а представляет собой числительное. Субстантивное значение оказывается в этом случае результатом контекстуального употребления количественного числительного, что и позволяет данному образованию иметь гибридный характер: наряду с количественной семантикой как собственно лексической, оно включает субстантивную семантику, которая получает соответствующее грамматическое оформление (наличие грамматического признака рода и изменение по падежам и числам). В лексикографических изданиях представлена одна словарная статья, отражающая количественное определение, но при этом в рамках этой статьи указано употребление в субстантивном значении.
Наиболее ярко, на наш взгляд, межчастеречное взаимодействие числительного и существительного объективировано в русском языке в таких образованиях, как тройка . Традиционно такие образования определяются как существительные с количественной семантикой. Их статус как существительных основывается на грамматических признаках. В частности, они имеют родовую характеристику ( славная тройка лошадей ), изменяются по числам и падежам, то есть склоняются ( тройка – тройки , тройке , о тройке лошадей ). По мнению авторов учебника «Морфология современного русского языка», убедительным аргументом в пользу рассмотрения их в качестве существительных является «способность этих слов вступать в свойственные именам существительным словообразовательные отношения: от них образуются слова с уменьшительно-ласкательным, увеличительным, пренебрежительным и т. п. значениями» ( троечка ) (Морфология..., 2013, с. 320). В этом смысле авторы объединяют их с такими существительными, как тысяча , миллион ( тысчонка , миллионище ). В синтаксическом плане они характеризуются сочетаемостью с определениями ( русская тройка ). Следует заметить, что в случае со словами типа тройка может наблюдаться омонимия, например: тройка (обозначение количества) лошадей и тройка (обозначение оценки) по литературе .
Связь числительных с существительными прослеживается в истории появления и развития числительных (см., например: [Шульга, 2019]). Они формировались в основном на базе слов с предметным значением (В.З. Панфилов, А. Спиркин). В частности, М.В. Шульга связывает изменения в семантике тысяча с комплексным грамматическим процессом, который сопровождается утратой ряда субстантивных признаков, что и привело к переходу существительного тысяча в числительное тысяча [Шульга, 2019]. Думается, в настоящее время именно количественная семантика оказывается первичной в восприятии данного слова.
Что касается слов типа тройка , то они, на наш взгляд, представляют собой субстантивные формы количественных числительных, в частности три . С концептуальной точки зрения их субстантивная форма фокусирует в коммуникации тот ракурс восприятия, когда субстантивность формы обусловливает в какой-то степени менее жесткий характер их сочетаемости с предметными словами, большую степень их расчлененности. Субстантивная форма тройка с количественным значением как бы концентрирует на себе внимание в качестве предмета мысли в высказывании, например: Тройка лошадей поразила внимание присутствующих своей слаженностью в движении. Особенно это было заметно в тройке на поворотах . В отличие от тысячи как субстантивной формы числительного тысяча , субстантивная форма тройка связана с количественным числительным три производностью. Это и позволяет видеть в тройке именно субстантивную форму данного числительного, поскольку их объединяет лексическая тождественность – определенная количественность.
Итак, в концептуальном плане наличие субстантивных форм числительного позволяет в большей степени «дефокусировать» восприятие количества с позиции, требующей информативного восполнения (карета, запряженная тремя лошадьми, была подана к подъезду дворца), на восприятие с позиции самостоятельного предмета мысли (тройка лошадей была подана к подъезду дворца). Сходство образования типа тройка с числительным определено лексической тожде- ственностью, а различия обусловлены синтаксическим позициями. Это и позволяет видеть в словах типа тройка когнитивные коммуникативно-дискурсивные формы количественного числительного, представленные в субстантивных образованиях. Именно этим и объясняется наличие тех грамматических особенностей, которые отмечают исследователи.
Заключение
Таким образом, числительное, как и глагол, способно иметь разные когнитивные коммуникативно-дискурсивные формы, которые образуют категорию его репрезентации. Она демонстрирует шкалу полноты и яркости количественного признака. Наиболее полно и ярко данный признак представлен в нумеративных сочетаниях, в которых он ничем не осложнен и воспринимается как «лучший образец» (прототип) представления в обыденном сознании количества (количественности). В этом случае количество осмысливается как некий постоянный признак, воспринимаемый в единстве с предметом. В языковом сознании данное восприятие выразилось прежде всего в регулярном характере грамматической категории падежа.
В других же случаях количественный признак оказывается в восприятии преломленным и концептуально интерпретируемым в связи с употреблением в неосновных синтаксических позициях, которые накладывают некое «осложнение» на восприятие количества с точки зрения тех частей речи, для которых данные позиции являются основными. Такое взаимодействие числительного с ними оказывается грамматически отмеченным (морфологически и синтаксически). В результате этого взаимодействия можно выделить особые, когнитивные коммуникативно-дискурсивные формы числительного: адъективный нумера-тив, адвербиальный нумератив и субстантивный нумератив.
Адъективный нумератив представлен порядковыми числительными, которые обозначают порядок предметов при счете, то есть они реализуют количественный признак как отношение к счету. Это позволяет им выполнять синтаксическую функцию определения как самостоятельного члена предложения.
Данная позиция позволяет реализовать согласовательные грамматические категории падежа, рода и числа, то есть морфологические характеристики относительного атрибутива (относительного прилагательного).
Адвербиальный нумератив является результатом взаимодействия числительного и наречия, когда употребление в синтаксической позиции обстоятельства позволяло охарактеризовать предикат высказывания в количественном аспекте ( побеждал на соревнованиях трижды ). Данная синтаксическая позиция обусловила неизменяемость количественной формы, то есть в позиции наречия утрачивалась изменяемость числительного по падежам.
Субстантивный нумератив , как и в случае с девербативом и деадъективом, оказывается на периферии в системе числительного. Однако в отличие от них, связанных с утратой модально-временных характеристик, присущих глаголу и качественному предикативу, субстантивный нумератив, являясь результатом взаимодействия количественного числительного с существительным, получает морфологическую поддержку со стороны грамматических категорий падежа и числа и грамматического признака рода. При этом не утрачивается несамостоятельный характер числительного в составе высказывания. Ср. высказывания со словом тройка как субстантивной формой числительного ( Тройка лошадей стояла у дворца ; Хозяин приказал подготовить тройку лошадей ) и как существительным ( Ребенок получил тройку по литературе ). Даже в устойчивом сочетании русская тройка имплицитно содержится лошадей . Лексическая тождественность с количественным числительным удерживает субстантивные образования типа тройка ( тройка лошадей ) в составе числительного. Концептуальная же значимость субстантивного нумератива состоит в том, что он оказывается в качестве фигуры, а не фона восприятия количественности. Ср.: Русская тройка / Тройка лошадей вызвала восхищение у зрителей .
Таким образом, характеризуя числительное как часть речи с учетом категории репрезентации, можно дать следующее его определение. Числительное – это неосновная
(неядерная) часть речи, которая обозначает различные виды количества предметов при счете (определенное, неопределенное, дробное), оформленные падежными формами в составе нумеративного (счетного) оборота (комплетивного словосочетания) в качестве компонента, который находится в отношениях информативного восполнения с определяемым предметом, а нумеративное (счетное) сочетание выступает в роли единого члена предложения (подлежащего или дополнения). Кроме того, количественная семантика числительного в неосновных синтаксических позициях получает репрезентацию в особых, когнитивных коммуникативно-дискурсивных формах – адъективных (порядковые числительные), адвербиальных (наречные числительные) и субстантивных.
В целом же, подводя итоги рассмотрения репрезентации как категории, присущей частям речи, мы считаем, что взгляд Л.Л. Буланина на категорию репрезентации как характеризующую только глагол требует уточнения. Данная категория имеет основания для включения в системное описание и других частей речи. В частности, категориальную репрезентацию имеет качественный предикатив (качественно-предикативные слова). В качестве его репрезентантов, представленных в неосновных синтаксических позициях, выступают качественный атрибутив (полные качественные прилагательные), качественный адвербатив (наречные формы) и качественный деадъектив (субстантивные формы). На шкале качественности, фиксирующей степень ее полноты и яркости, они демонстрируют постепенное «угасание» качественного признака в субстантивных формах (деадъективах). На шкале количественности они показывают уменьшение степени полноты и яркости в восприятии количественного признака в направлении от прототипического (количественные числительные) до минимального его восприятия в субстантивных формах. В целом же синтаксический характер категории репрезентации позволяет представить в большем объеме и разнообразии частеречную семантику по сравнению с тем, когда мы характеризуем часть речи, указывая только основные ее синтаксические позиции.
Список литературы Категория репрезентации числительного
- Ахматова О. С., 1969. Словарь лингвистических терминов. М. : Сов. энцикл. 607 с.
- Буланин Л. Л., 1976. Трудные вопросы морфологии. М. : Просвещение. 207 с.
- Буланин Л. Л., 1983. Структура русского глагола как части речи и его грамматические категории // Спорные вопросы русского языкознания. Теория и практика. Л. : ЛГУ. С. 94-115.
- Виноградов В. В., 1947. Русский язык. М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во. 783 с.
- Кузнецов C. А. О категории репрезентации русского глагола. URL: https://www.wikidocs.ru/ preview/73207.
- Морфология современного русского языка, 2013 / С. И. Богданов, В. Б. Евтюхин, Ю. П. Князев [и др.]. СПб. : Филол. фак. СПбГУ 454 с.
- Немченко В. Н., 1984. Современный русский язык. Словообразование. М. : Высш. шк. 255 с.
- Русская грамматика. В 2 т. Т. 1, 1980. М. : Наука. 783 с.
- Смирницкий А. И., 1959. Морфология английского языка. М. : Изд-во лит. на иностр. яз. 440 с.
- Чеснокова Л. Д., 1997. Имя числительное в современном русском языке. Семантика. Грамматика. Функции. Ростов н/Д : Гефест. 291 с.
- Шарандин А. Л., 2009. Русский глагол: комплексное описание. Тамбов : Изд-во Першина. 586 с.
- Шарандин А. Л., 2017а. Категория репрезентации в трактовке Л.Л. Буланина и в аспекте когнитивно-дискурсивного подхода к описанию русского глагола // Международная научная конференция «Русский глагол» (к 50-летию выхода в свет книги А.В. Бондарко и Л.Л. Буланина) : тез. докл. СПб. : Нестор-История. С. 169-170.
- Шарандин А. Л., 20176. Категория репрезентации русского глагола в аспекте когнитивного коммуникативно-дискурсивного подхода к описанию языка // Проблемы русистики в аспекте современных научных направлений. Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина. С. 49-104.
- Шарандин А. Л., 2017в. Коммуникативно-дискурсивные формы слова как результат процесса познания языка // Когнитивные исследования языка. М. : ИЯ РАН ; Тамбов : ТГУ Вып. 29. С. 496-503.
- Шахматов А. А., 1941. Синтаксис русского языка. Л. : Учпедгиз. 620 с.
- Шульга М. В., 2019. Динамика форм имени числительного в современном русском языке // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 18, № 4. С. 88-104. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu2.2019.4.7.
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки. URL: https://epistemology_of_science.academic.ru.