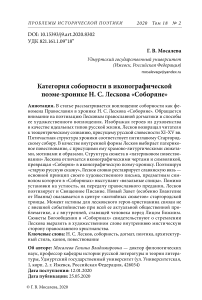Категория соборности в иконографической поэме-хронике Н. С. Лескова "Соборяне"
Автор: Мосалева Галина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается воплощение соборности как феномена Православия в хронике Н. С. Лескова «Соборяне». Обращается внимание на поэтизацию Лесковым православной догматики и способы ее художественного воплощения. Изображая героев из духовенства в качестве идеальных типов русской жизни, Лесков возвращал читателя к теоцентрическому сознанию, присущему русской словесности XI-XV вв. Пятичастная структура хроники соответствует пятиглавому Старгородскому собору. В качестве внутренней формы Лесков выбирает патериковое повествование, с присущими ему храмово-литургическими сюжетами, мотивами и образами. Структура сюжета в «патериковом повествовании» Лескова отличается иконографическими чертами и символикой, превращая «Соборян» в иконографическую поэму-хронику. Поэтизируя «старую русскую сказку», Лесков словно реставрирует славянскую вязь - основной принцип своего художественного письма, предметным символом которого в «Соборянах» выступают «вязальные спицы». Помимо установки на устность, на передачу православного предания, Лесков поэтизирует и Священное Писание. Новый Завет (особенно Евангелие от Иоанна) оказывается в центре «житийных сюжетов» старгородской троицы. Момент истины для лесковского героя-христианина связан не с внешней событийностью при всей ее актуальной общественной проблематике, а с внутренней, ставящей человека перед Лицом Божиим. Сюжеты Богообщения в «Соборянах» свидетельствуют о стремлении Лескова выразить в художественном слове внутреннюю мистическую сторону православного христианства.
Н. с. лесков, соборность, догмат, поэтика, архитектурный стиль, канон, повествование
Короткий адрес: https://sciup.org/147227194
IDR: 147227194 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8302
Текст научной статьи Категория соборности в иконографической поэме-хронике Н. С. Лескова "Соборяне"
Соборность и старгородская троица: поэтизация догмата
Т ретья, ставшая в итоге канонической, редакция лесковской хроники под заглавием «Соборяне» появилась в журнале «Русский вестник» в 1872 г. Выбор Н. С. Лесковым именно этого заглавия указывает на его феноменальную чуткость в отношении православной догматики.
Соборность как «согласие во Христе и в Духе» [Флоров-ский: 276] является символом Православия. А. С. Хомяков в своих трудах отстаивает идею неразрывной связи Церкви и соборности:
«Церковь называется единою, святою, соборною (кафолическою и Вселенскою) и апостольскою ; потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности; потому что ею святятся все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или одна страна; потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей земле признающих ее; потому, наконец, что в Писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви». [Хомяков: 6].
По мысли Г. Флоровского, А. С. Хомяков посредством немецкого богослова И. А. Мёлера смог обобщить понимание соборности на основании святоотеческих свидетельств [Фло-ровский: 279].
Соборность, по Хомякову, «не есть человеческая, а Божественная характеристика Церкви» [Флоровский: 277]. Среди отцов Церкви, кто любомудрствовал об этом явлении, Фло-ровский называет Иринея, Тертуллиана, Оригена, Блаженного Августина [Флоровский: 278].
В филологическую науку соборность как особую категорию понимания русской литературы с ее ярко выраженным православным типом духовности ввел И. А. Есаулов, обозначив во «Введении» к монографии «Категория соборности в русской литературе» рецепцию восприятия феномена соборности в русской религиозной философии от А. Хомякова, И. Киреевского, Г. Флоровского до Б. Вышеславцева и С. Хоружего [Есаулов, 1995: 3–27].
В этой работе И. А. Есаулов включился в разработку «новой концепции русской литературы » (курсив мой. — Г. М. ), связанной с «доминантным для отечественной культуры типом христианской духовности» [Есаулов, 1995: 3], и предложил категории (Закон и Благодать, соборность, христоцентризм), необходимые для научно состоятельного разговора о специфике русской словесности, ее онто- и культурогенезе, глубинных, метафизически значимых уровнях текста, наконец, об адекватном ей методе исследования. В последующих монографиях И. А. Есаулова «Пасхальность русской словесности» [Есаулов, 2004] и «Русская классика: новое понимание» [Есаулов, 2012] терминологический аппарат отечественного литературоведения был обогащен новыми категориями и понятиями, специфичными для православного типа духовности: пасхаль-ность, юродство, икона как визуальная доминанта. Собственно, И. А. Есаулову удалось соединить «разрывы традиции», произошедшие в катастрофическом двадцатом веке, традиции, связанной с осознанием главенства ее религиозных истоков.
«Где историческое предание порвано, там идеалы теряют свою жизненность, тускнеют в сознании и совести», — писал в предисловии к сочинениям Хомякова его единомышленник [Cамарин: VII].
О прерывании традиции русской духовной культуры вследствие утраты связи с наследием Хомякова в свое время напоминал философ XX в. Н. А. Бердяев, развивая мысль о том, что «без традиции невозможна никакая национальная культура», так как она соединяет в себе национальные и религиозные начала, и что она на самом деле «не есть застой и инерция», а путь к Совершенству, Красоте, она «динамична», «зовет к творчеству», и на каждом витке культуры требует не повторения пройденного, а динамики развития [Бердяев].
Русский гений, по Бердяеву, связан с религиозным сознанием: «Нерелигиозная мысль у нас всегда не оригинальна, плоска, заимствована, не с ней связаны самые яркие наши таланты, не в ней нужно искать русского гения» [Бердяев].
«Два принципа культуры, — они же предельные символы догматики», как говорит П. Флоренский в отношении Троицы и Воплощения, «сплетают ткань русской культуры»: «…если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать, и, следовательно, невозможно само понятие культуры» [Флоренский: 495].
В процессе секуляризации русской культуры религиозное сознание никогда не исчезало из русского художественного слова. Однако влияние церковного деятеля как созидательного субъекта истории в русской литературе неуклонно уменьшалось с конца XVII в. Он, пользуясь терминологией Ломоносова, был низвергнут из высшего стиля в низший, в так называемую «демократическую сатиру», где по законам жанра подвергся осмеянию и маргинализации. К «сочинителю», отвратившемуся от «русского попа», обращен вопль души Туберозова:
«Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями <…>? Или же ты с своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей…»1.
Великая заслуга Лескова состоит в том, что, пожалуй, впервые в светской литературе Нового времени он вывел из «тени» лица духовного сословия и представил их как идеальный тип в их иконописной красоте и значимости. Об «идеальности» лесковских героев из духовенства замечательно высказывались Ю. Н. Говоруха-Отрок [Говоруха-Отрок: 76–78] и Б. К. Зайцев [Зайцев: 280]. Выступая подчас критиком земной церкви, Лесков остается на протяжении всего своего творческого пути ревнителем православия. Наряду с предшествовавшими ему Г. Р. Державиным, В. А. Жуковским, Н. В. Гоголем и его современником Ф. М. Достоевским, Н. С. Лесков является выдающимся религиозным художником.
В «Соборянах» Лесков поэтически воплощает идею Божественной Любви во Христе, восходящую к догмату Троицы. Не ради же воспроизведения исключительно церковного быта Лесков создавал свою хронику! Как об этом подчас заявлялось и в дореволюционной, и в советской критике, ограничивающей понимание классика только сферой «церковного бытописательства». Лесков размышлял о высоких материях, о возможности вернуть в русскую жизнь идеал святости и единства в Боге. Слова Е. Н. Трубецкого в отношении основной темы древнерусской иконописи можно вполне отнести и к произведению Лескова: «Преодоление ненавистного разделения мира, преображение вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как объединены во едином Божеском Существе три Лица Св. Троицы…» [Трубецкой: 20–21].
С первых страниц «Соборян» на читателей смотрят «лики» «старгородской троицы»: протопоп Савелий — пастырь добрый, исповедник и ревностный служитель Церкви; иерей Захария — символ смирения и кротости; дьякон Ахилла — образ богатыря из малороссийских казаков, воплощение русского сердца и неуемной жизненной силы. Все трое представляют собой разные типы религиозной личности, каждый из них неповторим, но вместе с тем «старгородская троица» воплощает собой идею единства многообразия во Христе. Эти лесковские герои сродни князю Мышкину Достоевского, воспроизводящему почерк игумена Пафнутия — «человека святой жизни» XIV в. Для рукописной традиции этого времени характерен устав — торжественное письмо, которому свойственно теоцентрическое сознание [Ужанков: 107]. И Лесков, и Достоевский своими героями возвращали теоцентрический канон русской словесности с периферии в центр, указывая на них как на последователей Христа и Его Слова.
Эти лесковские герои являются воплощением идеи единства трех ипостасей, идеи любви. Старый Город Лескова, освящаемый пребыванием в нем неотмирных героев, предстает как символ святой Руси. Героев, «удерживающих» в себе Святую Русь, Лесков поставил лицом к лицу с ее ниспровергателями. Любовь самого Лескова к старой русской сказке (не как жанру, а как рассказу, повествованию, подобному самой жизни) красноречива. Собственно, в значении сказки у Лескова выступает сказание, являющееся синонимом православного предания. Творчество Лескова и есть художественное отражение православного предания. Выводя своих героев в центр повествования словно в средник иконы, он неизбежно должен был искать для их изображения соответствующую жанровую и повествовательную форму. Лесков увидел ее в патериковом повествовании, связав его с жанром хроники, и «нашел» (создал) соответствующий «патерику» «древний» язык. Это нельзя назвать стилизацией, поскольку обращение Лескова к церковнославянскому языку органично и последовательно, без иронической дистанции между героями и автором.
Б. К. Зайцев затруднялся с определением жанра в случае с «Соборянами»: «…не то поэма, не то поэтическая хроника, не то несколько монументальных фресок» [Зайцев: 280]. Он видел в «Соборянах» соединение поэтичности и визуальной изобразительности, обусловленные, на наш взгляд, природой литургического слова.
Стиль Лескова оказывается подобен возрождающемуся в архитектуре во второй половине XIX в. русско-византийскому стилю , характеризующемуся, с одной стороны, устремлением к византизму и, с другой стороны, к национальным традициям. В лесковском повествовании в полной мере встречаются эти свойства, и они суть не свойства эклектики, но синтетизма. Архитектура «словесных храмин» Лескова отличается именно усложненностью и синтетичностью, допуская при основном стиле существование и других. «Идеализированную Византию» видели в лесковской хронике и некоторые из его современников [Фаресов: 90].
Сама хроника Лескова предстает как текст-собор, как по-вествование-экфрасис [Мосалева, 2019: 106]. Пятиглавому купольному Старгородскому собору соответствует, на наш взгляд, пятичастная структура «Соборян» — ее композиционный каркас.
Связь жития и иконы в творчестве Лескова рассмотрена основательно [Лепахин], [Видмарович, 2009a, 2009b]. Среди жанров церковной словесности, в той или иной степени преломляющихся в «Соборянах» (хроника, апокриф, легенда), особую роль играет агиография .
Главным героем-идеологом своеобразного «Старгородского патерика» является протопоп Савелий Туберозов. Основой жития отца Савелия выступает, по сути, его Автобиография, записанная им в «Демикотоновую книгу-календарь» — подарок владыки Гавриила в день рукоположения Савелия во иерея [Мосалева, 1993: 37]. Автобиография начинается не с момента его физического, а, что важно, духовного рождения: с начала его миссии как священника Русской православной церкви.
Первая запись сделана Туберозовым в день его рукоположения, 4 февраля 1831 г., — это дата рождения Николая Семеновича Лескова, искусного мастера литературных мистификаций! В Туберозове Лесков стремился воплотить свое alter ego, манифестировать собственные взгляды на общество, Церковь, государство, на проблемы человеческой души. Дневник Туберозова охватывает целую эпоху: 1830–1860-е гг., тогда как основное время повествования в хронике — лето одного года. По форме «Соборяне» представляют собой матрешечную структуру , «книгу в книге» [Мосалева, 1999: 224], в которой соперничают два автора — подлинный и вымышленный. Помимо «двойного авторства», в «Соборянах» изображаются и два образа России: собственно Россия и Русь.
В «Демикотоновую книгу» Туберозов включает наброски своих проповедей . В качестве образцов церковного красноречия Туберозов в «Демикотоновой книге» называет известных церковных проповедников и просветителей XVII в.: «…в церкви минули дни Могилы, Ростовского Димитрия и других светил светлых…» (80).
Возникает вопрос, почему именно этих деятелей Туберозов берет себе за образец? Ведь, к примеру, Г. Флоровский относил их к числу тех, кто тяготел к западной книжной учености. В большей степени это относится к Петру Могиле, но касается и св. Дмитрия Ростовского. Деятельность Петра Могилы Фло-ровский оценивает как «латинскую псевдоморфозу Православия», приходя к выводу об опасности для Православия этой «внутренней интоксикации религиозным латинизмом» даже в большей степени, чем сама Уния [Флоровский: 49]. С именем Могилы и «киевских профессоров и школяров XVII века» Флоровский связывает «возрожденную схоластику контрреформационной эпохи» и барокко как явления «упадочной и нетворческой эпохи» [Флоровский: 52]. Вместе с тем Могила борется с униатами, отстаивая позиции Православия. То, что он «находил в них (латинских книгах. — Г. М.), он и принимал за православие, как древнее предание» [Флоровский: 45]. В этом смысле Могила был близок Лескову, ориентирующемуся на «древность». Что касается Дмитрия Ростовского, то Флоровский, относя большую часть деятельности Святителя Дмитрия, наряду со Стефаном Яворским, уже к «истории “великорусского” богословия» [Флоровский: 55], тем не менее отмечает, что и «Жития святых», и проповеди Дмитрия Ростовского составлены главным образом тоже «по западным источникам» [Флоровский: 54].
В самом деле, почему Туберозов не называет среди более близких к нему по времени просветителей: Паисия Величков-ского, Тихона Задонского, Филарета Московского, Игнатия Брянчанинова? Последнего из этого ряда Лесков выведет в «Инженерах-бессребрениках» (1887) как образ праведника. Все они подлинные «светила светлые». Возможно, в этом выборе обнаруживаются личные пристрастия Лескова к древ-лепечатной книге, воспоминания о киевском периоде жизни, ее университетской атмосфере.
В книге сына писателя приводится эпизод, как раз связанный с приобретением Лесковым за большую сумму «Требника» Петра Могилы в Петербурге, доказывающий особую приверженность Лескова к этому духовному просветителю:
«Был случай, когда при далеко не устойчивом еще материальном положении, стало Лескову “мануться купить” у книгопродавца А. Ф. Базунова, в старом здании Пассажа на Невском, “Большой требник Петра Могилы, великого чина, с царским и патриаршим судом и полными заклинательными молитвами”. <…> Заплатил он А. Ф. Базунову “сто тридцать рублей и с величайшей радостью повез мое сокровище домой”» [Лесков: 436].
Собирал Лесков и «редкости житийные» [Лесков: 437]. В 1882 г. в журнале «Новое время» была опубликована его статья «Жития как литературный источник» [Лесков: 437]. Помимо интереса к агиографии, в Дмитрии Ростовском Лесков обрел «Православия ревнителю и раскола искоренителю» — так воспевается святитель в тропаре. Туберозов, посланный на проповедь к старообрядцам, не случайно видит для себя в «златословесном учителе» Дмитрии Ростовском пример для подражания и нравственную опору.
В основе сюжета хроники лежат «три проповеди» отца Савелия, в которых он предстает «вдохновенным христианским поэтом-проповедником» [Лебедев: 227]. О двух из них Савелий Туберозов рассказывает в своей «Демикотоновой книге» в первой части «Соборян». О последней, послужившей «началом конца» опального протопопа, сообщается в финале третьей части хроники. С проповедями Туберозова напрямую связано развитие сюжета.
Первая проповедь знаменует собой начало священнического служения отца Савелия. Темой для проповеди он избирает притчу о сыновьях вертоградаря из Евангелия от Матфея. Савелий Туберозов проповедует не отвлеченно, а конкретно, обличая «чиноначалия и власти». Правящий архиерей одобряет первую проповедь Туберозова, но не без тонкого юмора в своем отеческом слове советует «опасаться» начинающему проповеднику «прямого отношения к жизни», «особливо же насчет чиновников, ибо от них-де чем дальше, тем и освя-щеннее» (68).
Однако Савелий Туберозов не прислушивается к совету архиерея и от проповеди к проповеди еще больше усиливает «прямое отношение к жизни».
Вторую проповедь отец Савелий произносит на Преображение Господне, ставя пастве в пример Константина Пизон-ского, старого и нищего человека, взявшего на воспитание сына обольщенной и брошенной солдатом дурочки Насти.
Чиновным фарисеям Лесков часто противопоставляет «единого от малых», самого убогого и осмеянного всеми, но сохранившего в себе Христа. Это очень лесковская тема! Любовь ко Христу в душах осмеянных и презираемых миром безумцев, бедных, честных, кротких, бессловесных, но не утративших подлинное душевное благородство и христианское достоинство.
У части богомольцев речь Туберозова вызывает умиление: «…на мою руку <…> пала не одна слеза» (74), другие же, «пустые и вздорные», обиделись и написали донос. В результате церковные власти обязывают Туберозова отправлять тексты своих проповедей цензору Троадию. Проповедовать из-под неволи Туберозов отказывается. Слово, по его мысли, должно падать «из уст, как угль горящий» (80). Категория умиления, примененная по отношению к Достоевскому [Захаров], повсеместно обнаруживает себя и в случае с Лесковым, особенно когда речь идет о его блаженных героях.
Третья проповедь символизирует исповеднический подвиг протопопа, его готовность идти за Христом до конца, поскольку он осознает последствия своего «живого слова», «прямо» относящегося к жизни. В Дневнике (ч. 3, гл. 21) отец Савелий записывает целую Программу своей будущей проповеди , в которую входят стихи из Псалтири, Ветхого Завета и Евангелия. Мотив Божественного суда и правды , трижды прозвучавший в поучении, Савелий берет из первой строки 71 псалма «Боже, суд Твой Цареви даждь, и правду Твою сыну Цареву» (Пс. 71:1). В своей соборной проповеди Туберозов обращается к чиновничеству, специально приглашенному им на литургию для увещевания и обличения в нем кривосудства, фарисейства, утраты забот о благе родины, небрежения о молитве, торговле совестью.
Однако проповедь Туберозова восстанавливает против него и «чужих» и «своих»: обе стороны воспринимают слово протопопа как «революцию» и доносят на него. «Глухая борьба, затеянная протопопом» [Сементковский: 48], заканчивается арестом Туберозова и отстранением его от службы.
Слова Туберозова, сказанные жене перед его отъездом в губернский город: «Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается “житие”» (256), приобретают символический смысл. Хроникально-романный сюжет трансформируется в житийный.
Славянская вязь Лескова
Текст «Соборян», помимо жития отца Савелия, включает в себя и другие житийные истории. Это своеобразный «Стар-городский патерик», в состав которого входят жития Ахиллы, Захария, Марфы Андревны, Николая Афанасьевича, Пизон-ского и верной спутницы Туберозова — Натальи.
Умилительная старая русская сказка , рассказанная в «Соборянах», уподобляется русско-византийскому стилю в архитектуре.
Храмовой структуре «Соборян» соответствует лесковское слово, ассоциирующееся со славянской вязью . «Человек живет словами» [Фаресов: 272], — говорил Лесков, придавая огромное значение литературному мастерству «в дни литературного упадка и базарничества» [Фаресов: 281]. Лесков сравнивал свои работы с выкладыванием мозаики, с художеством [Фаресов: 276]. Биограф Лескова приводит любопытное для нашего понимания русской классики в аспекте храмовой поэтики высказывание М. Меньшикова о языке писателя:
«Как некогда венецианцы, делая набеги на Восток, отовсюду привозили что-нибудь для своего собора св. Марка: то коринфскую колонну, то медных львов из Пирея, то обелиск из Египта, то фриз из афинского акрополя, и как они вводя постепенно все эти драгоценности в состав здания, построили фактический, странный, бесстильный, почти бесформенный собор и в то же время своеобразный и красивый, так и Лесков в постройке своего языка: он обобрал, кажется, все сокровищницы и кладовые русской речи» [Фаресов: 283–284].
Это высказывание дает основание сблизить не только Старгородский собор как пространственный символ хроники с ее сюжетной структурой, с текстом-повествованием, выступающим как собор, но и с лесковским языком-собором, словно воплощающим его внутреннее убранство.
Символами старой русской сказки выступают вязальные спицы в доме помещицы Плодомасовой. «Ничтожная сказочка про <…> вязальные старухины спицы» (180) успокаивает Туберозова, приходящего в раздражение от «новой действительности». Вязальные спицы олицетворяют мир устойчивости, тишины и повторяемости.
Вязальные спицы и само вязанье свидетельствуют об универсальности образа старой сказки , вбирающей в себя красоту всего мира. Николай Афанасьевич вспоминает, что когда-то он вязал лучше своей сестрицы: «даже бродери англез выплетал» (162). «Нитяные чулки» его работы отправляют сыну Плодомасовой, служившему в гвардии, в Петербурге.
В связи со старой русской сказкой Туберозов вспоминает еще об одном образе — деревянной церковки, вместо которой в его родном селе «выводят стройный каменный храм». Протопоп Савелий не против чудного и светлого храма, в котором будет тепло молящимся внукам, не против внешней красоты и прогресса, но он понимает, что русский дух обильно проявляется «в скудости»:
«Я вспомнил эту старуху, и стало таково и бодро и приятно, и это бережи моей отрадная награда. Живите, государи мои, люди русские в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость! Для вас вот эти прутики старушек ударяют монотонно; но для меня с них каплет сладких сказаний источник!..» (180).
Лесковское повествование — тоже своего рода «вязанье» , вязь, орнаментальное письмо, пришедшее на Русь из Византии в XI в., получившее на русской почве дальнейшее развитие и сохранявшееся, кстати, вплоть до XIX в. в старообрядческой среде. Древнерусская вязь — историческое кружево кирилло-мефодиевской традиции, связывающее прошлое и настоящее. «Вязанье», «вязь», «кружево» — основные символы лесковского письма воплощают идею соборности как единого во Христе иерархически прекрасно устроенного мира. « Вязное письмо » непосредственно соотносится с церковнославянским языком как сакральным. Ориентируясь на вязь как стиль, вовлекая в свой текст стихию сакрального языка, Лесков «вывязывал» с помощью слов-«петелек» и священный канон, орнамент-кружево, сохраняя преемственность и нерушимость православного предания в передаче сакрального слова.
Поэтизация Священного Писания: Феномен святой заутрени
Храмовая композиция хроники содержательно усиливается литургическими сюжетами и мотивами , поэтикой церковных служб и праздников, где Евангелию отводится главная роль.
В свете Евангелия проходит жизнь самого протопопа Савелия, о чем свидетельствует его Дневник. В «Соборянах» Лескова встречаются цитаты из всех четырех Евангелий, но самым цитируемым является Евангелие от Иоанна. Завершение в седьмой — девятой главах последней части хроники житийного сюжета о. Савелия, воплощающего идею посмертного воскресения, осуществляется в свете Евангелия от
Иоанна и представляет собой реализацию «пасхального архетипа» [Есаулов, 2004].
В течение трех ночей по смерти своего пастыря Ахилла проводит без сна, читая по усопшему Евангелие от Иоанна. Чтение Евангелия убеждает Ахиллу, что его старец воскрес. Он разговаривает с ним, как с живым, приподнимая парчовый воздух, засматривает в лицо мертвеца, прикасается к нему, просит о ниспослании духа от старца: «Покинь мне, малоумному, духа твоего!» (305). Ахиллу чудится, что Савелий поднялся и сел «с закрытым парчою лицом и с Евангелием» (305). Смутившись, дьякон Ахилла приветствует его возгласом литургии, подаваемым после чтения Евангелия: «Мир ти!» (305). Поскольку книга была закрыта, Ахилла открывает ее произвольно, пытаясь отыскать стих, на котором остановился, но вместо него читает: «В мире бе, и мир его не позна…» (306). При вторичной бессознательной (он не знает «что ищет») попытке Ахилле открывается еще один евангельский стих: «И возрят нань его же прободоша» (306), символически воплощающий вместе с первым стихом сюжет Савелия Туберо-зова — не понятого миром пастыря.
Отыскивая « потерянную » страницу из Евангелия, Ахилла и вовсе оказывается в ирреальном мире: «восхúщен» в пространство пасхальной заутрени , где он видит Савелия «в ярко освященном храме, за престолом, в светлой праздничной ризе и в высокой фиолетовой камилавке», читающего «круглым полным голосом», «выпуская как шар каждое слово» строки из самого начала Евангелия от Иоанна о божественном источнике Слова: «В начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово» (306). Это зачало читается вслед за пасхальной заутреней, на пасхальной литургии. Эпитет «круглый» и сравнение слова с «шаром» создают образ универсума, рождающегося по слову Господа. Не случайно Ахилла не спрашивает, но восклицает: «Что это, Господи!» (306).
Провидческий сон о воскресении любимого старца Ахилла воспринимает как явь («мне даже наяву видения снятся» — 306), как осуществленный пир веры :
«А мне казалось, что умер отец Савелий. Я проспал пир веры!.. я пропустил святую заутреню » (курсив мой. — Г.М. ) (396).
В связи с пространством «заутрени» нельзя не вспомнить метафору С. Н. Дурылина, увидевшего во всем творчестве Лескова «легенду русского Богохранительства, тихую заутреню русской веры» [Дурылин].
Хроника изобилует и ветхозаветными образами и мотивами . На трости Савелия красуется надпись « Жезл Ааронов расцвел » (56), связанная с библейской историей о первосвященнике Аароне, жезл которого, когда он воткнул его в землю, расцвел, а цветы превратились в плоды миндаля. Так Господь утвердил первенство потомков Аарона среди израильского народа (458).
Описание тростей для духовенства представляет собой повествование- экфрасис :
«…посредине набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково вырезано окруженное сиянием всевидящее око; а вокруг ока краткая, в виде узорчатой каймы, вязная (курсив мой. — Г. М .) надпись» (56).
Разнообразие и обилие цитат из Священного Писания и жанров церковной словесности вместе создают особый лесковский стиль , характерный для древнерусской словесности, где чем больше цитат из Священного Писания, тем древнее текст.
Литургическому времени-вечности подчиняется все повествование «Соборян». На внутреннюю литургичность хроники указывают цитаты, связанные с различными жанрами литургической поэзии, церковной гимнографии, обеспечивающие музыкальность и особую ритмику лесковскому слову.
«Голубиные мотивы» как символ соборности
«Бездетность» Савелия и Натальи — едва выносимая семейная скорбь героев-праведников. Не раз «в слезах» они вместе молятся о даровании им детей:
«В тихой грусти, двое бездетные, сели мы за чай, но был то не чай, а слезы наши растворялись нам в питие, и незаметно для себя мы заплакали, и оборучь пали мы ниц перед образом Спаса и много и жарко молились Ему об утехе Израилевой. Наташа после открылась, что она как бы слышала некое обетование чрез ангела, и я хотя понимал, что это плод ее доброй фантазии, но оба мы стали радостны, как дети» (75).
«Бездетные» Савелий и Наталья «радостны, как дети». Вообще, все герои старгородской поповки уподобляются «евангельскому ребенку» : любящему, кроткому, правдивому.
« Бездетность » семьи протопопа символична: в мире фарисейства и лжи дело о. Савелия продолжить некому. Герои-праведники Лескова — «горячие молитвенники», в молитве которых проявляется их сокровенное общение с Богом. Ту-берозов восхищается молитвой сеятеля Пизонского, просящего у Бога урожая для всех: и достойных, и недостойных:
«Боже! устрой, и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного» (73).
Туберозов «не встречал такой молитвы в печатной книге», но она «ужасно трогает»: «…старик садил на долю вора и за него молился!». Молитва Пизонского вызывает в душе Тубе-розова умиление: «О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!» (73).
Умиление у Туберозова вызывают и душевные движения Натальи Николаевны: «…где, кроме святой Руси, подобные жены быть могут?» (73). Это риторическое вопрошание Тубе-розова вызвано предложением Натальи Николаевны отыскать «незаконное дитя» Савелия как возможную причину их бездетности: «Мало что она его хочет отыскивать, она его уже любит и жалеет, как неоперенного голубенка!» (73). Савелий называет свою жену «голубкой» .
Один из значимых «голубиных мотивов» звучит в девятнадцатой главе третьей части, в сцене грозы, повалившей «громадный дуб» и в то же время способствующей началу новой жизни:
«…на межу, звонко скрипя крыльями, спустилася пара степных голубей. Голубка разостлала по земле крылышко, черкнула по нем красненькою лапкой и, поставив его парусом кверху, закрылась от дружки. Голубь надул зоб, поклонился ей в землю и заговорил ей печально “умру”. Эти поклоны заключаются поцелуями, и крылышки трепетно бьются в густой бахроме мелкой полыни. Жизнь началась» (251).
В этом «голубином мотиве» Лесков воплощает одну из главных мыслей хроники: подлинная жизнь и в природе, и в обществе возникает на началах любви и единства. «Голубь» является символическим воплощением третьей ипостаси — Святаго Духа. «Троичные мотивы» в хронике связаны с идеей соборности, а «голубиный мотив» знаменует собой идею уподобления семьи Туберозова этой паре голубей. Тем самым развитие сюжета в лесковской хронике определяют иконографические образы.
На протяжении всего повествования Лесков изображает борьбу героя-исповедника с внешними силами зла. Однако в его финале эта борьба переносится из внешней сферы во внутреннюю: не борьба идеальных героев с внешними силами зла, а с «ветхим человеком» в себе, одоление собственных немощей и страстей позволяет героям возрасти и преобразиться для Вечности.
Из пространства человеческого общения и споров Лесков переносит своих героев (и читателей) в пространство подлинного Богообщения. Наряду с Достоевским, Лесков оказывается наследником религиозного мистика Гоголя, указавшего читателю на непостижимую глубину внутренней стороны православного христианства в русской художественной литературе.
Список литературы Категория соборности в иконографической поэме-хронике Н. С. Лескова "Соборяне"
- Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. — М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2007 [Электронный ресурс]. — URL: https://royallib.com/ book/berdyaev_nikolay/aleksey_stepanovich_homyakov.html (12.09.19).
- Видмарович Н. П. Визуальность текста в сочинениях Н. С. Лескова // Видмарович Н. П. Язык агиографии: текст и контекст. — М.: МПА-Пресс, 2009. — С. 119-148. (a)
- Видмарович Н. П. «Художество нисхождения» // Теория Традиции: христианство и русская словесность. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. — С. 186-201. (b)
- Говоруха-Отрок Ю. Н. Лесков и его критики. По поводу статьи г. Скабичевского «Чем отличается направление в искусстве от партийности» // Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели? Литературная критика и религиозно-философская публицистика: в 2 т. — СПб.: Росток, 2012. — Т. 2. — С. 68-80.
- Дурылин С. Н. Николай Семенович Лесков. Опыт характеристики личности и религиозного творчества [Электронный ресурс]. — URL: http:// www.mirfilologa.ru/sergei-durilin/7-main/91-durylin-sn-nikolaj-semenovich-leskov-opyt-kharakteristiki-lichnosti-i-religioznogo-tvorchestva (12.09.19).
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. — Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1995. — 288 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. — М.: Круг, 2004. — 560 с.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. — СПб.: Алетейя, 2012. — 448 с.
- Зайцев Б. К. Н. С. Лесков (К столетию рождения, заметки) // Зайцев Б. К. Отблески Вечного. Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. А. М. Любомудрова. — СПб.: Росток, 2018. — С. 276-284.
- Захаров В. Н. Умиление как категория поэтики Достоевского // Теория Традиции: христианство и русская словесность. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. — С. 163-185.
- Лебедев Ю. В. Творчество Н. С. Лескова // Лебедев Ю. В. Судьбы России в творческом наследии И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, Н. С. Лескова. — Орел: Издательский Дом «Орловская литература и книгоиздательство и К», 2007. — С. 197-259.
- Лепахин В. В. Икона в русской художественной литературе. — М.: Отчий дом, 2002. — 736 с.
- Лесков А. Жизнь Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. — Тула: Приок. книж. изд-во, 1981. — 647 с.
- Мосалева Г. В. Поэтика Н. С. Лескова. — Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1993. — 108 с.
- Мосалева Г. В. Особенности повествования от Пушкина к Лескову. — Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 1999; Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. — 272 с.
- Мосалева Г. В. Изографы русской словесности: А. Н. Островский, Н. С. Лесков, И. С. Шмелев. — Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. — 196 с.
- Самарин Ю. Предисловие // Хомяков А. С. Полн. собр. соч. — М.: В Университетской типографии (М. Катков), 1886. — Т. 2. — С. I-XXXVII.
- Сементковский Р. И. Николай Семенович Лесков. Критико-биографи-ческий очерк // Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: в 12 т. — 3-е изд. — СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. — Т. 1. — С. 5-66.
- Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках // Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. — М.: Лепта-Пресс, 2003. — 320 с.
- Ужанков А. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. — М.: Изд-во Литературного ин-та им. А. М. Горького, 2011. — 511 с.
- Фаресов А. Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. — СПб.: Тип. М. Меркушева, 1904. — 409 с.
- Флоренский П. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Флоренский П. Христианство и культура. — М.: Фолио, 2001. — С. 491-493.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. — Париж: Вильтис, 1937. — 599 с.
- Хомяков А. С. Опыт катехизического изложения о Церкви // Хомяков А. С. Полн. собр. соч. — М.: В Университетской типографии (М. Катков), 1886. — Т. 2. — С. 1-26.