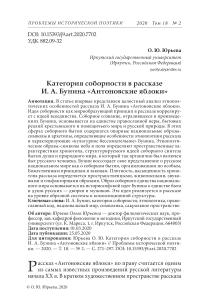Категория соборности в рассказе И. А. Бунина "Антоновские яблоки"
Автор: Юрьева Ольга Юрьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые представлен целостный анализ этнопоэтических особенностей рассказа И. А. Бунина «Антоновские яблоки». Идея соборности как мирообразующий принцип в рассказе коррелирует с идеей всеединства. Соборное сознание, отразившееся в произведениях Бунина, основывается на единстве православной веры, бытовых реалий крестьянского и помещичьего мира и русской природы. В этих сферах соборного бытия содержатся опорные национальные образы-символы и архетипы, определяющие особенности этнопоэтики рассказа и характеризующие «культурное бессознательное» Бунина. Этнопоэтические образы-символы неба и поля определяют пространственные характеристики хронотопа, структурируемого идеей соборного синтеза бытия души и природного мира, в который так органично был включен быт русского человека. Бунин воссоздает свое представление о русском национальном мире как о соборном бытии, организованном по особым, Божественным принципам и законам. Плотность, насыщенность хронотопа рассказа определяется пространственными, живописными, звуковыми и ольфакторными образами. Образ соборного единства национального мира основывается на историософской идее Бунина о единстве быта и души русских - дворян и мужиков. Эта идея реализуется в рассказе на уровне образной системы и композиционной структуры.
И. а. бунин, категория соборности, этнопоэтика, православный код, национальный мир, символика, сакральное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/147227198
IDR: 147227198 | УДК: 882.09-32 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7702
Текст научной статьи Категория соборности в рассказе И. А. Бунина "Антоновские яблоки"
Рассказ «Антоновские яблоки» по праву считается одним из самых известных произведений русской литературы начала ХХ в. В кратком художественном пространстве рассказа уместилось поистине неисчерпаемое содержание: богатство образов, благоуханная поэзия, филигранность композиционной формы, смысловая насыщенность, красота и выпуклость выражения авторского миропонимания, глубина постижения национального мира.
Написанный на излете века в предчувствии тектонических сдвигов в истории и судьбах России и народа, рассказ Бунина становится своеобразным прологом к той ветви русской классической литературы, которой суждено было быть отринутой новыми реалиями ХХ столетия, чтобы потом вернуться в произведениях, которые сейчас мы воспринимаем как воплощение национального мировидения и мирочувствования.
Рассказ находится в преддверии творчества писателя, ставшего, по словам И. А. Ильина, с одной стороны, «последним даром русской дворянской помещичьей усадьбы, даром ее русской литературе, России и мировой культуре», а с другой, — воплощением «крестьянской простонародной стихии» [Ильин: 210]. Синтез этих двух культурных векторов определяет своеобразие поэтики бунинского рассказа, которую можно определить именно как этнопоэтику, то есть как изображение особенностей русской ментальности, «загадки русской души», как запечатленные в художественных образах, отличающиеся явственно выраженным национальным своеобразием приметы быта и природы. Впервые предлагается целостный анализ рассказа И. А. Бунина «Антоновские яблоки» с точки зрения выраженных в нем этнопоэтических особенностей, представленных в свете категории соборности.
Как заметил В. Н. Захаров, в рассказе «Антоновские яблоки» многое «нуждается в этнопоэтическом комментарии: и жанр, и поэтическое представление времен года от ранней осени до первого снега, крестьянская и помещичья жизнь, обычаи и одежда, труд и охота, круг чтения, звездный август, урожайный сентябрь, ненастный октябрь, досужий ноябрь — и явление желанной зимы; но более всего замечательны и многозначительны временные вехи и название рассказа, в них сквозит сакральный православный смысл крестьянской и помещичьей жизни, встает символический поэтический образ исчезающей России» [Захаров, 1998: 23].
Другим важным аспектом целостного художественного анализа рассказа, неразрывно связанным с этнопоэтическим, представляется анализ особенностей воплощения в нем категории соборности, введенной в современный научный оборот И. А. Есауловым в качестве концептуальной основы филологического анализа. Как отмечает И. А. Есаулов, категория соборности выражает глубинную суть православной религиозности, является основой « православного образа мира », определяет «систему аксиологических координат» [Есаулов, 1995: 6, 9] русской литературы, выражает «глубинные духовные токи национальной культуры, которые и питают словесность» [Есаулов, 2004: 3].
Не имеющее аналогов в других языках, понятие соборности означает не только церковно-религиозное единение людей, но и определяет характер «мирского» сосуществования людей согласно христианским принципам и законам. Замечательно, что идея соборности в рассказе коррелирует с идеей всеединства, которая представлена в рассказе Бунина как идея единства всего сущего в этом мире, как единство и взаимосвязь всех планов существования, как воплощенная в природном мире идея Бога, создавшего этот мир как целокупный организм, в котором реальная множественность не исключает всеобщего единства. Как заметил И. А. Есаулов, художественной задачей таких писателей русского зарубежья, как Бунин и Шмелев, «было воссоздание соборной России» [Есаулов, 2011b: 391–392]. Заметим, что началось это воссоздание задолго до трагических событий, заставивших Бунина покинуть Россию. Уже в первых своих произведениях он воссоздает «свою» Россию, которая им была утрачена, а у нас — в исторической перспективе, прорисованной Буниным в рассказе «Антоновские яблоки» и новелле «Эпитафия», — « отобрана » [Есаулов, 2011b: 392].
Рассказ начинается с отточия: «…Вспоминается мне ранняя погожая осень»1, — как продолжение неких размышлений, воспоминаний, отсылающих читателя в глубь истаявшего времени. Как признавался Бунин, первая фраза имеет в произведении «решающее значение»: «Она определяет прежде всего размер произведения, звучание всего произведения в целом» [Бунин, 1988: 18]. В слове «вспоминается» возвратная частица «-ся» подчеркивает бессилие человека перед законами памяти, природы, бытия: они сами возвращаются, подчиняют себе, захватывают, погружают в глубь прошлого.
В восприятии героя особенности окружающего его мира фиксируются в народных приметах, что рождает образ соборного бытия русского народа, нераздельно слитого с миром природы. Именно образ природы становится опорным в представлении этого соборного бытия. Соборное сознание, отразившееся в произведениях Бунина, основывается на единстве православной веры, бытовых реалий крестьянского и помещичьего мира и русской природы. В этих сферах соборного бытия содержатся опорные национальные образы-символы и архетипы, определяющие особенности этнопоэтики рассказа «Антоновские яблоки» и характеризующие «культурное бессознательное Бунина» [Есаулов, 2011b: 396].
Характеризуя погоду и природу ранней осени, Бунин использует народные приметы:
«Август был с теплыми дождиками <…> в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А “осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик”. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: “Много тенетника на бабье лето — осень ядреная”…» (327–328).
Как замечает В. Н. Захаров, «праздник св. Лаврентия по юлианскому календарю отмечается 10 августа, а за несколько дней до него, 6 августа, — Преображение Господне, в народном наименовании яблочный Спас. До этого праздника считается грехом есть яблоки, на праздник в храмах их святят, время после праздника считается лучшим для посева озимой ржи. Поверие по поводу св. Лаврентия записано автором: “…осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик”» [Захаров, 1998: 23].
В художественной ткани рассказа «движение материального солнца и движение духовно-религиозного солнца срастаются и сплетаются в единый жизненный ход» [Ильин: 382]2, определяющий сущность соборного бытия народа, его взаимоотношения с миром природы.
Люди живут, соразмеряя свою жизнь не с климатическим календарем, а с религиозным, и в этом духовно-религиозном календарном измерении все приобретает особую значимость, сообразуясь с жизнью Христа, с событиями Нового Завета.
Как отмечает В. Н. Захаров, русский человек жил и творил в «извечном годовом цикле Священной истории», «мыслил время не числами, а событиями Священной истории, отмечая время Рождеством, Святками, Крещением, Великим, Петровым, Успенским или Рождественским постами, масленицей, Прощеным воскресением, Чистым понедельником, Пасхой, Троицей, Духовым днем и т. д.», и «подобное ощущение времени было духовной или бытовой основой творчества многих русских писателей независимо от того, был ли он верующим или атеистом, ладил или нет с церковью» [Захаров, 1998: 23].
В этой соразмерности своей судьбы событиям Библейской истории человек обретал уверенность в особой, непререкаемой значимости своей жизни, преисполнялся сознанием глубокого, сокровенного смысла всего, что происходит с ним и вокруг него, обретал веру в Высшее Покровительство, чувствовал свою сопричастность мировой и природной жизни, что сообщало его личной судьбе особую значимость.
Память героя переносит его в прошлое:
«Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег» (328).
Рефрен «помню» продвигает память героя в глубь прошлого, задает феноменологическую тональность повествованию, сообщает особую достоверность описываемому как пережитому.
Доминантная характеристика создаваемого пространства — вселенская бесконечность, всеохватность, ощущение которой Бунин вынес из детства:
«Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я» [Бунин, 2006a: 36].
Хронотоп рассказа организует идея соборного синтеза бытия души и природного мира, в который так органично был включен быт русского человека. Как верно отметил И. А. Есаулов, у Бунина «этот вселенский смысл проступает сквозь христианские коннотации, мерцающие во всем тексте» [Есаулов, 2011b: 398]. С самого начала ощущение своей сопричастности национальному бытию соединялось в сознании Бунина с ощущением Божественного присутствия. В 1891 г. он делает запись в Дневнике:
«< 26 июля >
Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас на бору!
Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним» [Бунин, 2017: 12].
Бунин воссоздает свое представление о русском национальном мире как соборном бытии, организованном по особым, Божественным принципам и законам. В этом мире рядом с отчаянием и тоской живет неиссякаемое чувство любви к родной земле, восторг и радость, великая Божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», когда «долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца», а «сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой» наполняют жизнь радостью и всеобъемлющей любовью:
«О, как я уже чувствовал это Божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности!» [Бунин, 2006a: 17].
Оставляем за рамками настоящей статьи споры о религиозной принадлежности Бунина, о сущности его религиозного сознания, о «христианской духовной традиции» в его творчестве. Эти вопросы не раз поднимались в научных исследованиях, и спектр оценок в них колеблется от признания «христианской доминанты» его мировоззрения до полного «отказа» Бунину в близости к православному миропониманию
[Бердникова: 315]. Думается, что декларируемая писателем «русскость» порождает явственно проявляющуюся в образах христианскую, православную доминанту бунинского художественного сознания. Вера Бунина, воплотившаяся в сознании героя «Антоновских яблок», — это особое, присущее русскому человеку «сердечное знание Христа» (Ф. М. Достоевский), которое позже Бунин охарактеризует как «веру в Бога, понятие о нем, ощущение его» [Бунин, 2006a: 24]. Бог у Бунина — в окружающем его мире: в небе, в природе, в красоте, в любви. Несмотря на отсутствие прямой декларации религиозной доктрины, «христианские коннотации, мерцающие во всем тексте» [Есаулов, 2012: 345], явственно выраженная православная аксиология определяют своеобразие бунинского рассказа.
Присутствие Бога в мире проявляется в образе неба, которое в различных видах постоянно присутствует в рассказе, определяя вертикальную ось хронотопа. «Так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо» (328), «высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар» (329):
«А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому…» (330).
Образ неба зачастую определяет эмоциональную тональность повествования, как на полотнах импрессионистов, образует световоздушную среду и проявляет буйство красок, рождающее ощущение радости и полноты жизни. Картина поздней осени также фиксируется в образе неба:
«Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков» (334–335).
Созерцание небесного свода раскрывает герою мысль о бесконечности, неисчерпаемости вселенского мира, земным подобием которого ему представляется родная земля, предстающая в образе открытого пространства, объединяющего в соборное единство людей, природу и Бога:
«Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на нотной бумаге» (332–333).
Перед нами — экфрасис, живописное импрессионистическое полотно, на котором световоздушная среда создает эффект объемного изображения (небо «легкое и такое просторное и глубокое», ясное, воздух прозрачный, даль ясная), световые эффекты придают ему иллюзию движения (сверкающее сбоку солнце, блестящая дорога, серебряные струны), трепещет острыми крылышками ястребок, свежие, пышно-зеленые озими сообщают живописный и эмоциональный эффект. На протяжении всего рассказа проявляется бунинская «страсть к живописи», которая, как признавался писатель, «сказалась» в его литературных произведениях [И. А. Бунин, 2001: 30]. И, как рассыпанные мазки чистого черного цвета, — сидящие на струнах проводов кобчики. Такова музыка мироздания, которую слышит, созерцает, осязает герой всеми фибрами своей души, открытой Божественной Благодати, разлитой вокруг. В романе «Жизнь Арсеньева» Бунин писал:
«Бог — в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа эта бессмертна» [Бунин, 2006a: 24].
Образ пространства, доминантой которого является безбрежность, бесконечность, раздвинутость как по горизонтали, так и по вертикали, становится в рассказе символом безграничности и неисчерпаемости русской души, вместилищем которой ощущает себя герой, — души, сформированной под впечатлением этих необозримых пространств:
«В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них… Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание…» [Бунин, 2006a: 9].
Созерцание пространства рождает в душе героя ощущение присутствия в мире высших сил, ощущение своей сопричастности к тому великому и таинственному, что нельзя объяснить словами, только — почувствовать, ощутить:
«Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему <…> Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире!» [Бунин, 2006a: 9].
Соборное всеединство хронотопа рассказа «Антоновские яблоки» характеризуется не только пространственными, но и эмоционально-душевными, духовными коннотациями. Это пространство, наполненное ощущением праздника, восторга перед бытием природы и человека. В этом пиршестве жизни участвуют все: и люди, и флора, и фауна: «мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним», «на сливанье все мед пьют», «прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов», «варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар» (328), «толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски» (329).
Как заметил И. А. Ильин, у Бунина «акт внешнего опыта живет зрением, обонянием, слухом, вкусом, осязанием и пространственным воображением» [Ильин: 224]. Образ пространства в рассказе строится как стереоскопический, объемный, наполненный звуками и запахами. Писатель обладал гениальными, сверхтонкими чувствами восприятия мира:
«…зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги» [Бунин, 2006a: 80].
Виртуозно владея «искусством и звука, и беззвучия» [Ильин: 227], Бунин насыщает пространство различными звуками, заполняя и оживляя его: раздается «сочный треск» разгрызаемых яблок, «раздаются голоса и скрип телег», «осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге», слышится «сытое квохтанье дроздов», «гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок» (328), «скрип ворот» (329), «громыхая и стуча, несется поезд», «багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе», «кричат петухи» (330), «на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси» (331), «трубит рог и завывают на разные голоса собаки» (335), «слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски», «голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно» (329). Арсений Семеныч, «вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом» (335), «безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак» (337), «дрова трещат и стреляют» (337–338), «ветер звонит и гудит в дуло ружья» (339), «две гончие суки повизгивают» (340), слышится «дробный, дружный стук» (339) при рубке капусты, «свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами», «медленно расходясь, гудит барабан молотилки» (340), «первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан», «все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы», «однообразный крик и свист погонщика» (341). Коннотативно-экспрессивное звуковое наполнение пространства рассказа помогает автору создать особую атмосферу наполненности, «преизбытка жизни». Фонестемный компонент носит ярко выраженную национальную окраску, вызывая в сознании определенные звуковые ассоциации, создает акустический рисунок прошлого, его идеофон, раскрывающий опорные авторские идеи.
Полноту и насыщенность картины пространства дополняют ольфакторные образы. Как замечает И. А. Ильин, «Бунин не просто чует запахи вещей; он их “слышит”, он через них видит вещь и показывает ее, он осязает ее и дает потрогать другим.
Образы обоняния прокрадываются в самое чувствительное место чувствительной души, поют ей или же волнуют ее, мутят, обжигают, вызывают в ней ужас и отвращение». Бунин умеет передать вещь или явление через их запах с такой яркостью и силой, что образ как бы «вонзается в душу» [Ильин: 227].
Ольфакторные образы наполняют все пространство рассказа, создавая плотную ткань суггестивных, ассоциативных доминант, объединяющих хронотоп рассказа в единое целое и воссоздавая образ природного всеединства, являющегося моделью соборного пространства, когда смешивающиеся запахи природы и человеческой деятельности символизируют мысль о том, что человеческое бытие находится в неразрывном единстве с бытием природы: «запах дегтя в свежем воздухе», «запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести», «сильно пахнет яблоками», «пахнущие краской сарафаны» (328), «ржаной аромат новой соломы и мякины», «крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев» (329), запах «старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета» (333), «крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою», «пропахнувшие лошадиным потом, шерстью затравленного зверя» (337) охотники, славно пахнущие «какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами» книги (338), «запах дыма, жилья», ворох соломы, «резко пахнущей уже зимней свежестью» (339). Ольфакторная аура рассказа семантически многопланова, в ней фиксируются самые различные чувства и переживания героя: радость, грусть, наслаждение, ирония. Но главной функциональной составляющей этнопоэтики ольфакторной ауры рассказа является создание образа русского мира, о котором вспоминает герой. Доминирует над этим пиршеством запахов запах антоновских яблок, который вносит «добавочный сакральный символический смысл в подтекст бунинского рассказа, являясь своего рода праздничным эпицентром изобильной России» [Есаулов, 2012: 344]. Первая глава рассказа заканчивается восторженным возгласом, провозглашающим радость жизни, предельную полноту и красоту бытия: «Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!» (330).
Как верно заметил И. А. Есаулов, «этот мир — родной для Бунина. И именно поэтому Бунин может показать поэзию — и даже “счастье” — как раз в самом этом мире . Но, с другой стороны, для того, чтобы в этом увидеть поэзию, радость и счастье, для того, чтобы эту поэзию радость и счастья передать нам, читателям, и явился в русской литературе такой писатель как Бунин. Это какая-то особая кипучая, незаёмная радость жизни, эта праздничность жизни имелась в самой жизни, но чтобы эксплицировать, выразить вовне эту радость бытия нужен был все-таки Бунин» [Есаулов, 2012: 344].
В свете категории соборности становится очевидным, что в чувственном опыте, ярко представленном Буниным в рассказе, проявляется яркая национальная окраска бунинского рассказа, воплощается Божественное, вселенское, абсолютное.
Произведения Бунина пронизаны идеей «русскости», сформировавшей его душу и сознание: «Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы», — отмечал писатель [Бунин, 2006a: 50]. Бунин постоянно подчеркивает свою принадлежность к русской культуре, русской литературе, русскому миру и… русскому Богу.
Силу и правдивость бунинскому патриотизму придает уверенность в том, что он «рос во времена величайшей русской силы и огромного сознанья ее». Как признается писатель в романе «Жизнь Арсеньева», он очень хорошо запомнил момент, когда он «вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней» [Бунин, 2006a: 50]. Этот чистый, беспримесный патриотизм, любовь к России и всему русскому, в каких бы формах оно ни выражалось, писатель пронес через всю жизнь.
В современном литературоведении, да и школьном преподавании рассказ «Антоновские яблоки» рассматривается как «плач» Бунина по дворянской усадьбе, а в художественном плане — как гениальное воплощение в образах чувственного опыта. Даже И. А. Ильин отказывает Бунину в историософской, аналитической рефлексии, а в составе художественного акта Бунина абсолютизирует «акт чувственного восприятия, созерцания и воображения и соответственно этому акт инстинктивного художника, раскрывающий ему жизнь человеческого инстинкта», представляя писателя «художественным медиумом», целиком уходящим в «стихию человеческой материальности, телесности, чувственности, инстинктуоз-ности» [Ильин: 215].
Но рассказ неизмеримо глубже и выражает очень четкую историософскую концепцию Бунина, утверждавшего, что в России не существовало резких сословных различий:
«Мне кажется, быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, так близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская. Выявить вот эти черты дворянской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского поместного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях» [Бунин, 1967: 536–537].
Свою писательскую задачу Бунин видит в том, чтобы «дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике» [Бабореко: 162].
Говоря о своем происхождении, Бунин подчеркивал, что его «старинный дворянский род» дал России «немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина…» [И. А. Бунин, 2001: 30]. Но главное, чем гордился Бунин, — что все его предки «были связаны с народом и землей, были помещики» [И. А. Бунин, 2001: 30].
Эта идея прямо прокламируется в «Антоновских яблоках»:
«И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком, — признается герой. — Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!» (332).
Герой завтракает «в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью», наслаждается вместе с крестьянами размахом престольного праздника, когда народ «прибран, доволен», а «вид деревни совсем не тот, что в другую пору», гордится, что их «Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились “богатством”». Символом благополучия деревенской жизни, «первым признаком богатой деревни» были старики и старухи, которые в Выселках жили «очень подолгу», «были все высокие, большие и белые, как лунь» (331).
Вторая глава рассказа открывается народной приметой: «Ядреная антоновка — к веселому году» (330). Но в этой примете заложен глубокий символический смысл, проявляющийся лишь в понимании соборности представленного в рассказе бытия: «Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился…» (330). Такова бунинская формула национального благополучия: если в барских садах уродилась антоновка, то на крестьянских полях — хороший урожай хлеба. Так формулируется мысль, что благополучие помещика и крестьянина тесно связаны и взаимозависимы. И в дальнейшем повествовании эта мысль всесторонне развивается, развертывается, структурирует композицию и сюжетные линии рассказа: приходит в упадок помещичья усадьба — зарастают сорняком крестьянские поля, разоряется хозяин-помещик — приходят в упадок крестьянские хозяйства. У помещика и мужика «душа одна — русская», и судьба одна — погибельная. Таков итог историософских размышлений Бунина.
Выражая мысль о единстве судеб помещика и крестьянина, Бунин замечает:
«Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию» (332).
Крестьяне в Выселках имели добротные кирпичные дворы, «строенные еще дедами», «избы были в две-три связи», «водили пчел»:
«В таких семьях <…> гордились жеребцом-битюгом сиво-же-лезного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты» (332).
Такова же усадьба тетки Анны Герасимовны — «небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных, дубовых бревен под соломенными крышами» (332).
Образ усадьбы Анны Герасимовны представлен в рассказе как символическая модель национального мироустройства. Окруженный запущенным садом с «соловьями, горлинками и яблоками», наполненный запахом яблок, «старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах», «невелик и приземист», дом предстает, в соответствии с народной мифологией, как «всегда живое» существо. Он «основательно глядел» «из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени», «точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами» (333). Главное в образе усадьбы — ощущение незыблемости, постоянства сложившейся жизни:
«Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места» (334).
«Сытые голуби», как примета довольства и полноты бытия, дополняют образ «гнезда под бирюзовым осенним небом» (333). Картину национального мира дополняет сцена обильного русского застолья.
Духовный центр русской помещичьей усадьбы — библиотека. Герой «Антоновских яблок» вырос среди «дедовских книг в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьяновых корешках» (338). Сравнение книг с «церковными требниками» обозначает культурный православный код русской литературы, которая была для читателя не только источником познаний, но и формировала их душу, внушала вечные, незыблемые ценности. Эти книги действительно были, как говорил Нестор Летописец, «реками, напояющими вселенную»: с дедовскими пометами «гусиным пером» на полях, содержащие пусть и наивные, но искренние и нравственночистые нравоучения, источниками мудрости и знаний, мыслей, достойных «древних и новых философов, цвета разума и чувства сердечного» (338). Выстраиваемый культурный код раздвигает границы национального бытия, соединяет в единое целое исторические эпохи, когда «от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам» (338), а сочинения Вольтера соседствуют с журналами с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. На плечи Анны Герасимовны накинута «большая персидская шаль» (334), и вот уже границы мира раздвинулись, и в национальное культурное поле входит и Европа, и Восток. Эта «старинная мечтательная жизнь», эта легендарная эпоха сохранилась и в глядящих со стен портретах, на которых «аристократиче-ски-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза» (339). Портреты на стенах углубляют связь времен, помогают герою почувствовать себя частью рода, частью национальной истории.
Картина русского национального быта, созданная в «Антоновских яблоках», была бы неполной без ее характернейшей детали — охоты. В изменениях ее содержания и антуража показано не только оскудение помещичьего быта, но и упадок мира национального. Борзых нет, «охотиться в ноябре не с чем», «но наступает зима, начинается “работа” с гончими» (341). Охота для помещиков — не средство добычи пропитания, и даже не развлечение, и не только дань традиции и привычка, это «образ существования», отказ от которого означал бы окончательный жизненный крах. Охота превращается в своеобразный национальный ритуал, в котором во всю ширь развертывается русская душа. Охотники собираются в усадьбе Арсения Семеныча,
«…в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки» (335).
Арсений Семенович цитирует стихотворение А. Фета «Псовая охота»:
«Пора, пора седлать проворного донца И звонкий рог за плечи перекинуть! — и громко говорит:
— Ну, однако, нечего терять золотое время!» (336).
Захватывающее чувство восторга, приятное возбуждение охватывают участников действа. Не случайно слово «охота» обозначает в русском языке еще и желание, страсть, стремление к чему-то. Ритуал охоты позволяет человеку ясно почувствовать полноту жизни, слияние с миром природы:
«Едешь на злом, сильном и приземистом “киргизе”, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино» (336).
Охота не просто объединяет людей, она заставляет их почувствовать себя единым целым, когда от действий одного зависит успех всех участников действа. Охота в «царстве мелкопоместных, обедневших до нищенства» (339) становится, с одной стороны, актом протеста против надвигающейся беды, вызовом надвигающейся угрозе разорения, уничтожения, а с другой — стремлением окунуться в атмосферу ушедшего «золотого времени», воскресить в памяти благословенные дни былого достатка: «И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях» (341). Не случайно в сценах описания охоты постоянно присутствует «водка», «попойка» — как отчаянное желание забыться, уйти от надвигающейся беды.
Почему ушла в прошлое благополучная жизнь из помещичьих усадеб, почему застрелился красавец, шутник, заядлый охотник и гостеприимный хозяин Арсений Семенович, откуда это «крайнее дворянское оскудение»? Почему влачат жалкое существование крестьяне, несмотря на то, что владеют «на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику» [Бунин, 2006a: 36–37]. Почему разоряются купцы, чье алчное стяжание «то и дело прерывалось дикими размахами мотовства с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босяком, юродом?» [Бунин, 2006a: 37].
Вслед за Достоевским одну из главных причин упадка Бунин видит в «русской страсти ко всяческому самоистребленью», которой подвержены как дворяне, так и мужики. С детства Бунин видел, как беспечно и расточительно живут дворяне, как теряют нажитые предками богатства: «Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку “промотавшихся отцов”, в удел уже не досталось» [Бунин, 2006a: 81]. Уже в детстве писатель знал, что они «бедные», что «отец много “промотал” в Крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее “затрещит” с молотка» [Бунин, 2006a: 22].
Исследуя «загадочную русскую душу», Бунин вслед за Достоевским говорит о страстном «безудерже», присущем русскому человеку, о противоречивости русского национального сознания и характера:
«Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, “шаткость”, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из древа, — и дубина, и икона”, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» [Бунин, 2006b: 311].
Таким образом, идея «кровной связи» крестьянина и помещика, дворянина и мужика, взаимозависимость их судеб становится структурообразующей не только в «Антоновских яблоках», но и в других рассказах, в повестях «Деревня», «Суходол», резко и беспощадно представлявших русскую жизнь. Наверное, этот бунинский феномен, когда писатель, при всем его патриотизме и восторженной любви к России, пишет весьма жесткие и «страшные» произведения о русской жизни, еще долго будет привлекать внимание исследователей. Думается, что корни этого феномена кроются в причудливом синтетизме мировосприятия Бунина, в котором неразрывно слиты ощущение радости существования и предчувствие трагедии увядания и исчезновения. Как заметил Ю. Мальцев, драматической доминантой творчества Бунина было осознание «разорванности человеческого существа между двумя сферами: разумом и чувством, духом и природой, — где в одной — трагическая неразрешимость вопросов, а в другой — бездумное опьянение жизнью» [Мальцев: 76]. Именно эта антиномичность, как полагал Бунин, очень свойственна «загадочной русской душе». Но нельзя согласиться с О. Мальцевым, что Бунин постоянно оттягивает момент осознания, момент приятия и конкретного переживания трагедии. Мысль о грядущей трагедии заложена в архитектонике рассказа «Антоновские яблоки», его композиционной структуре.
Символика композиции рассказа, состоящего из четырех главок, весьма прозрачна. Осень, как и весна, — очень неоднородное по погодным и природным приметам время года. Ранняя осень (конец августа, начало сентября), «бабье лето» (середина сентября), собственно осень (октябрь) и почти зима (ноябрь). Своеобразие композиционного нарратива рассказа определяется символизацией осенних периодов. Герой переживает разные периоды осени, но в символической временной парадигме он проживает целую жизнь. Это не только четыре периода осени, это четыре главных периода в жизни человека: детство, юность, зрелость, старость. Так соединились в композиции рассказа ранняя осень, почти еще лето, и детство героя — в первой главе; яркая осенняя пора и юность — во второй главе; осень зрелости — в третьей и предчувствие старости, глубокая осень, почти зима — в четвертой главе. От главы к главе скудеет и увядает не только природа, но приходят в упадок помещичьи и крестьянские усадьбы. Так в смене осенних периодов спрессовалась не только жизнь человека, но история целого сословия, история России, человеческой цивилизации. К своей закатной, зимней поре они и идут: человек, природа, дворянские гнезда, Россия, человеческая цивилизация.
Грустно, почти безнадежно заканчивается рассказ «Антоновские яблоки»:
«И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара…
На сумерки буен ветер загулял, Широки мои ворота растворял, — начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:
Широки мои ворота растворял, Белым снегом путь-дорогу заметал…» (341).
В «памяти культурного бессознательного» [Есаулов, 2011b: 401] фольклорная символика песни маркирует мотив безнадежности, пронизывающий последнюю главу рассказа. Сумерки — это не время суток, а время заката дворянских усадеб, дворянского сословия, многие представители которого славно и честно послужили России. «Буен ветер» готов безжалостно разметать по свету представителей мелкопоместных, рассеять остатки их гнезд. Известно, что открытые ветром ворота предвещали беду: «К покойнику», — говорили в народе. А «белый снег» ассоциируется в фольклоре и в литературе с образом смертного савана. Заметенная снегом «путь-дорога» символизирует не просто «бездорожье», но безысходность, конечность пути. Зловещий профетический смысл «снежной символики» раскроется в исторической перспективе, а «образ России под снегом, России, занесенной снегами», как отметил И. А. Есаулов, станет «устойчивым и распространенным концептом» в литературе русской эмиграции, означая «смертные пелены», которые окутали Святую Русь [Есаулов, 2011b: 399].
Напрасно называют Бунина «певцом дворянских усадеб». Он не воспел дворянскую усадьбу, а отпел ее, назвав свою лирико-медитативную новеллу, ставшую логическим и художественным завершением рассказа «Антоновские яблоки», «Эпитафией».
Как изменится лик родной земли, «чем-то освятят новые люди свою новую жизнь», где они будут искать «ключи счастья»? Очень безрадостен, эсхатологически грозен ответ на эти вопросы, содержащийся в наполненной национальными архетипами, символами и предзнаменованиями художественной ткани «Эпитафии».
Хронотоп новеллы строится на трех временных планах: прошлое, настоящее и будущее. Содержательный аспект всех планов выражается в медитативных коннотациях и символических обобщениях. Этнопоэтическая символика новеллы тесно связана с культурными, мифопоэтическими и фольклорными традициями.
Опорным символом плана прошлого становится символ сакрального мира — «ветхий, серый голубец», «крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона божией матери», который поставил первый, кто пришел на эти земли, «и с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье» [Бунин, 1988: 342].
Дети испытывали к нему благоговение, а «матери шептали в темные осенние ночи: “Пресвятая Богородица, защити нас покровом твоим”!» [Бунин, 1988: 342]. Ведь издавна Богородица была «спасительницей и заступницей России и русского человека» [Захаров, 1998: 24].
«Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, завидев в дыму метели торчащий из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама царица небесная, что охраняет она свою деревню, свое мертвое до поры, до времени поле» [Бунин, 1988: 343], противостоит «нечистой силе».
Как верно заметил В. Н. Захаров, «в русском пространстве доминируют храм, церковь, часовня, крест. Они осеняли жилое место — все, что было окрест» [Захаров, 2011: 31]. Происходит сакрализация хронотопа новеллы, что переводит его в символический план, и перед читателем возникает обобщенный образ России, с которым тесно коррелирует символ русского природного мира — береза, «очарованная осенью, счастливая», сияющая и покорная [Бунин, 1988: 342]. Сакра-лизованное пространство прошлого освящено, пронизано светом и покоем, наполнено Благодатью и красотой. Менялись времена года, наполненные трудом и обозначенные, как в «Антоновских яблоках», праздниками (Троица, Духов день, Петров день), звучали «величальные песни и шумные свадьбы», трогательные молебны «перед кроткой заступницей всех скорбящих, — в поле, под открытым небом…» [Бунин, 1988: 344]. Как в «Антоновских яблоках», рефрен «помню» погружает в легендарное прошлое.
В «Эпитафии» законы диалектики, требующие непрестанного развития, «неустанного обновления», сталкиваются с пониманием того, что в этих законах произошел какой-то сбой, грозящий катастрофой и гибелью. Отсюда — «великая грусть», с которой люди провожает прошлое. Жизнь приходит в упадок, «и деревня становилась все скучней, и береза уже не так густо зеленела весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он», и «само небо, казалось, стало гневаться на людей» [Бунин, 1988: 344]. Символом разрушения, запустения и оскудения в новелле становится «печальная и смиренная тощая рожь». В новеллу вторгаются символы и мотивы сиротства, запустения, гибели:
«И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, заступает место тучных хлебов у старой проселочной дороги. Нищие и слепые все чаще стали с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке — равнодушная, печальная» [Бунин, 1988: 344].
Сакральное пространство разрушено, опустошено, «точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик Богоматери» [Бунин, 1988: 344] и покосился голубец. Что придет на смену былой жизни? В степи появились «новые люди», с образом которых связаны мотивы утерянной памяти поколений, забвения истории, разрушения традиций. Они не живут в уцелевших деревенских домах, а располагаются станом у деревни, как пришлые кочевники. Они не топят печи, а жгут костры. Они выходят в поле, но не для того, чтобы засеять его, а для того, чтобы просверлить «длинными буравами» древнюю землю, «без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землею» [Бунин, 1988: 345]. Люди ищут «источников нового счастья», но ищут их «уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего» [Бунин, 1988: 345]. Мотив смерти, гибели воплощается в образе «могильных холмов», вырастающих над израненным буравами полем. Бинарная оппозиция опорных вертикальных и горизонтальных констант хронотопа новеллы знаменует полную противоположность, враждебность прошлого и будущего, когда будущее не продолжает традиции прошлого, а уничтожает их: там, где возвышался крест, скоро задымят трубы заводов, где была старая дорога, «лягут крепкие железные пути», а на месте деревни «поднимется город». Придет новая жизнь. Чем-то освятят ее «новые люди»? «Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?» [Бунин, 1988: 345] — вопросы риторические, ибо если крест, который освящал «старую жизнь», упал на землю и скоро будет всеми забыт и растоптан, а сакральное пространство вытеснено профанным, нетрудно понять, какую силу имеет в виду писатель. Мотив апокалипсиса, пришествия Антихриста, коррелирует с названием новеллы «Эпитафия» — надгробная надпись. Бунин убежден, что разрыв с национальной традицией, забвение христианских ценностей, неизбежно приведет к катастрофе, к гибели. И энергия человечества должна быть направлена не на разрушение, а на сохранение этих вечных ценностей. Таким образом, уже в «Антоновских яблоках» Бунин представляет нам образ той утраченной соборной России, о которой он будет скорбеть в эмиграции.
Осмысление движения исторического времени не как прогресса и эволюции, а как регресса и увядания — опорная идея историософии Бунина, символическим воплощением которой стал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Рассматривая русскую литературу сквозь призму категории соборности, в христианском контексте, можно, как справедливо отметил И. А. Есаулов, филологическими средствами интерпретации воссоздать Россию, «которая нами утрачена», показав «текстуальные механизмы подобного процесса, рассмотренного с его рецептивной стороны» [Есаулов, 2011b: 392]. Методология исследования истории русской литературы должна базироваться на тех же аксиологических принципах, что и русская литература, совпадать по «типу духовности». Нельзя не согласиться с И. А. Есауловым, полагающим, что «рассмотрение литературного произведения в контексте христианской традиции как особого рода трансисторической длительности вполне отвечает задачам новой исторической поэтики» [Есаулов, 2011а: 13]. Это необходимо для того, чтобы средствами искусства противостоять процессам духовного оскудения, для того, чтобы не потерять того, что у нас еще осталось. Ведь «как ни возражают нам оппоненты, русская культура православна. В этом сходство и ее отличие в сравнении с другими христианскими и инославными культурами. Присутствие Евангелия, а подчас и явление Христа неизбежны в русской словесности. Их следует видеть и замечать» [Захаров, 2011: 37].
Olga Yu. Yureva
Список литературы Категория соборности в рассказе И. А. Бунина "Антоновские яблоки"
- Бабореко А. И. И. А. Бунин. Материалы для биографии. — М.: Ху-дож. лит., 1967. — 303 с.
- Бердникова О. А. Реминисценции, цитаты и мотивы Псалтири в творчестве И. А. Бунина // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУУ 2012. — Вып. 10. — С. 315-327 [Электронный ресурс]. — URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1458029841.pdf (10.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2012.362
- Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. — М.: Худож. лит., 1967. — Т. 9. — 622 с.
- Бунин И. А. Собр. соч.: в 4 т. — М.: Правда, 1988. — Т. 1. — 478 с.
- Бунин И. А. Полн. собр. соч.: в 13 т. — М.: Воскресенье, 2006. — Т. 5: Жизнь Арсеньева. Роман (1927-1929; 1933); Божье древо. Рассказы (1927-1931). — 480 с. (a)
- Бунин И. А. Полн. собр. соч.: в 13 т. — М.: Воскресенье, 2006. — Т. 6: Темные аллеи (1958-1953). Рассказы (1931-1952). Окаянные дни. — 488 с. (b)
- Бунин И. А. Дневники 1881-1953 / под ред. Л. М. Суриса. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. — 337 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. — 288 с.
- Есаулов И. А Пасхальность русской словесности. — М.: Кругъ, 2004. — 560 с.
- Есаулов И. А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск; СПб.: Але-тейя, 2011. — Вып. 9. — С. 5-23 [Электронный ресурс]. — URL: http:// poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962763.pdf (10.01.2020). DOI: 10.15393/ j9.art.2011.300 (a)
- Есаулов И. А. Культурное бессознательное и воскресение России // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. — Вып. 9. — С. 389-407 [Электронный ресурс]. — URL: http:// poetica.pro/files/re daktor_p df/1455537052.pdf (10.01.2020). DOI: 10.15393/ j9.art.2011.333 (b)
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. — СПб.: Алетейя, 2012. — 448 с.
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 1998. — Вып. 5. — С. 5-30 [Электронный ресурс]. — URL: http://poetica. pro/journal/article.php?id=2472 (10.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472
- Захаров В. Н. «Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. — Вып. 9. — С. 24-37 [Электронный ресурс]. — URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962964.pdf (10.01.2020). DOI: 10.15393/j9art.2011.301
- И. А. Бунин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: антология. — СПб.: Изд-во Христианского гуманитарного института, 2001. — 1011 с.
- Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. — М.: Русская книга, 1996. — Т. 6. — Кн. 1 / сост., вступ. ст. и коммент. Ю. Т. Лисицы. — 557 с.
- Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870-1953. — М.: Посев, 1994. — 432 с.