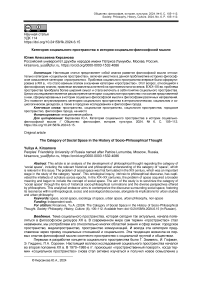Категория социального пространства в истории социально-философской мысли
Автор: Кирсанова Ю.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья представляет собой анализ развития философской мысли относительно категории «социальное пространство», включая уместное в данной проблематике историко-философское осмысление категории «пространство». Проблема социального пространства впервые была сформулирована в XIX в., что стало важным этапом в изучении категории «пространство». Этот вопрос, относящийся к философскому знанию, привлекал внимание мыслителей на протяжении многих веков. В XIX-XX вв. проблема пространства приобрела более широкий смысл и стала включать в себя понятие социального пространства. Целью исследования является рассмотрение категории «социальное пространство» на основе представлений о нем, сформулированных в истории социально-философской мысли и философами различных направлений. Это позволит актуализировать категорию социального пространства в антропологическом, социальном и социологическом дискурсах, а также в городских исследованиях и философии города.
Пространство, социальное пространство, социология пространства, городское пространство, философия города, не-место
Короткий адрес: https://sciup.org/149145928
IDR: 149145928 | УДК: 114 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.15
Текст научной статьи Категория социального пространства в истории социально-философской мысли
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия, ,
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia, ,
Введение . Тема социального пространства, которая сегодня так актуальна, начала появляться в философском дискурсе XX в. В современном мире сам термин «пространство» стал незаменим, мы употребляем его относительно многих областей знания и сфер жизни: городское пространство, медиапространство, пространство коммуникаций. И всегда эта категория представлена через призму социальных отношений и социального. Эта тенденция возникла из первых опытов философской мысли соотнести пространство с социальной группой и обществом.
Первыми в разработке концепта социального пространства были Г. Зиммель, И. Гофман, Э. Гидденс, П.А. Сорокин. Настоящий всплеск исследований социального пространства начался во второй половине XX в. В 1970–1980-е гг. произошел «пространственный поворот», когда термин «социальное пространство» снова стал активно изучаться и получил новое осмысление у
философов и социологов: А. Лефевра, М. Фуко, М. Мерло-Понти. Тем самым не меньшее теоретическое значение проблема приобрела и для социологического знания, и для городских исследований XX - XXI вв.
Методы . В настоящей статье применяется диалектический метод и метод историко-философского анализа категории «пространство», что позволяет проследить эволюцию данного понятия в трудах до XIX в. В изучении классических подходов к пониманию пространства применяется метод сравнительного анализа. Изучаются основные его направления, а именно: субстанциональная и реляционная концепции, представленные Демокритом, Эпикуром, Лукрецием, Аристотелем, Г. Лейбницем и Р. Декартом.
С помощью метода историко-философского анализа автор изучает проблему социального пространства, которая активно разрабатывалась в XX в. Г. Зиммелем, И. Гофманом, Э. Гидденсом, П.А. Сорокиным; довольно разнообразные направления научного знания второй половины XX в. о социальном пространстве в смежных с философией областях, таких как социология, урбанистика, городские исследования, философия города, символическая антропология; исследования социального пространства П. Бурдье, П. Бергера и Т. Лукмана, Н. Лумана, М. Кастельса, А. Лефевра, М. Фуко, М. Мерло-Понти.
Далее исследование прибегает к феноменологическому методу, изучая в отечественной науке понятие пространства и социального пространства в трудах А.Ф. Филиппова, А.Т. Бикбова, О.С. Чернявской, И.А. Шмерлиной и др.; городские исследования в работах социологов Чикагской школы; развитие самих городов и их исследований: городов как социального пространства, городского общества и сообществ; развитие антропологического взгляда на социальное пространство у М. Оже и М. де Серто, заинтересованных проблемой расшифровки организации пространства городского общества; социокультурное влияние города на человека, его мышление и философию в современной отечественной философии - философии города, представленной исследователями В. Ванчуговым, С.Б. Веселовым, С.А. Смирновым, Л.Е. Трушиной.
Результаты . В субстанциональном понимании пространство выступает как вместилище всего сущего. Оно не наделяется специфическими чертами и не имеет самостоятельного значения, но является организационным, структурирующим началом. Такое понимание пространства является отправной точкой в категоризации понятия пространства. Развивали его философы-атомисты. Основоположником данного подхода является Демокрит. По другим источникам - Левкипп. В философии атомизма существует так называемый «Левкипов вопрос» - вопрос об основателе атомистической философии. Аристотель считал таковым Левкиппа. Диоген и Лаэрций называли основателем Демокрита.
Понимание пространства в философии Демокрита, безусловно, связано с учением об атомах. Философ представлял мир как пространство неделимых частиц - атомов. Он размышлял о мировом порядке и развил атомистическую гипотезу в своем космологическом труде «Великий мирострой», который впоследствии был утрачен. Пространство у Демокрита рассматривается как реальное физическое, и как математическое. Последнее является абсолютным ничто, пустым пространством, делящимся до бесконечности. Нас же больше интересует его представление о физическом пространстве. Оно имеет атомистическую дискретную структуру, понимается как реальное, то есть существующее подлинно.
Эпикур, последователь идей Демокрита, продолжил традицию атомизма, расширив теоретическое знание о материи, атомах и пустоте, углубившись во внутреннюю логику атомизма. Также Эпикур дополнил теорию пониманием веса атома. Однако не все считали его собственный вклад в теорию атомизма значительным. Цицерон, Диоген, Плутарх свидетельствовали, что он лишь передавал знание Демокрита, гнался за славой и выдавал многие тезисы и мысли последнего за свои. Пространство Эпикур называл пустотой и характеризовал его как самостоятельную природу. Пустота - не что иное, как условие движения атомов: «...природа пустоты, отделяющая каждый атом от другого, производит это, не будучи в состоянии [так как она не в состоянии] доставить точку опоры» (Тит Лукреций Кар, 1983: 298).
Проанализировав учение атомизма, можно заключить, что пространство существует в мире как данность, необходимость мироздания. Пространство есть пустота, элемент мироздания, который постигается лишь через разум. В атомистической концепции еще не идет речи о категоризации пространства. Но важной вехой становится сам факт обнаружения пространства, пока как пустоты, необходимости и вместилища. Однако это также стало важным шагом в генезисе понятия пространства.
Представитель реляционной концепции Аристотель синтезировал, в том числе, знание атомистов, однако, не следуя ему, а отрицая. Так, к примеру, он не признавал необходимость движения тел или атомов в пустоте, в то время как атомисты предполагали именно возможность движения атомов главным свойством пустоты/пространства. Аристотель опровергал существование пустоты, бесконечности: «пространство неоднородно и конечно, оно есть система естественных мест, занимаемых материальными телами» (Аристотель, 1999: 645). Сложно сказать, что категория пространства сформулирована у Аристотеля – в своем труде «Физика» он использовал термин «место»: «всему воспринимаемому чувствами присуще по природе где-нибудь находиться, и для каждой вещи имеется некоторое место, причем оно одно и то же для части и для целого, например, для всей земли и для одного комка, для огня и для искры» (Аристотель, 1999: 648). Аристотель приравнивал пустоту к телам, как если бы они были равнозначными элементами. И тогда пустота есть место, лишенное тела: «… место представляет собой нечто наряду с телами, и что всякое чувственно-воспринимаемое тело находится в [каком-либо] месте» (Аристотель, 1999: 649).
Главное отличие положений Аристотеля о месте/пространстве от атомистических воззрений заключается в отрицании пустоты как таковой: пространство здесь неоднородно и имеет фазу конца как система естественно образующихся мест путем заполнения материальными телами. По сути, пространство здесь понимается как система неких отношений между предметами материального мира; исключительная категория объективного мира; свойство, исходящее из природы вещей.
Представления, аналогичные взглядам Аристотеля на пространство, развивали в Новое время Г. Лейбниц и Р. Декарт. Р. Декарт сополагал пространство с материей и протяженностью, вследствие чего у него стирались границы между физическим и геометрическим, вопрос о соотношении которых стал особенно актуальным после Средневековья (ср. об этом у Галилея). По Декарту, такое различение приводит к отрицанию конечности материального мира и к унификации вселенной (Декарт, 2019: 156). Р. Декарт видел материальный мир единой субстанцией, поэтому для него не было принципиальной разницы между телами и пустотой между ними. При описании материи, тел и пространства Р. Декарт использовал понятие «протяжение». Весь мир – это протяжение материи. Материя едина и простирается на все пространство универсума, поэтому не существует множественности пространств и миров, они есть одна протяженность.
Еще один взгляд, противостоящий субстанциональному пониманию пространства, был предложен Г. Лейбницем. Он утверждал, что пространство не существует само по себе, им лишь выражается положение физических тел, являясь тем самым порядком сосуществования явлений и вещей. Свои заключения о пространстве Г. Лейбниц довольно четко сформулировал в известной переписке с С. Кларком, который представлял позицию И. Ньютона. Пространство Г. Лейбниц считал чем-то относительным, порядком существований или порядком одновременных вещей; таким образом, он по своему воззрению противостоял субстанциальной трактовке пространства. Итак, пространство – это то, как расположены вещи относительно друг друга. «Пространство является чем-то совершенно однородным, и, если отвлечься от находящихся в нем вещей, одна его точка абсолютно ничем не отличается от любой другой точки» (Лейбниц, 1982: 498).
XVIII в. внес свой вклад в генезис категории пространства. Немецкий философ эпохи Просвещения И. Кант рассматривал пространство и время как «две чистые формы чувственного наглядного представления, как принципы априорного знания <…> Поэтому пространство следует рассматривать как условие возможности явлений, а не как зависящее от них определение: оно есть априорное представление, необходимым образом лежащее в основе внешних явлений» (Кант, 1999: 77). Пространство, таким образом, не дискурсивно, не связано с отношениями вещей. Оно является наглядным представлением, при этом единым. Если и существует множество пространств, то они находятся во всеохватывающем едином общем. «Пространство представляется как бесконечная данная величина. <…> Итак, первоначальное представление (die ursprüngliche Vorstellung) пространства есть априорное наглядное представление, а не понятие» (Кант, 1999: 79). Данный взгляд сместил воззрение на пространство с понимания необходимости его существования и зависимости от тел, явлений и вещей на представление о пространстве в качестве величины.
Концепция абсолютного, пустого пространства, как некой абстракции, главенствовала вплоть до XVIII – XIX вв. В XIX в. Г. Гегель опроверг концепцию чистого пространства и противопоставил ей представление «наполненного пространства». Также Э. Дюркгейм в «Элементарных формах религиозной жизни» определял пространство иначе, чем И. Кант: «… пространство – это не та пустая и неопределенная среда, которую придумал Кант: если бы оно было совершенно и полностью однородным, оно ни для чего не годилось бы и не могло бы постигаться мыслью. Пространственное представление есть, по сути, первичное согласование данных чувственного опыта. Но это согласование было бы невозможным, если бы части пространства были качественно равны друг другу и реально взаимозаменяемы» (Дюркгейм, 2018: 42).
Пространство не может быть пустым и неопределенным, каким его описывал И. Кант. Во-первых, оно дифференцировано. Э. Дюркгейм утверждал, что пространство разделено на части (то есть дифференцировано), и предметы располагаются в нем с привязкой к той или иной его части. Такое деление он называл сущностным делением пространства. При этом соглашался, что известные нам направления в пространстве (север, юг, право-лево и т. д.) не существуют сами по себе, а присутствуют в нем как когда-то созданные и приписываемые, называемые Э. Дюркгеймом «аффектив- ными ценностями». Они едины для одного общества, цивилизации как некие культурные коды. Следовательно, приходим к тому, что эти ценности, подобно пространству, одинаково понимаемому и представляемому людьми одной цивилизации, имеют общественное происхождение.
Само же понятие социального пространства начали активно разрабатывать в XX в. Г. Зиммель, И. Гофман, Э. Гидденс, П.А. Сорокин. Самые ранние представления о социальном пространстве встречаем у Г. Зиммеля. «Речь шла о том, что объекты физического пространства и созданные артефакты становятся элементами социального пространства в тот момент, когда наделяются социальными смыслами. Собственно, механизм наделения смыслами и его роль в организации взаимодействия и ставился в центр исследования» (Бляхер, 2022: 11). Г. Зиммель утверждал, что пространство вмещает в себя события, происходящие в обществе, при этом оно само не является действующей силой. Таким образом, пространство осуществляется своим наполнением, которое от него не зависит. «Не пространство, но совершаемое душой членение и собирание его частей имеет общественное значение. Этот синтез фрагмента пространства есть специфически психологическая функция, которая – при всех мнимо естественных данностях – совершенно индивидуально модифицирована; но категории, из которых он исходит, подсоединяются – конечно, более или менее наглядно-созерцательным образом – к непосредственности пространства» (Simmel, 1992: 688). Подытожив положения Г. Зиммеля о социальном пространстве, можно выделить следующие дефиниции: «… пространство может быть: 1) однозначно квалифицировано как пространство группы или общности; 2) рассмотрено как пространство взаимодействия и взаимовлияния или 3) как пространство не только размещения, но и перемещения, или 4) как пространство сосуществования социальных групп. Подход Г. Зиммеля позволяет различать пространство физической географии и пространство политической географии и социологии» (Филиппов, 1995: 55).
П.А. Сорокин проводил строгую черту между геометрическим и социальным пространством. «Во-первых, социальное пространство в корне отличается от пространства геометрического» (Сорокин, 1992: 297). Первое он определял как отношения людей: «…социальное пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения земли. Там, где нет человеческих особей или же живет всего лишь один человек, там нет социального пространства (или вселенной), поскольку одна особь не может иметь в мире никакого отношения к другим» (Сорокин, 1992: 298). Однако для П. Сорокина оказалось важным понимание социальных классов, так как близостью в социальном пространстве он называл одинаковое социальное положение. При этом автор дал несколько полезных дефиниций социального пространства. «Социальное же пространство – многомерное, поскольку существует более трех вариантов группировки людей по социальным признакам, которые не совпадают друг с другом (группирование населения по принадлежности к государству, религии, национальности, профессии, экономическому статусу, политическим партиям, происхождению, полу, возрасту и т. п.)» (Сорокин, 1992: 300).
Социальное пространство начинает активно исследоваться во второй половине XX в. «Отправной точкой такого повышенного интереса к пространственной проблематике в социальных науках можно считать интервью М. Фуко 1967 года, идеи которого повторялись и в позднейших работах. Пространство здесь выступает привилегированной субстанцией для понимания техник власти. По существу, проводится мысль о территориальном характере власти как таковой. Однако, как правило, речь идет именно о философской рефлексии явления или об анализе концепта “социальное пространство”» (Бляхер, 2022:10). К более пристальному анализу идей М. Фуко относительно социального мы вернемся чуть позже.
Одним словом, пространственный поворот связан с нарастающим интересом и изучением социального пространства. В этот период пространство, как категория, уходит слишком далеко от физических и геометрических интерпретаций своего значения. Теперь контекст социальной жизни изменяет значение этого понятия. Здесь можно отметить работы П. Бурдье, П. Бергера и Т. Лукмана, Н. Лумана, М. Кастельса, А. Лефевра, М. Фуко.
-
А. Лефевр в работе «Производство пространства» обращается к концепту социального пространства, рассуждая о теоретическом постижении пространства и места. Автор заявляет, что в современном обществе мы больше не воспринимаем пространство и время как предметы или вещи, они относятся к «вторичной природе», то есть являются продуктами в силу своего глобального характера. Иначе говоря, любое пространство – это отражение социального и экономического устройства в обществе, где тот или иной способ производства проецирует свойственные социуму отношения на пространство.
Чтобы отойти от старых категорий, автор детально анализирует понятия производства и продукта, ищет место пространству, обновляя смыслы этих понятий. И мы получаем следующее: во-первых, социальное пространство внедряется в понятие производства и, поглощая его, становится его содержанием; во-вторых, социальное пространство, как и социальное время, предлагается считать продуктами, аспектами вторичной природы, результатом воздействия обще- ства на первичную природу. Такой продукт – не просто вещь или предмет, это совокупность связей. «Но (социальное) пространство не является вещью в ряду других вещей, продуктом среди прочих продуктов; оно включает в себя все произведенные вещи, содержит отношения этих вещей в их сосуществовании и симультанности: (относительном) порядке и/или (относительном) беспорядке. Оно – результат совокупности последовательных операций и не сводится к простому объекту» (Лефевр, 2015: 84).
Возвращаясь к социальному пространству, стоит подчеркнуть, что оно представлено нам, прежде всего, в городах, поскольку все нарастающий процесс урбанизации – неотъемлемая часть капиталистического способа производства. Однако изучение городского пространства на тот момент только начиналось, да и не было выстроено междисциплинарное взаимодействие, которое могло бы поспособствовать взаимному обмену между урбанистикой и философией.
-
М. Фуко в работе «Другие пространства» обнаружил многомерность пространства, постичь которую было невозможно до XVII в. Только после открытий Г. Галилея протяженность стала заменять локализацию. Место перестало быть точкой, оно стало точкой в движении. А в XX в. местоположение заменила протяженность. «Мы живем в эпоху, когда пространство задается нам в форме отношений местоположения, местонахождения» (Фуко, 2006: 193). Конкретные места определяются множеством отношений. М. Фуко ввел понятия утопии и гетеротопии: нереальные пространства и «контрместоположения». Гетеротопии – это иные места, находящиеся в связи с другими, обычными культурными пространствами и местами, но при этом гетеротопии – это другие пространства. Они многомерны и объединяют в себе несколько пространств. Например, театр, кинотеатр, сад на Востоке, музеи, библиотеки, ярмарки.
П. Бурдье стремился объяснить социальную действительность и, в том числе, его внимание было обращено к проблеме пространства. Для позиции П. Бурдье в этом вопросе характерно рассмотрение пространства как социального, более того, его интересуют различные области социальной действительности и структура социального пространства. Тем не менее, в тексте «Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение» ученый разграничивал две возможные формы пространства – физическое и социальное. Логика П. Будье проста: человек является не только социальным агентом, но и биологическим существом.
Социальное пространство становится главным предметом изучения в вышеуказанной статье, и П. Бурдье стремится объяснить его структуру. Он видит непреодолимую зависимость социального пространства от общества и общественных полей и одной из знаковых черт социального пространства определяет иерархию. Признавая физическое измерение пространства, ученый делает акцент на измерении социальном. И даже физическое пространство оказывается в зависимости от социального, кроме того, оно связано с ним через агентов. Социальный мир П. Бурдье рассматривает как многомерное, дифференцированное пространство. Дифференциация зависит от борьбы и распределения благ и услуг в пространстве, от силы и власти индивидов, участвующих в распределении. Позиции агентов или групп агентов в социальном пространстве вследствие этого относительны, что также делает пространство неоднородным, построенным на основе символической власти. Она, в свою очередь, порождает структуру пространства и им же транслируется.
Следующей вехой в развитии концепта социального пространства стали работы и философская мысль представителей чикагской школы социологии, которые исследовали процесс урбанизации, городское пространство и его социальные процессы. Считается, что во многом идеи школы развивались под влиянием Г. Зиммеля. Представители Чикагской школы изучали городское пространство, социальное в пространстве города, приобщив, таким образом, городские исследования к изучению социального пространства. Также по этой проблематике известны идеи И. Гофмана, Э. Гидденса о самопрезентации и взаимодействии индивидов в социуме, которые и создают социальное пространство.
Подход школы отличается явным антропологическим уклоном. Л. Вирт, изучая и, по сути, формируя направление урбанизма, представляет город не как физически ограниченное пространство, а процесс, инфраструктуру и образ жизни: «До тех пор, пока мы отождествляем урбанизм с физическим существом города, рассматривая его как строго ограниченную в пространстве сущность, и полагаем, что все городские свойства внезапно исчезают, как только мы пересекаем произвольно установленную границу, мы, вероятно, так никогда и не придем к сколь-нибудь адекватной концепции урбанизма как образа жизни» (Вирт, 2016: 12). В работах автора эта позиция является критически важной для развития направления «урбанизм» и городских исследований в целом, которые берут свое начало в междисциплинарном дискурсе с 1920-хх гг. Однако тем самым Л. Вирт дает еще одну дефиницию социального пространства – определение его через социум, образ жизни города.
Развитие самих городов и их исследований – городов как социального пространства, городского общества и сообществ – приводит к рассмотрению пространства с точки зрения антропологии. Не ускользнула эта идея и от антропологов М. Оже и М. де Серто, заинтересованных проблемой расшифровки организации пространства городского общества. М. де Серто определял пространство как используемое в практике место, производимое посредством движения. У М. Понти оно понимается как анимация места за счет движения тел. Таким образом, антропологическое пространство (не геометрическое) – это место, в котором происходит опыт соотнесения с миром бытия. М. Оже в работе «Места. Введение в антропологию гипермодерна» ссылается на понятие пространства М. де Серто. В данном случае речь идет о месте, обладающем установленным и символическим значением, месте антропологическом, а оно включает в себя дискурс, язык, требует своей интерпретации – антропологическое место должно быть понято и признано, идентичность такого места служит основанием для формирования группы и постоянно подвергается проверке своих внешних и внутренних границ (это исторически сложившиеся физические, функциональные места). И понятие «пространство» оказывается наиболее удобным для употребления из-за отсутствия стойких отличительных признаков, оно более абстрактно. Пространство же, не определимое ни через идентичность, ни через связи, ни через историю, является «не-местом». Гипермодерн производит именно такие «не-места» – это пункты временного пребывания и промежуточного времяпрепровождения в мире одиночества индивидуальности, транзитного движения, временности и эфемерности. «Не-места» опосредуют целый комплекс отношений человека с собой и другими, эти отношения лишь косвенно касаются их функционального предназначения.
С 1990-х гг. получает свои очертания направление в современной отечественной философии – философия города. Фокус внимания данного направления при изучении социального пространства полностью переносится в пространство города. Представители направления В. Ванчугов, С.Б. Веселов, С.А. Смирнов, Л.Е. Трушина изучают социокультурное влияние города на человека, его мышление и философию. В.В. Ванчугов в монографии «Москвософия и Петербур-гология. Философия города» представляет опыт феноменологии города и создает предпосылки для формирования междисциплинарного направления, получившего название «философия города». Автор рассматривает данную работу как философское осмысление городской цивилизации, которое способно показать лицо города, его дух, что транслирует город своей архитектурой, планировкой, образом жизни и организацией социального пространства.
Для философии города важно выявить его метаформу, формирующее начало, физиологию и метафизику, постичь его идею. «Ввести в оборот понятие “философия города” можно хотя бы на том основании, что говорят о душе, характере, лице, теле города, об эстетических и этических качествах города, присущих человеку. В силу долгого сожительства город стал похожим на человека, а человек – на город. <…> Высокая степень приближения городской структуры к тому “слою” бытия, который именуется человеком, провоцирует создание воображаемых ситуаций, в которых город имеет голос для выражения собственного разума и вступает с человеком в беседу» (Ванчугов, 1997: 14).
Таким образом, дискурс данного направления представляет город как многомерное пространство, где сосуществуют различные городские проявления, которые в совокупности образуют некий его «код». К комплексу философии города автор относит репрезентации города, его психику, урбанистические утопии и антиутопии, энергию, положение и его сущность.
Продолжают изучение социального пространства в отечественной науке А.Ф. Филиппов и О.С. Чернявская. В работе «Элементарная социология пространства» А.Ф. Филиппов предлагает наброски по социологии пространства. «Мы принимаем как не требующее доказательств то, что некое пространство всегда доступно созерцанию и воображению и в этом смысле не нуждается в определениях. Таким образом, мы проводим различение между чисто логическими (логико-математическими и т. п.) определениями пространства и тем, что в принципе доступно наглядному представлению» (Филиппов, 1995: 47). О.С. Чернявская, изучая категорию «социальное пространство», опирается на труды философов и социологов разных времен и научных взглядов, а также систематизирует их. Социальное пространство строится на нескольких аспектах: пространство взаимодействия социальных акторов, структура статусных позиций; связь географического пространства и приписываемых ему социальных смыслов. Автор также рассматривает социальное пространство как порядок социальных позиций, метафорическое пространство, структурируемое статусами социальных акторов, как нечто обозримое, место расположения тел (Чернявская, 2008: 332).
Заключение . Категория «социальное пространство» начинает обретать свои очертания в размышлениях Г. Зиммеля и П. Сорокина. Для Г. Зиммеля пространство становится социальным, потому как наделяется социальными смыслами, оно вмещает общности, социальные группы, в нем совершаются взаимодействия и перемещения. В философском представлении П.А. Сорокина существуют геометрическое и социальное пространства. Последнее многомерно подобно «классам» людей и определяется спецификой группирования населения по определенному признаку. То есть социальное пространство существует благодаря тому, что в нём взаимодействуют различные группы людей.
Во второй половине XX в. социальное пространство приобрело множество точек рассмотрения и подходов. А. Лефевр усматривал социальность пространства в его произведенности.
Он называл пространство продуктом-производителем, который связывает и совмещает в себе ментальное, культурное, социальное, историческое. А само пространство в свою очередь производится обществом.
По социальному пространству можно изучить современное общество и его генезис. П. Бурдье внес серьезный вклад в развитие концепта социального пространства. Он дает развернутое представление о структуре социального пространства, полно и емко развивает свою концепцию символической власти в нем. После раскрытой им сути современного пространства нельзя усомниться в том, что без социальной составляющей постижение этой категории невозможно.
У Л. Вирта пространство воспринимается в зависимости от того, какими смыслами его наполняет человек. На первый план в таком толковании пространства выходят смыслы и значения, именно они наполняют пространство, а не физические тела. Физическое пространство становится вторичным по значимости в сравнении с социально означенным.
Гипотеза исследования антрополога М. Оже состоит в том, что сегодня понятие пространства рассматривается как ментальная конструкция. Пространства, созданные в соответствии с определенными целями (транспорт, транзит, торговля, развлечения), не являются антропологическими местами, они есть новые социальные пространства – «не-места».
Таким образом, в середине XX в. социальные смыслы изменили отношение к пространству окончательно – обусловили «пространственный поворот». Л.Е. Бляхер отмечает, что важным фактором для этого поворота стали географические исследования, которые изменили подход к рассмотрению пространства – в обиход была введена позиция наблюдателя. Другим немаловажным фактором стало усложнение понятия пространства, увеличение его смыслового многообразия и рассмотрение в различных дискурсах.
Список исследований, используемый в описании понятия социального пространства, отражает небольшую часть существующих работ, но видится нам базовым и критически необходимым для определения категории такового.
Список литературы Категория социального пространства в истории социально-философской мысли
- Аристотель. Физика // Философы Греции основы основ: логика, физика, этика / пер. В.П. Карпова. Харьков, 1999.
- С. 589–749.
- Бляхер Л.Е. Пространственный̆ поворот в социологии: новые инструменты и новые проблемы // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2022. № 1 (60). C. 10–18. https://doi.org/10.24866/1998-6785/2022-1/10-18.
- Ванчугов В.В. Москвософия и Петербургология. Философия города. М., 1997. 222 с.
- Вирт Л. Урбанизм как образ жизни / пер. с англ. М., 2016. 108 c.
- Декарт Р. Рассуждения о методе; Начала философии; Страсти души / пер. с фр. М., 2019. 560 с.
- Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / пер. с фр. А. Апполонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. М., 2018. 732 с.
- Кант И. Критика чистого разума. М., 1999. 655 с.
- Лейбниц Г.-В. Сочинения: в 4 т. М., 1982. Т. I. 636 c.
- Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. И. Стафф. М., 2015. 405 с.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонова. М., 1992. 542 с.
- Тит Лукреций Кар. О природе вещей / пер. с лат. Ф. Петровского. М., 1983. 383 с.
- Филиппов А.Ф. Элементарная социология пространства // Социологический журнал. 1995. № 1. С. 45–69.
- Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2006. Ч. 3. C. 191–205.
- Чернявская О.С. Социальное пространство: обзор теоретических интерпретаций // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 5. С. 329–335.
- Simmel G. Der Raum und die raumlichen Ordnungen der Gesellschaft // G. Simmel Gesamtausgabe. Bd. 11. Soziologie. Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung / Hrsgg. v. O. Rammstedt. Frankfurt a.M., 1992. S. 687–790. (на нем. яз.).