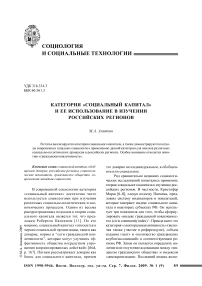Категория «социальный капитал» и ее использование в изучении российских регионов
Автор: Анипкин Михаил Александрович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется категория социального капитала, а также демонстрируются подходы современных западных социологов к применению данной категории для анализа различных социально-политических процессов в российских регионах. Особое внимание отводится понятию «гражданская вовлеченность».
Социальный капитал, обобщенное доверие, российские регионы, социологические показатели, гражданское общество, современная западная социология
Короткий адрес: https://sciup.org/14974310
IDR: 14974310 | УДК: 316.334.3
Текст научной статьи Категория «социальный капитал» и ее использование в изучении российских регионов
В современной социологии категория «социальный капитал» достаточно часто используется социологами при изучении различных социально-политических и экономических процессов. Одним из весьма распространенных подходов к теории социального капитала является тот, что предложен Робертом Патнемом [11]. По его мнению, социальный капитал «относится к чертам социальной организации, таким как доверие, нормы и “сети гражданской вовлеченности”, которые могут улучшать эффективность общества посредством упрощения координированных действий» [ibid, p. 167]. Патнем рассматривает доверие как базис для социального капитала, причем это доверие не индивидуальное, а обобщенное или социальное.
Ряд сравнительно недавних социологических исследований попытались применить теорию социального капитала к изучению российских регионов. В частности, Кристофер Марш [6–8], следуя подходу Патнема, предложил систему индикаторов и показателей, которые замеряют индекс социального капитала в некоторых субъектах РФ. Он использует три показателя для того, чтобы сформулировать «индекс гражданской вовлеченности» (civic community index) 1. Прежде всего это категория «электоральная активность» (включая также участие в референдуме), «объем издания газет» и «количество гражданских клубов/ассоциаций» в соответствующем регионе РФ. Затем он пытается определить наличие или отсутствие ассоциации между «индексом гражданского общества» и индексом «демократизации». Последний индекс вклю- чает в себя показатели электоральной активности и состязательности на президентских и парламентских выборах в регионах Российской Федерации. Это позволяет Маршу проанализировать взаимодействие между социальным капиталом и демократией.
В ходе своего исследования Марш приходит к выводу, что «во многих российских регионах наблюдается высокий уровень индекса гражданской вовлеченности и, таким образом, там должны быть запасы социального капитала, поскольку социальный капитал зарождается в очагах гражданской вовлеченности» [7, p. 190]. В процессе проведения статистического анализа Марш замеряет уровень ассоциации между социальным капиталом и демократией в России посредством корреляции индекса гражданской вовлеченности и индекса демократизации. Он приходит к выводу, что существует видимое линеарное взаимодействие между этими двумя индексами. Иными словами, в тех регионах, где оказался высокий индекс гражданской вовлеченности, также наблюдается и высокий индекс демократизации и, наоборот, там, где есть низкий показатель индекса гражданской вовлеченности, наблюдается низкий индекс развития демократии [ibid, p. 194].
Используя эти данные, Марш полемизирует с теми, кто не допускает возможность достаточно высокого уровня развития социального капитала в России. В частности, он не согласен с той картиной, которую рисует Т. Колтон [3], в соответствие с которой в России существует низкий уровень доверия, следовательно, нет и достаточного развития социального капитала. Марш пытается демонстрировать доказательства обратного – сравнительно высокого уровня доверия и социального капитала в России. Несмотря на то что индекс доверия не замерялся в ходе его эмпирического исследования, он ссылается на монографию А. Леденевой, посвященную исследованию феномена блата в России [5]. Именно там он находит теоретическую поддержку своей гипотезы о сравнительно высоком уровне развития доверия в российском обществе. Марш полагает, что российское явление блата очень близко к категории доверия. Иначе говоря, он считает, что блат можно представить как своеобразную российскую форму социального капитала [7, p. 186–187].
Я полагаю, что подобное утверждение представляется не совсем верным. По моему мнению, блат не может интерпретироваться как российский вариант социального капитала, по крайней мере исходя из теории Роберта Патнема. Я полагаю, что российское понятие блата и идея доверия едва ли могут пониматься одинаково, поскольку они принадлежат разным сферам. В контексте социологических теорий, представленных в настоящей статье, доверие по отношению к социальным институтам или согражданам предполагает деперсонифицированный или обобщенный подход. Это то, что Патнем называет «обобщенной взаимностью». Таким образом, по его мнению, социальный капитал является «общим благом» (public good), нежели чем исключительно индивидуальным. В то время как блат это не «обобщенная взаимность», а всегда персонифицированная взаимность, поскольку она привязана к конкретному человеку или к кому-то, кто все равно «номинирован» конкретным лицом. В этом смысле блат всегда привязан к определенной личности и не является «обобщенной взаимностью». В то время как, например, в устоявшихся гражданских обществах доверие друг другу или властям существует не потому, что, допустим, мэр какого-то города является чьим-то соседом или знакомым, а потому, что существует обобщенное доверие к системе организации муниципальной власти. Или, скажем, кто-то доверяет полиции не потому, что у него/нее есть знакомый полицейский офицер, а потому, что просто существует доверие по отношению к институту полиции в целом. Думается, излишне здесь приводить примеры доверия по отношению к милиции в России, поскольку известно, что это один из самых низко оцениваемых с точки зрения доверия институтов. Или, например, вы можете просто изначально доверять незнакомому человеку в поезде и попросить его или ее последить за вашими вещами, пока вы отлучитесь в вагон-ресторан. В этом случае доверие, разумеется, имеет форму межличностной интеракции, о чем пишет Штомпка [13], но по своей сути оно есть результат и характеристика существующей системы социальных институтов, таких как право, мораль, частная собственность, государство и т. д. Что очень важно: эти отношения не основаны на материальной или контрактной взаимности, как в случае с блатом. Следует отметить, что существует гипотеза, в соответствии с которой во всех так называемых «посткоммунистических» обществах наблюдается недостаток доверия по отношению к социальным институтам [9].
Итак, блат – это всегда персонифицированное взаимодействие, которое предполагает товарно-денежные отношения или, я бы сказал, отношения «товар – связи – товар» или «связи – товар – связи», или «связи – связи’». Иными словами, чтобы осуществлять взаимодействие, основанное на блате, необходимо иметь нечто, что может быть отдано взамен, на чем и основана личная взаимность. Это могут быть деньги, связи или просто моральная поддержка. Блат ставит вас в зависимость от конкретного человека. Именно по этим причинам блат не может быть аналогом доверия в контексте теории Р. Патнема. Представляется также нелишним заметить, что в русском языке понятие блат имеет скорее негативную коннотацию и является феноменом, к которому относятся с неким критицизмом (это, однако, не мешает ему процветать).
Таким образом, я хотел бы солидаризироваться с Ричардом Роузом [12], который, по моему мнению, предложил более адекватное понимание блата, нежели Марш. Роуз видит блат как характеристику «до-современ-ного» (pre-modern) или даже «анти-современного» (anti-modern) социального капитала. Таким образом, это не тот социальный капитал, который концептуализировал Роберт Пат-нем, а некий специфический, не совсем современный.
Теория социального капитала нашла свое отражение и в других прикладных социологических исследованиях, направленных на анализ процессов в российских регионах. В частности, Джудит Твиг [14] предложила свою шкалу измерения социального капитала для компаративного анализа различных российских регионов. Она использовала более усложненную шкалу измерения, нежели Марш. В силу отсутствия данных, непосредственно характеризующих социальный капи- тал в России, автор сама конструирует показатели, основываясь на официальных статистических данных. Поскольку в основе социального капитала лежит доверие, она предложила четыре показателя, которые, по ее мнению, определяют уровень доверия в регионах: «уровень преступности», «культура», «семья» и «работа».
Уровень преступности , по мнению Твиг, является заместителем показателя «доверие». Она полагает, что чем ниже уровень преступности, тем выше вероятный индекс доверия [14, p. 171]. Несмотря на то что подобное утверждение может быть подвергнуто вполне обоснованной критике, сама идея использования уровня преступности при конструировании индекса социального капитала представляется весьма интересной. Культура указывает на уровень вовлеченности в культурные события и косвенно также определяет развитие доверия [ibid, p. 173]. Стабильность и прочность семьи в соответствующих российских регионах также может измерять доверие и, соответственно, развитие социального капитала, по мнению Д. Твиг [ibid, p. 175]. Работа замеряет доверие в смысле стабильности рабочего места и комфорта во взаимоотношениях среди коллег [ibid].
Также исследователь использует шесть дополнительных индикаторов социального капитала, в частности, коммуникацию, гражданскую вовлеченность, политическую вовлеченность, здоровье, сетку безопасности (safety net) и институты высшего образования .
Категория коммуникации измеряет такой важный параметр социального капитала, как сеть связи граждан в местном сообществе. Гражданская вовлеченность – это классический показатель социального капитала, который указывает на вовлеченность людей в неправительственные ассоциации или организации. Политическая вовлеченность измеряется посредством электоральной активности во время выборов. Что касается показателя здоровье, то Твиг полагает, что «значительное количество исследований продемонстрировало, что высокий уровень социального капитала способствует хорошему здоровью, делая показатели здоровья эф- фективным заместителем социального капитала» [14, p. 177]. Это довольно интересное наблюдение. К нему также можно отнестись критически, однако следует принимать во внимание, что было проведено специальное исследование относительно установления корреляции между показателями социального капитала и уровнем смертности [4]. Авторы этого исследования обнаружили, что существует ассоциация между социальным капиталом и уровнем смертности. Таким образом, показатель здоровья выглядит не так наивно, как кажется на первый взгляд, в исследовании социального капитала в российских регионах. Показатель сетки безопасности измеряет распределение дохода среди различных социальных категорий в каждом из исследуемых российских регионов. Показатель институтов высшего образования, по мнению автора, может свидетельствовать об уровне межличностной коммуникации и, соответственно, замерять уровень социального капитала. По ее мнению, университеты и другие вузы являются «общественными площадками», где люди имеют дополнительные возможности для обмена своими идеями [ibid, p. 179]. Думается, что этот показатель, конечно, представляет интерес, с точки зрения социолога. Вместе с тем следует заметить, что в России вузы вряд ли играют роль тех «публичных площадок», которыми действительно могут быть университеты в англосаксонской академической традиции. В российский вуз сейчас без пропуска-то трудно зайти, не говоря уже о мифической роли «публичной площадки». Несмотря на это критическое замечание, думаю, что такой показатель, как процент людей, имеющих высшее образование, может опосредованно использоваться для анализа развития социального капитала.
В результате исследования Твиг пришла к любопытному выводу: «...представляется, что изучение определенных экономических и политических характеристик регионов вверху и внизу рейтинга социального капитала вряд ли обладает серьезной объясняющей ценностью... Другими словами, политическая ситуация и уровень благополучия в регионе вряд ли серьезно влияют на индекс социального капитала» [14, p. 187]. Автор приводит в ка- честве примера сравнительно бедную в экономическом плане Орловскую область, где одновременно был замерен достаточно высокий индекс социального капитала. Твиг полагает, что это, возможно, напрямую связано с личностью главы региона («сильный губернатор»). Вместе с тем она специально не исследовала корреляцию между личностью губернатора и индексом социального капитала, поэтому подобные выводы носят гипотетический характер.
Оба автора, Марш и Твиг, сформировали рейтинг российских регионов по их приближенности к «идеальному типу» социального капитала. При сравнении этих рейтингов можно увидеть, как в некоторых случаях отличаются их данные. Например, Марш помещает Татарстан среди тех регионов, которые имеют самый низкий индекс социального капитала [7, p. 190], в то время как Твиг, наоборот, упоминает этот регион в числе пятнадцати субъектов Федерации, которые имеют самый высокий индекс социального капитала. Причем она дает таблицы по 1993, 1996 и 1999 годам, где во всех рейтингах Татарстан входит в число «верхних» по этому показателю [14, с. 181]. Среди них, кстати, также помещен и Башкортостан. Я полагаю, что Марш, скорее всего, более близок к истине со своим рейтингом, поскольку вряд ли кто-либо из профессиональных российских социологов поместит довольно авторитарные Татарстан с Башкортостаном среди регионов с высоким уровнем развития гражданского общества. В остальных случаях рейтинги Марш и Твиг не вызывают серьезных критических замечаний. У других авторов также встречаются различные подходы к установлению рейтинга регионов по основанию развития социального капитала. Например, Н. Петро [10] говорит о Новгородской области как об удачной модели с высоким уровнем развития социального капитала, в то время как Марш и Твиг помещают этот регион в число весьма средних по этому показателю.
Некоторая разница в итоговых данных может быть объяснена, на мой взгляд, нео-тработанностью методики. Полагаю, что здесь мы видим классический пример слабости количественного метода при анализе довольно сложной социальной категории, которая к тому же не была до сих пор предметом серьезного рассмотрения среди российских социологов. В соответствии с классической методологией проведения прикладных социологических исследований, в ситуации слабой изученности интересующего нас социального феномена необходимо сначала использовать качественные методы для более ясного представления о показателях, которые затем будут измеряться в ходе количественного анализа. Кроме того, представляется необходимым заметить, что было бы весьма плодотворным использовать не вторичные данные, но также провести социсследование «в поле» на базе «пилотного» региона для предварительной апробации методики.
Вместе с тем возможные критические замечания ни в коей мере не умаляют значительность результатов исследований социального капитала, которые были предприняты до сих пор на примере российских регионов. Важно то, что упомянутые исследователи попытались предложить определенную теоретическую схему, специально адаптированную к России, для анализа сложных социальных процессов в регионах через призму категории «социальный капитал». Нет сомнений, что методика, предложенная Марш и Твиг, имеет очень хороший потенциал для дальнейшего совершенствования и применения. Этот вывод может быть подкреплен постоянно увеличивающимся количеством публикаций, посвященных исследованию социального капитала в бывших республиках СССР (cм.: [1; 2; 10; и др.). Сама концепция социального капитала, по моему мнению, весьма эвристична для дальнейшего творческого применения при изучении сложнейших социально-политических процессов в России.
Список литературы Категория «социальный капитал» и ее использование в изучении российских регионов
- Aberg, M. Putnam's Social Capital Theory Goes East: A Case of Western Ukraine and L'viv/M. Aberg//Europe-Asia Studies. 2000. Vol. 52, № 2. P. 295-317.
- Buttrick, S. Russia's Missing Link? Social Capital, Entrepreneurialism, and Economic Performance in Post-Communist Russia/S. Buttrick, J. Moran//Communist and Post-Communist Studies. 2005. № 38. P. 357-368.
- Colton, T. Moscow: governing the socialist metropolis/T. Colton. Cambridge; Massachusetts; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1995. 939 р.
- Kennedy, B. The Role of Social Capital in the Russian Mortality Crisis/B. Kennedy, I. Kawachi, E. Brainerd//World Development. 1998. Vol. 26, № 11. Р. 2029-2043.
- edeneva, A. Russia's economy of favours: Blat, networking and informal exchange/А. Ledeneva. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 235 р.
- Marsh, C. Making Russian Democracy Work/С. Marsh. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2000. 202 р.
- Marsh, C. Social Capital and Democracy in Russia/С. Marsh//Communist and Post-Communist Studies. 2000. № 33. P. 183-199.
- Marsh, C. Social Capital and Grassroots Democracy in Russia's Regions: Evidence from the 1999-2001 Gubernatorial Elections/С. Marsh//Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratisation. 2002. Vol. 10, issue 1. P. 19-36.
- Mishler, W. Trust, Distrust and Skepticism: Popular Evaluation s of Civil and Political In stitution s in Post-Communist Societies/W. Mishler, R. Rose//Journal of Politics. 1997. Vol. 59, № 2. Р. 418-451.
- Petro, N. Creating Social Capital in Russia: The Novgorod Model/N. Petro//World Development. 2001. Vol. 29. № 2. Р. 229-244.
- Putnam, R. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy/R. Putnam. Princeton: Princeton University Press, 1993. 258 p.
- Rose, R. Uses of Social Capital in Russia: Modern, Pre-modern, and Anti-modern/R. Rose//Post-Soviet Affairs. 2000. № 16 (1). Р. 33-57.
- Sztompka, P. Trust: a sociological theory/Р. Sztompka. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 214 p.
- Twigg, Judith L. Social Capital/Judith L.Twigg//Russia's Regions; eds. Judith L. Twigg and K. Schecter. Social Capital and Social Cohesion in PostSoviet Russia. M.E. Sharpe, Ink., Armonk, 2003. Р. 168-188.