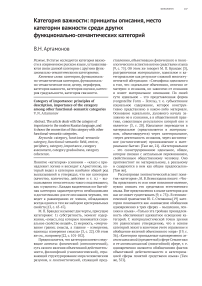Категория важности: принципы описания, место категории важности среди других функционально-семантических категорий
Автор: Артамонов Владимир Николаевич
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 4 (18), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется категория важности в современном русском языке, устанавливаются связи данной категории с другими функционально-семантическими категориями.
Категория, функционально-семантическая категория, функционально-семантическое поле, центр, периферия, категория важности, категория оценки, категория градуальности, категория связности
Короткий адрес: https://sciup.org/14219718
IDR: 14219718
Текст научной статьи Категория важности: принципы описания, место категории важности среди других функционально-семантических категорий
Понятие «категория» (синоним – «класс») принадлежит логике и восходит к Аристотелю, который видел в категории наиболее общий род высказываний и утверждал, что все категории (качество, количество, действие и т. п.) – высказывания относительно такого подлежащего, как «сущность». Каждая выделенная им бытийная категория характеризуется необходимыми и достаточными для ее опознания чертами, что ведет к равноправию ее членов, обладающих всегда одним и тем же набором критериальных свойств [13, с. 45-47].
М. П. Брандес называет две черты, присущие категориям: 1) субстратность, момент содержания, «смысл, под которым понимается социальное свойство вещей», 2) мерность, «очерчивание границ смысла, а главное – измерение, единицы измерения смысла» [3, с. 22]. Об этом же см., например [22, с. 101-102].
Предполагается, что категории имеют следующие аспекты: физический (онтологический), суть самого явления объективной действительности, философский (гносеологический), отражающий структурирование мира человеческим разумом, и лингвистический, служащий пред- ставлению, объективации физического и гносеологического аспектов всеми средствами языка [9, с. 75]. Об этом же говорит М. П. Брандес [3], разграничивая материальное, идеальное и категориальное как результат сложной многоступенчатой абстракции: «Специфика идеального в том, что «идеальное объективно, отлично от материи и сознания, но зависимо от сознания и имеет материальное основание. По своей сути идеальное – это представленная форма (vorgestellte Form – Гегель), т. е. субъективное социальное содержание, которое конструктивно представлено в каком-либо материале. Основание идеального, духовного начала заложено не в сознании, а в общественной практике, совокупным результатом которой оно и является» [3, с. 20]. Идеальное переводится в материальное (представляется в материальном, объективируется) через категориальное, «через деятельность сознания, через когнитивное (онтологическое) проникновение в материальное бытие» [Там же, 21]. «Категориальное – это сконструированное идеальное, общее, которое связано с актуальным переживанием, свойственным общественному человеку. Оно противостоит не материальному, а реальному и содержится в нем как общие предпосылки» [Там же].
Рассматривая лингвистический аспект понятия «категория», М. В. Всеволодова пишет: «Чтобы представить то или иное познанное явление, нужно описать его средствами естественного языка. Вне представления в языке категория для нас не может существовать [9, с. 75]». В семиоло-гической грамматике Ю. С. Степанова [19] категории понимаются как «наивысшие обобщения одновременно в трех сферах – мышления, психики и языка». «Только эта тройная принадлежность обеспечивает адекватное освещение категорий. С материалистической точки зрения это равносильно утверждению, что в основе категорий лежит в конечном счете отражение и обобщение явлений объективного мира» [19, c. 36]. «Категории принадлежат одновременно экстенсиональной (предметной) сфере Семантики и ее интенсиональной (понятийной) сфере, т. е. одновременно являются обобщениями фактов объективной действительности и категоризацией сферы понятий средствами языка» [Там же, 353].
Т. В. Булыгина и С. А. Крылов под языковой категорией – в широком смысле – понимают «любую группу языковых элементов, выделяемую на основании какого-либо общего свойства; в строгом смысле – некоторый признак (параметр), который лежит в основе разбиения обширной совокупности однородных языковых единиц на ограниченное число непересекаю-щихся классов, члены которых характеризуются одним и тем же значением данного признака (например, «Категория падежа», «Категория одушевленности / неодушевленности», «Категория вида», «Категория глухости / звонкости»)» [25, с. 215-216]. В зависимости от состава категоризуемого множества, характера категоризующего признака и отношения данного признака к классам разбиения выделяются различные типы категорий: фонологические, грамматические, синтаксические, лексико-семантические, словообразовательные и др. категории [Там же].
Различают грамматические и понятийные (семантические) категории [6]. Грамматические (главным образом, морфологические) категории являются наиболее разработанными в лингвистике. На них базируются понятийные категории. В [19, с. 134] предлагается следующим образом разграничивать понятийные и грамматические категории: «Если категория в языке выражена морфологически явно недостаточно, то о ней можно говорить лишь как о категории понятийной, но не о категории грамматической».
К наиболее обобщенным категориям относятся аспектуальность, темпоральность, модальность, персональность, залоговость, качественность, количественность, локативность, посессивность, бытийность, процессность, длительность, футуральность, пассивность [4, с. 135], гиперкатегория «отношение» [23, с. 111116], связность [20, с. 59-68]. В конкретном языке понятийные категории реализуются в виде функционально-семантических категорий, или функционально-семантических полей (ФСП). А. В. Бондарко следующим образом определяет ФСП: «ФСП – это система разноуровневых средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, а также комбинированных – лексико-синтаксических и т. п.), взаимодействующих на основе общности их функций, базирующихся на определенной семантической категории» [25, с. 566-567].
Пока нет ни обоснованной языковым материалом классификации ФСП, ни полного описания какого-либо одного ФСП [9, с. 77]. Как рабочая гипотеза предложена А. В. Бондарко [3, с. 309-318] классификация ФСП в соответствии с основными средствами выражения тех или иных отношений, однако «между группировками нет жестких границ <…> и эти группировки не исчерпывают всех возможных смыслов», т. е. «эту классификацию можно принять как исходную для дальнейших исследований» [9, с. 79-80].
Принципы описания функционально-семантических категорий находятся в настоящее время в стадии разработки. Так, предприняты попытки описания таких функционально-семантических категорий, как, например: аспектуальность, темпоральность [24], персональность, залоговость [4], градуальность [12], оценка [2]; [8]; [15].
Системный подход к анализу функционально-семантических категорий предполагает освещение следующих вопросов, отражающих взаимосвязанные стороны языковой категоризации: а) соотношение моносистем-ного (системно-дифференцирующего) и поли-системного (системно-интегрирующего) типов системного анализа; б) взаимодействие системы и среды при реализации значений и функций языковых единиц; в) межкатегориальные связи; г) оппозиции и неоппозитивные различия в системе естественной классификации; д) стратификация семантики: значение и смысл; е) дихотомия инвариантности / вариативности; ж) аспекты системности, отражаемые в понятиях «центр – периферия – континуальность – частичные пересечения категорий», «полевая структура», «прототипы и их окружение» (см. об этом в [5, с. 299].
Исследуемая категория важности рассматривается нами как функционально-семантическая категория на основании 1) наличия градуальной оппозиции, представленной рядом однородных противопоставленных значений «важно – неважно», а также значениями, занимающими промежуточные ступени между названными, 2) существования специализированных средств выражения этой оппозиции на различных уровнях языковой системы и возможности описания средств выражения как системы с полевой структурой, имеющей центр и периферию.
Отнесение средств реализации категории важности к центральным или периферийным зависит от межкатегориальных связей.
Дело в том, что одни и те же языковые единицы в различных контекстах (ситуациях) могут служить средством реализации различных категорий, например, вводно-модальная единица – конечно – Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах, я, конечно, спою, не пройдет и полгода (Высоцкий) – служит в приведенном контексте для выражения уверенности говорящего в сообщаемом. Однако в следующем контексте: Прежде чем представлять царю девятую армию, надо было, конечно, познакомиться с нею самому, и Брусилов, приняв дела, отправился в Каменец (Сергеев-Ценский) – это же слово, наряду с модальным значением уверенности, передает и значение последовательности необходимых для Брусилова действий, причем подчеркнутое действие воспринимается как первостепенное в данной ситуации, т. е. реализуется категория важности. Этот пример показывает, что поле категории важности имеет «точки пересечения» с полем категории модальности. Вводно-модальную единицу – конечно – следует рассматривать как периферийное средство реализации категории важности. Оценочные же предикаты с семантикой важности (важно, неважно и т. д.), о которых пойдет речь в соответствующей главе, следует признать центральными средствами реализации категории важности, т. к. значение степени важности – их единственное значение.
Рассмотрим подробнее межкатегориальные связи категории важности.
Категория важности реализуется в тексте и в предложении, выполняя функцию маркирования единиц информации, входящих в информативный ряд, по степени важности, и имеет довольно широкий спектр средств выражения: от оценочных предикатов ( важно – не менее важно – менее важно – не важно и их синонимов) до союзов и их аналогов, кроме того, важность единиц информации может подчеркиваться особыми конструктивными и композиционными способами, а также невербальными средствами (интонацией, пунктуацией, шрифтом и т. п.).
Так как оппозиционные ряды «важно – не важно», «важно – не менее важно», «первостепенно – второстепенно – третьестепенно и т. д.» и синонимичные названным часто выражают авторскую оценку сообщаемой информации, т. е. могут представлять модусный план (модусную рамку) высказывания, то логично предположить, что категория важности входит в более широкое категориальное поле модуса или оценки, которое в свою очередь включено в поле модальности в широком понимании этого слова.
Не все исследователи включают оценку в модальность. Языковая модальность понимается 1) как прямая аналогия модальности суждения, которая, будучи семантической категорией, реализуется во всем составе предложения; 2) грамматическая категория, характеризующая ту или иную степень реальности или нереальности содержания высказывания (узкое понимание модальности); 3) грамматически выражаемое отношение говорящего к действительности, т. е. его отношение к содержанию речи, к собеседнику, к самому себе, к обстановке и форме речи (широкое понимание модальности). В последнем случае понятие «модальность» включает и эмоционально-экспрессивную оценку говорящего. Данное толкование очень популярно, оно получило разработку в трудах В. В. Виноградова [7], его придерживается значительное количество отечественных языковедов. Оценку как «один из видов модальностей, которые накладываются на дескриптивное содержание языкового выражения» трактует и Е. М. Вольф [8, с. 11]. В поле модальности включает оценку М. В. Всеволодова [9, с. 305-311], которая, разграничивая категории собственно модальности (объективной и внутрисинтаксической) и модуса как выражения субъективных, идущих от говорящего смыслов, выделяет следующие 4 класса модусных категорий: 1) метакатегории; 2) актулизационные; 3) квалификативные (оценочные); 4) социальные. В число квалифи-кативных категорий модуса (таких, как категории авторизации, персуазивности и др.) входит категория оценочности, которая очень разнообразна в плане содержания. М. В. Всеволодова выделяет два типа оценок: 1) аксиологические и 2) характеризующие. Аксиологическая оценка передает в первую очередь положительное или отрицательное отношение говорящего к сообщаемому факту в целом или к одному из компонентов ситуации, а разряд характеризующих оценок очень разнообразен, открыт, и, по нашему мнению, в него следует включить оценку по степени важности, т. е. интересующую нас функционально-семантическую категорию. Значение важности является, таким образом «частнооценочным», в отличие от общеоценочного или абсолютнооценочного значения «хорошо – плохо».
Отвлеченное имя существительное «важность», образованное от прилагательного – важный (от «вага» – тяжесть, тягота, вес, сила, важность, значение, стоимость [10, с. 159], выбрано для использования в качестве термина, называющего категорию, из ряда указанных в скобках синонимов, а также из – весомость, «главность» (от – главный), значимость, существенность, первостепенность и под. – не случайно. Предложенный М. В. Всеволодовой термин «оценка компонента типовой ситуации как главного» [9, с. 311], на наш взгляд, несколько сужен. Термин «важность» включает в себя полярные значения «важно – неважно» и все остальные значения между названными полюсами. Этим термином пользуются, не раскрывая, правда, его сущности [11, с. 61]; [16, с. 244], и некоторые другие исследователи. Отнести значение «важность» к разряду частнооценочных значений позволяет возможность описания категории важности (функционально-семантического и формального ее аспектов) через такие понятия, как субъект и объект оценки, оценочный предикат, классификатор и интенсификатор, шкала оценки, которые мы встречаем в работах, в той или иной степени посвященных оценке как категории [2]; [8]; [15] [17] и др.
Как оценочная категория важность имеет субъективно-объективный характер. С одной стороны, мы оцениваем события, ситуации по важности, соотнося эту оценку с какими-то объективными причинами, с общим мнением. Так, ключевыми, важными, событиями в жизни человека считаются, например: получение образования, вступление в брак, служба в армии, защита диссертации, решение квартирного вопроса и под., события, каким-либо образом влияющие на нашу судьбу (поэтому многие из этих событий отражаются в анкетных данных). С другой стороны, очень часто объективно важные события человек плохо помнит. Михаил Веллер в книге «Кассандра» пишет: «Главное в нашей жизни – не то, что обычно принято считать главным. Память – безапелляционный сортировщик: что помнится главным, сильным, острым – то ведь субъективно для человека и главное. А что забылось – того и нет для тебя. Главность событий наше сознание оценивает не по тому, насколько они повлияли на внешнюю судьбу. А по тому, насколько сильные ощущения доставили. Вся информация сортируется прежде всего по принципу силы ощущений». Эта цитата в пользу субъективного, или психологического (чувственного), основания оценки степени важности. Об этом же диалог из романа Орсона Скотта Карда «Сага о Вортинге»:
– … Начни сначала, с самого важного.
Сначала? С самого важного? Лэрд быстро перебрал в уме то, что помнил о жизни Язона. Что же здесь важно? С чего начать? Страх и боль – вот что казалось сейчас самым важным Лэрду, ведь в детстве своем он никогда и ничего не боялся и не испытывал боли, не то что сейчас. И важнее всего – первый страх, первая боль, которые Язон пережил, чуть не распрощавшись с жизнью из-за какой-то сданной на «отлично» контрольной работы.
Субъективный, или чувственный, аспект оценки степени важности соотносит эту категорию с такими модальными и оценочными категориальными значениями, как «обязательно – необязательно», «хорошо – плохо», «печально – радостно» и другими, т. е. имеет с этими значениями «точки пересечения», поэтому значения степеней важности могут выражаться с помощью названных лексем, наряду с основными для них значениями: самое необходимое, самое печальное, самое страшное и др., например: Война закончилась штурмом Выборга; за 105 военных дней наша армия потеряла около 300000 человек, но… Что выиграл Сталин?Ничего. Напротив, он проиграл: весь мир убедился в слабости его армии, коммунисты других стран не понимали, почему СССР оказался в роли агрессора, и, наконец, итог всей войны подвела Лига Наций – Советский Союз был исключен из числа ее членов как агрессивная держава. СССР оказался в политической изоляции. Но самое страшное , что война с Финляндией приблизила сроки нападения
Германии (Пикуль) – здесь оценочный предикат – самое страшное – с эмоциональной семантикой передает, наряду с эмоциями, значение важности: все итоги войны с Финляндией страшны (плохи) для СССР, но самое страшное (плохое) – т. е. главное из страшного – война с Финляндией приблизила сроки нападения Германии . Подобные примеры: – Что еще стряслось? – насторожился Чуянов. Он подумал о какой-нибудь аварии на заводах. – Выручай, – ответил Воронин. – Во всей области у тебя одного «бьюик» повышенной скорости. Дай нам, а? – Кого догонять? Или побег из тюрьмы? – Хуже , – сказал Воронин и рывком придвинув к себе стул, плотно уселся. – Из наркомата звонили. Кто-то из военных атташе Германии, фамилию не разобрал, вдруг рванул из Москвы на быстроходной машине… (Пикуль) («хуже» = «важнее»); Насмешливые рассказы придворных встревожили «мама» – вдовствующую императрицу Марию Федоровну <…> Самое печальное , что эти небылицы (как и впоследствии, в истории с Распутиным) шли из дворцов великих князей, обиженных фавором Николаевичей (Радзинский) («самое печальное» = «самое важное»).
Объективный аспект оценки степени важности соотносит важность с прагматической целе-установкой текста. Так, М. Я. Дымарский предлагает учитывать оппозицию «важно – неважно – нейтрально» при выделении «концептуально значимого смысла», основной единицы текста [11, с. 61] как одну из модальных оппозиций (имеется в виду модальность текста), связанную с такой глобальной категорией текста, как прагматическая целеустановка. Нечто является важным, так как «работает» на раскрытие темы, важность оправдывается (подтверждается) целеустановкой автора или целеустанов-кой текста, например: Рокоссовский (как и другие полководцы) уже побаивался летней кампании, а жестокие выводы Рокоссовского, сделанные им из опыта битвы под Москвою, потом были выброшены из его мемуаров рукою М. А. Суслова, ибо эти выводы никак не укладывались в привычную схему войны, облюбованную еще Сталиным и прилизанную его наследниками до нестерпимого блеска (Пикуль) – здесь жестокие выводы Рокоссовского выброшены (= неважны) из мемуаров , так как не отвечают целеустановке (правда не авторской, а редакторской / цензорской). Глагол – выбросить – обозначает действие – бросить , и направление – наружу [21, с. 432], важность как основание для совершения действия выбросить в значении «удалить, вычеркнуть из текста» в подтексте, т. е. данный глагол в функционально-семантическом поле категории важности находится, если не на периферии, то, по крайней мере, не относится к центральным средствам выражения категории важности.
Несомненна связь категории важности с категорией градуальности, так как градуирование информации по степени важности является функцией исследуемой категории. Конструкции с компаративом и суперлативом прилагательных с семантикой важности (важный, значимый, главный и др.), а также компаративом и суперлативом других оценочных прилагательных, входящих в грамматическое ядро категории градуальности, в функции оценочного предиката оказываются эталонными конструктивными способами реализации категории важности на уровне простого предложения. К средствам реализации категории важности относятся конструкции с градационными и присоединительными (градационно-присоединительными) союзами на уровне предложения и текста.
О связи категории важности с категорией связности – и в частности – с категорией зависимости – мы говорили во введении. Кроме того, об этом пойдет речь во второй главе в параграфе, посвященном понятию «информативный ряд». Но так или иначе следует признать, что отношения зависимости (как на уровне осложненного предложения – согласование, управление, примыкание, так и на уровне сложного предложения – подчинение) часто выражают и отношения по степени важности. Так, информация оборота обычно воспринимается как менее важная по сравнению с информацией основной части предложения, содержащей «примарную» [14] предикацию. Хотя здесь очень много зависит от позиции оборота в предложении, его распространенности и некоторых других факторов. В любом случае совпадение зависимого положения информативных единиц и их меньшей важности, оказывающиеся точкой пересечения этих двух категорий, относится к периферии способов реализации категории важности. Что касается связности как категории текста, то «многие средства связи самостоятельных предложений не только выполняют синтаксическую функцию (соединение предложений), но осложнены другими задачами (оценка, комментирование, авторское отношение к излагаемому и др.)…» [18, с. 6]. Как видим, оценка – одна из дополнительных функций средств связи, поэтому средства связи высказываний в сверхфразовых единствах, сверхфразовых единств в составе фрагментов текста и т. п. будут относиться к периферии категории важности, если оценка по степени важности является их дополнительной функцией.
Таким образом, категория важности, входя в поле функционально-семантической категории оценки (что доказывается ее функцией и возможностью описать эту категорию, используя оценочные понятия), имеет точки пересечения как с другими оценочными категориями, так и с категориями: градуальность, прагматическая целеустановка, связность. Языковые единицы, единственное назначение которых – передача степени важности, являются центральными в функционально-семантическом поле категории важности, а языковые единицы, для которых значение степени важности не является основным, а выявляется в особых контекстах, следует считать периферийными средствами реализации категории важности.
В нашей работе [1] категория важности введена в спектр лингвистических интересов. Необходимо дальнейшее исследование как центральных, так и периферийных средств реализации категории важности в современном русском языке. Считаем перспективными такие направления, как функционально-стилистическая дифференциация средств категории важности; разработка на базе материалов названного исследования компьютерных программ по редактированию текстовых документов с позиций категории важности; обращение лингвистов к таким понятиям, как синонимия, омонимия и антонимия применительно к оценочным суперпредикатам и гиперпредикатам с семантикой важности (возможно составление словаря средств реализации категории важности на уровне предложения и текста).
Список литературы Категория важности: принципы описания, место категории важности среди других функционально-семантических категорий
- Артамонов В.Н. Реализация категории важности в предложении и в тексте. Ульяновск: УлГТУ, 2006. 200 с.
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова. М.: «Языки русской культуры», 1999. 896 с.
- Брандес, М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: учебник. М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. 416 с.
- Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2002. 736 с.
- Бондарко А.В. О системном подходе в исследовании языковых значений//Русский язык: исторические судьбы и современность: II Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы/Составители М. Л. Ремнева, О. В. Дедова, А. А. Поликарпов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 299.
- Булыгина Т.В. Грамматические и семантические категории и их связи//Аспекты семантических исследований. М.: Наука, 1980. С. 320-355.
- Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения (На материале русского языка)//Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. С. 254 -294.
- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Едиториал УРСС, 2002. 280 с.
- Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент прикладной педагогической модели языка: учебник. М.: Изд-во МГУ, 2000. 502 с.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1: А-З. 1989. 699 с.
- Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.). М.: Эдиториал УРСС, 2001. 328 с.
- Колесникова С. М. Семантика градуальности и способы ее выражения в современном русском языке. М.: МПУ, 1998. 180 с.
- Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. 245 с.
- Лекант П.А. Виды предикации и структура простого предложения//Лингвистический сборник МОПИ им. Н. К. Крупской. М., 1975. Вып. 4. С. 70-80.
- Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке: учебное пособие по спецкурсу. М: МПУ, 1993. 126 с.
- Николина Н.А. Филологический анализ текста: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 256 с.
- Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: учебник для студентов-журналистов и филологов. М.: Едиториал УРСС, 2002. 368 с.
- Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. М.: КомКнига, 2006. 232 с.
- Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения (семиологическая грамматика). М.: Едиториал УРСС, 2002. 360 с.
- Сыров И.А. Функционально-семантическая классификация заглавий и их роль в организации текста//Филологические науки. 2002. № 3. С. 59-68.
- Толковый словарь русского языка: В 4 т./Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: ОГИЗ, 1935-1950.
- Фрумкина Р.М. Психолингвистика: учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 320 с.
- Химик В.В. Отношение как гиперкатегория лингвистики//Русский литературный язык: номинация, предикация, экспрессия. М.: МАНПО, 2002. С. 111-116.
- Шаповалова Т.Е. Категория синтаксического времени в русском языке. М.: МПУ, 2000. 151 с.
- Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с.