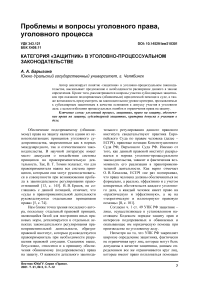Категория «защитник» в уголовно-процессуальном законодательстве
Автор: Барыгина Александра Анатольевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса
Статья в выпуске: 3 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует понятие «защитник» в уголовно-процессуальном законодательстве, высказывает предложение о необходимости расширение данного в законе определения. Кроме того, рассматриваются вопросы участия субсидиарных защитников при оказании подозреваемым (обвиняемым) юридической помощи в суде, а также возможность предусмотреть на законодательном уровне критерии, предъявляемые к субсидиарным защитникам в качестве основания к допуску участия в уголовном деле, с целью избегания процессуальных ошибок и ограничения права на защиту.
Уголовный процесс, защитник, право на защиту, обеспечение права на защиту, субсидиарный защитник, критерии допуска к участию в деле
Короткий адрес: https://sciup.org/147235302
IDR: 147235302 | УДК: 343.121 | DOI: 10.14529/law210301
Текст научной статьи Категория «защитник» в уголовно-процессуальном законодательстве
Обеспечение подозреваемому (обвиняемому) права на защиту является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, закрепленным как в нормах международного, так и отечественного законодательства. В научной литературе имеет место дискуссия о воздействии системы принципов на правоприменительную деятельность. Так, В. Т. Томин полагает, что для правоприменителя важна вся система принципов, которыми они могут руководствоваться в совокупности при возникновении пробела в законодательном регулировании правоотношений [13, c. 145]. В. В. Ершов, не соглашаясь с данной позицией, отмечает, что «суды в правоприменительной деятельности руководствуются отдельными принципами права» [5, c. 74].
Нам ближе точка зрения последнего автора, поскольку отдельный правовой принцип, являющийся базой для построения иных правовых норм, детализируется в отдельных аспектах законодательного регулирования правоприменительной деятельности, образует правовой институт, которым руководствуется правоприменитель при необходимости разрешения правовой ситуации. Сказанное выше, безусловно, относится и к принципу обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту. О важности детального законода- тельного регулирования данного правового института свидетельствуют практика Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), правовые позиции Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. Именно от того, как данный правовой институт раскрывается в нормах уголовно-процессуального законодательства, зависит и фактическая возможность его реализации в правоприменительной деятельности. Как верно отмечает О. В. Качалова, ЕСПЧ «не раз подчеркивал, что права человека должны обеспечиваться не формально, а реально, эффективно и с учетом конкретных обстоятельств каждого уголовного дела, а каждый человек имеет право на «практическую и эффективную», а не на «теоретическую и иллюзорную» правовую помощь» [8, c. 101].
Согласно ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник – лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.
Несмотря на то, что УПК РФ закрепляет широкое определение защитника, фактически не ограничивая круг лиц, которые могут быть допущены в качестве защитника, данным определением все же ограничивается круг лиц, которые имеют право пользоваться помощью защитника. Фактически законодатель их сводит только к фигуре подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Как верно отмечает А. П. Рыжаков, «защитник полагается не только подозреваемым и обвиняемым, но и всем лицам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование» [11].
Пленум Верховного Суда РФ в п. 17 Постановления от 31 октября 1995 г. № 8 еще до принятия УПК РФ отмечал важность предоставления квалифицированной юридической помощи иным лицам, в отношении которых осуществляется фактическое уголовное преследование. В частности в указанном Постановлении было отмечено: «Каждый гражданин, в отношении которого осуществляется фактическое уголовное преследование, имеет право с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, пользоваться помощью защитника. При нарушении данного конституционного права все объяснения лица, в отношении которого проводилась доследствен-ная проверка, показания подозреваемого, обвиняемого, а также и результаты следственных и любых иных процессуальных действий, произведенных с участием таких лиц, должны рассматриваться судами как доказательства, полученные с нарушением закона».
Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался о том, что УПК РФ прямо предусматривает участие защитника в уголовном деле с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводятся действия, свидетельствующие о наличии подозрения в совершении преступления (Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2008 г. № 851-О-О). В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П была сформулирована правовая позиция, в соответствии с которой «конституционное право на помощь адвоката (защитника) не может быть ограничено федеральным законом. Это означает, что применительно к обеспечению данного права понятия «задержанный», «обвиняемый», «предъявление обвинения» должны толковаться в их конституционно-правовом, а не в придаваемом им уголовно-процессуальным законом более узком смысле».
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что норма, закрепляющая определение защитника, нуждается в изменении. В связи с этим предлагаем изложить ч. 1 ст. 49 УПК РФ в следующей редакции: «Защитник - это лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также иных лиц, в отношении которых осуществляется фактическое уголовное преследование, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу».
Часть 1 ст. 48 Конституции РФ закрепляет право подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления получить квалифицированную юридическую помощь. Фактически законодатель под этим термином предполагает обеспечить каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления защитником-адвокатом. Однако в уголовнопроцессуальном законодательстве предусмотрен институт субсидиарной защиты, который, на наш взгляд, закреплен в ч. 2 ст. 49 УПК РФ. Законодатель предоставил подозреваемому и обвиняемому помимо профессионального защитника в суде пригласить в качестве защитника близкого родственника либо иное лицо. В связи с этим можно сделать вывод о том, что в качестве защитников в ходе судебного разбирательства по уголовному делу могут быть допущены: лица, имеющие близкие и далекие родственные связи (супруг (супруга), отец, мать, сын, дочь, усыновитель, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук(ка)); иные лица, хорошо знакомые подсудимому; иные лица, к которым он обратился за оказанием юридической помощи.
К такой возможности расширения лиц, допускаемых в качестве защитников, ученые-процессуалисты относятся неоднозначно. Например, Ю. В. Францифоров отмечает, что допуск субсидиарного защитника не обеспечит подсудимого квалифицированной юридической помощью [14, c. 51–55], такого же мнения придерживается С. П. Желтобрюхов [6, с. 49-51], В. М. Быков [3, с. 47], А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский [12, с. 142], а также многие другие авторы. Большинство ученых при этом ссылаются на неспособность субсидиарных защитников оказать квалифицированную юридическую помощь в процессе рассмотрения уголовного дела.
Среди сторонников института субсидиар- ной защиты в уголовном судопроизводстве можно выделить О. А. Зайцева и Д. В. Емельянова [7, c. 81], В. Н. Буробина [1, c. 333], Е. М. Берсенева [2, c. 50–54] и О. В. Невскую [9, c. 49], которые говоря, о важности и необходимости института субсидиарной защиты, приводят разные аргументы. Однако в одном позиции авторов совпадают: институт субсидиарной защиты соответствует международным стандартам и обеспечивает укрепление функции защиты в уголовном судопроизводстве России, которая по сравнению с функцией обвинения имеет ограниченный механизм реализации.
Обращаясь к международному законодательству, отметим, что общепризнанные нормы и принципы международного права дают возможность при реализации права на защиту приглашать выбранного им защитника и пользоваться его услугами. В частности это положение закреплено в п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и п. «b» и «d» ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.). Как было отмечено на восьмом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, одним из основных принципов уголовного судопроизводства является возможность обвиняемого обратиться к любому юристу (в том числе к лицам, выполняющим функции юристов) за помощью для отстаивания и защиты его прав на всех стадиях уголовного разбирательства.
Части 1, 2 ст. 48 Конституции РФ в данном случае ограничивают круг лиц, которые могут быть допущены в качестве защитника, закрепляя, что право на защиту должно быть обеспечено квалифицированной юридической помощью, и с момента задержания лицо может пользоваться только помощью защитника-адвоката. При этом Конституционный Суд РФ придерживается следующей правовой позиции: «Конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической помощи нельзя трактовать как обязанность пользоваться помощью только адвоката» (Определение Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2003 г. № 446-О).
На основании ч. 2 ст. 49 УПК РФ можно сделать вывод о том, что судья в ходе рассмотрения уголовного дела исходя из субъек- тивной оценки правовой ситуации разрешает вопрос о возможности допустить субсидиарного защитника по ходатайству подсудимого, о чем свидетельствует судебная практика. Так, президиум Брянского областного суда отменил приговор Клинцовского районного суда Брянской области от 22 февраля 2018 г. и последующее судебное решение, направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда в связи с нарушением права на защиту осужденного О.С.Н. судами первой и апелляционной инстанций. Как следует из материалов уголовного дела, осужденный О.С.Н. ходатайствовал о допуске в судебное заседание С. П. Ращинского, представившего диплом о высшем юридическом образовании с квалификацией «юрист», суд отказал в удовлетворении ходатайства, свое решение мотивировав тем, что защиту подсудимого О.С.Н. осуществляет на основании соглашения адвокат А. Т. Морозова, что достаточно для обеспечения осужденного квалифицированной юридической помощью. По мнению суда кассационной инстанции, принятое по ходатайству осужденного решение суда не соответствовало ч. 4 ст. 7 УПК РФ и не отвечало требованиям законности, обоснованности и мотивированности (постановление Президиума Брянского областного суда от 22 августа 2018 г. № 44У-59/2018).
Как верно отмечает С. А. Вдовин, понятия «право на защиту» и «обеспечение права на защиту» не являются тождественными. Обеспечение права на защиту включает в себя механизм и гарантии беспрепятственной и полноценной реализации лицом своего конституционного права [4, c. 87–88].
На наш взгляд, одной из актуальных проблем, которая требует разрешения на законодательном уровне в свете обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, является отсутствие в уголовно-процессуальном законе какого-либо перечня субсидиарных защитников, ограничений, запретов на их участие в уголовном судопроизводстве, а также требований, к ним предъявляемым, что ведет к судебным ошибкам в правоприменительной деятельности. Например, А. Д. Прошляков, В. С. Балакшин, Ю. В. Ко-зубенко отмечают, что субсидиарным защитником может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, согласившееся выполнять обязанности защитника и реально могущее их исполнять (не находится под стражей, не от- бывает наказание в виде лишения свободы и т.д.) [10, c. 188].
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что одним из оснований отказа суда в допуске иного лица в качестве субсидиарного защитника является неспособность предполагаемого защитника оказывать юридическую помощь подсудимому и выполнять другие свои процессуальные обязанности (Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 г. № 227-О). В то же время Конституционный Суд РФ, разрешая вопрос о необходимости установления критериев допуска субсидиарных защитников к участию в уголовном деле, отмечал, что определение критериев, соблюдение которых свидетельствовало бы о должном уровне квалификации лиц, допускаемых к оказанию юридической помощи по уголовным делам в качестве защитников подозреваемых и обвиняемых, относится к компетенции федерального законодателя. Только законодатель вправе при условии обеспечения каждому обвиняемому (подозреваемому) права на получение квалифицированной юридической помощи и в интересах правосудия в целом предусмотреть возможность допуска в качестве защитников иных, помимо адвокатов, избранных самим обвиняемым лиц (Определение Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2002 г. № 105-О).
Мы полагаем, что наличие для субсидиарных защитников юридического образования не является обязательным ввиду того, что нормы уголовного законодательства в ряде случаев имеют бланкетную диспозицию, и наличие знаний в области экологии, развития определенного вида технологий, эксплуатации оборудования и т.д. в немалом количестве рассматриваемых уголовных дел было бы полезно не только для стороны защиты, но и для суда с целью постановления законного, обоснованного и мотивированного приговора. Такую же позицию мы занимаем по поводу установления требований к субсидиарным защитникам о подтверждении до вступления в дело своих профессиональных навыков и умений по вопросам, исследуемым в рамках рассмотрения уголовного дела. Однако, на наш взгляд, при рассмотрении дела суд все-таки должен руководствоваться критериями профессионализма лица, которого допускает в дело совместно с адвокатом в качестве защитника по вопросам рассматриваемого дела.
Наличие близкого родства между подсудимым и субсидиарным защитником не может как раз свидетельствовать об оказании квалифицированной юридической и иной профессиональной помощи, а во многих случаях допуск такого защитника ведет к злоупотреблению им своими правами, например, на неограниченное количество свиданий с подсудимым, содержащимся под стражей.
Анализируя международные стандарты обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, мы приходим к выводу о необходимости внесения изменений в ч. 2 ст. 49 УПК РФ и предлагаем изложить ее в следующей редакции: «В качестве защитников участвуют адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника может быть допущено наряду с адвокатом иное дееспособное совершеннолетнее лицо, способное оказать юридическую и иную профессиональную помощь, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката» .
Список литературы Категория «защитник» в уголовно-процессуальном законодательстве
- Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Буробина. - М.: Статут, 2005. - 624 с.
- Берсенев, Е. М. Категория субсидиарных защитников в уголовном судопроизводстве Российской Федерации / Е. М. Берсенев // История государства и права. - 2014. - № 10. - С. 50-54.
- Быков, В. М. Проблемы обеспечения права обвиняемого на защиту / В. М. Быков // Российская юстиция. - 2009. - № 10. - С. 4649.
- Вдовин, С. А. О некоторых проблемах реализации осужденными права на защиту на стадии апелляционного обжалования приговора / С. А. Вдовин // Российское правосудие. - 2018. - № 5. - С. 87-92.
- Ершов, В. В. Принципы российского уголовно-процессуального права: актуальные теоретические и практические проблемы / В. В. Ершов // Российское правосудие. - 2016. - № 7. - С. 69-80.
- Желтобрюхов, С. П. О необходимости устранения института дополнительного защитника / С. П. Желтобрюхов // Российская юстиция. - 2009. - № 7. - С. 49-51.
- Зайцев, О. А. Обеспечение подсудимому права пользоваться защитником в ходе судебного следствия / О. А. Зайцев, Д. В. Емельянов // Российское правосудие. -2018.- № 5. - С. 79-86.
- Качалова, О. В. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека: уголовно-процессуальный аспект / О. В. Качалова // Российское правосудие. - 2015. - № 4. -С.98-103.
- Невская, О. В. Кто может быть судебным представителем и защитником? / О. В. Невская // Адвокат. - 2004. - № 10. -С. 42-49.
- Прошляков, А. Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков, В. С. Балакшин, Ю. В. Козубенко. - М.: ВолтерсКлувер, 2011. - 1056 с.
- Рыжаков, А. П. Аудиопротоколирова-ние, помощник судьи и другие новеллы Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 228-ФЗ / А. П. Рыжаков. URL: http://www.consultant. ru/cons/cgi.
- Смирнов, А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. -СПб., 2006. - 698 с.
- Томин, В. Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики / В. Т. Томин. - М.: Юрайт, 2009. - 799 с.
- Францифоров, Ю. В. Толкование норм уголовно-процессуального закона как способ разрешения противоречий в уголовном судопроизводстве / Ю. В. Францифоров // Современное право. - 2007. - № 5. - С. 51-55.