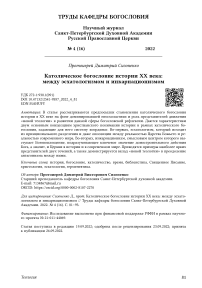Католическое богословие истории XX века: между эсхатологизмом и инкарнационизмом
Автор: Сизоненко Димитрий Викторович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (16), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются предпосылки становления католического богословия истории в ХХ веке на фоне доминировавшей неосхоластики и роль представителей движения «новой теологии» в развитии данной сферы богословской рефлексии. Даются характеристики двум основным концепциям христианского понимания истории в рамках католического богословия, задающие для него систему координат. Во-первых, эсхатологизм, который исходит из принципиального разделения и даже оппозиции между реальностью Царства Божьего и реальностью современного мира. Во-вторых, инкарнационизм, смысловым центром которого выступает Боговоплощение, подразумевающее ключевое значение домостроительного действия Бога, а значит, и Церкви в истории и в современном мире. Приводятся примеры наиболее ярких представителей двух течений, а также демонстрируется вклад «новой теологии» в преодоление антагонизма между ними. Ключевые слова : история, богословие, католичество, время, библеистика, Священное Писание, христология, эсхатология, герменевтика.
История, богословие, католичество, время, библеистика, священное писание, христология, эсхатология, герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/140297578
IDR: 140297578 | УДК: 272-1:930.1(091) | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_4_81
Текст научной статьи Католическое богословие истории XX века: между эсхатологизмом и инкарнационизмом
About the author: Archpriest Dimitry Viktorovich Sizonenko
Senior Lecturer of the Department of Theology at the St. Petersburg Theological Academy.
Funding : The reported study was funded by RFBR, project number 21-011-44069.
The article was submitted 19.09.2022; approved after reviewing 23.09.2022; accepted for publication 26.09.2022.
Богословские споры о христианском понимании истории, развернувшиеся в Католической Церкви в 1935-1950 гг., стали определяющим фактором дальнейшего развития теологии при том, что неосхоластика по-прежнему оставалась священным бастионом, «вечной философией», а любые попытки применения исторического метода строго пресекались. Теснейшим образом эти споры были связаны с явлением, известным как ressourcement («возвращение к истокам») или nouvelle théologie («новая теология»), которое способствовало глубокому обновлению богословской мысли посредством обращения к святоотеческому наследию. В отличие от неосхоластики в трудах Отцов Церкви богословие истории занимало особое место, оно возникло как плод размышления над новозаветным откровением, над домостроительством спасения, кульминацией и центральным событием которого было Боговоплощение. Уже у раннехристианских авторов возникал вопрос о соотношении истории мира и священной истории, а также осознание особого положения Церкви в «промежуточном времени», простирающемся между решающим событием Воплощения Христа и окончательным пришествием Царствия Божия во славе. Святоотеческая концепция истории как божественной «педагогики» нашла отражение в типологическом методе экзегезы, а также в учении о чередовании «веков мира».
Католические богословы XX в. столкнулись с теми же вопросами, в полемике с неосхоластикой попытавшись взглянуть на историю мира и человечества. Однако они оказались в совершенно ином положении, поскольку в отличие от свт. Иринея Лионского и блж. Августина ощущали себя непосредственным образом вовлеченными в историю. Дело в том, что относительно замкнутый мир античности позволял блж. Августину без особых затруднений возвести событие Христа и историю Церкви в ранг репрезентативной истории всего человечества. В его произведениях всемирная история становилась historia sacra («священной историей»); в его восприятии истории мира как praeparatio evangelica нашлось место иудеям, а также древним языческим народам. Католические богословы первой половины XX в., пытавшиеся аналогичным образом указать некий герменевтический центр всеобщей истории, были вынуждены учитывать особенности современного мира в его стремительном развитии, а также плюрализм существующих культур и цивилизаций. Они неизбежно оказывались лицом к лицу с сообществом историков и философов, которые также искали ответ на загадку истории, однако при этом не всегда благосклонно относились к богословию. Наконец, они вступали в конфликт или трудный диалог с великим нарративами, которые по сути представляли собой мирскую эсхатологию, альтернативную христианству. Речь идет об эволюционизме, экзистенциализме, а также марксизме — мощном псевдо-мессианском течении, которое пыталось не только объяснить историю, но и трансформировать мир.
Богословы XX в., как и Отцы Церкви в свое время, видели двойственность отношений между христианской верой и историей. С одной стороны, христианство является элементом всемирной истории; с другой — история мира воспринималась как часть священной истории1. Возникал вопрос, каким образом мирская история (а вместе с ней и культура) в своем развитии и своими свершениями приготовляет метаисторическое пришествие Царствия Божьего? Как нынешняя жизнь соотносится с жизнью будущего века, «новыми небесами» и «новой землей», о которых говорится в Новом Завете: между ними существуют лишь отношения внешней взаимообусловленности или следует признать их внутреннее единство? Иными словами, между социальным прогрессом, построением лучшего общества и учением Церкви о Царствии Божьем существует радикальный разрыв или непосредственная связь?
В зависимости от того, каким представлялось соотношение двух порядков бытия: уже свершившегося Воплощения и еще не наступившего эсхатологического конца мира, можно условно выделить два внешне разнонаправленных, но внутренне дополняющих друг друга направления в католическом богословии истории: «эсхатологизм» и «инкарнационизм». Впервые эти неологизмы употребил отец-иезуит Леопольд Малевез (1900-1973), профессор Лувенского университета, опубликовавший в 1949 г. статью «Два католических богословия истории»2. «Эсхатологизмом» он назвал богословие, которое утверждало, что между человеческим прогрессом и Царствием Божьим существует разрыв, что Царствие принципиально не является тем, что человек может построить своими руками, поскольку оно приходит свыше. Напротив, богословие истории, которое указывало на определенную связь между земным процветанием и духовными реалиями, поскольку в стремлении человека к лучшему, в уважении к земным ценностям уже совершается предуготовление Царствия, он назвал «богословием Воплощения». Разумеется, подлинно христианское богословие должно быть одновременно и богословием Воплощения, и эсхатологическим богословием.
В целом католический взгляд на историю был обусловлен богословием Воплощения: «Благодать, где бы она ни воссияла, обычно вызывает и производит состояние природы, соразмерное ее совершенству; сверхприродная и небесная святость может расцвести лишь в человечестве, искренне стремящемся, посредством культуры, к победе над варварством и жизнью инстинктов»3.
При этом следует отметить, что в Новом Завете пришествие Царствия Божия представлено и как постепенное возрастание, и как эсхатологический разрыв. Соответственно, «инкарнационизм» подчеркивал элемент непрерывности, подготовки и постепенного развития, тогда как «эсхатологическое» течение решительно настаивало на радикальной инаковости Царствия этому миру.
Эсхатологическое течение
Приверженцы «эсхатологизма» в ожидании окончательного торжества Царствия Божьего ставили под сомнение ценность нынешнего века, чему в Священном Писании находили множество подтверждений.
«Согласно этому богословию, — пишет Л. Малевез, — в Писании преобладает мысль, что Царствие является реальностью, которую даже мы, люди, родившиеся во Христе к новой жизни, даже христиане, даже Церковь, не можем построить [своими руками]. Мы не можем его установить, поскольку оно не является простым результатом нашей христианской жизни, наших пусть и героических проявлений святости, еще в меньшей степени оно является обещанным моментом расцвета нашей земной культуры, тем самым плодом, который как урожай будет собран осенью истории, индивидуальной или коллективной. Скорее, оно представляет собой разрыв с нашей мирской историей, ее кризис, суд над ней, ее упразднение. Если наши цивилизации и готовят нас к нему, то лишь в той мере, в какой они готовы умереть. Откуда может прийти к нам Царствие Божье? Оно пребывает в руках и во власти одного лишь Бога, Который воскресил Иисуса Христа»4.
Самым ярким представителем «эсхатологизма», пожалуй, был отец-ораторианец Л. Буйе (1913–2004), опубликовавший в 1948 г. статью «Христианство и эсхатология»5. В ней он жестко критиковал попытки современных ему богословов и проповедников примирить Дух Христа и дух мира. Стремления «конвертировать мир», обратить человечество ко Христу, нередко в действительности приводили к противоположному результату — к «обмирщению христианства», к секуляризации. Он писал: «Вниманию наших современников, очарованных мондизмом, Новый Завет указывает на непреодолимую дуальность. Сегодня мы оказываемся в плену у так называемого богословия Воплощения, согласно которому Божество вошло в мир, как раскаленное железо в застывшее масло. Новый Завет ничего не говорит о таком Воплощении. <…> Воплощение, как оно понимается в Евангелии, не является апофеозом мира. Напротив, это начало окончательного разрыва»6. Автор указывал на то, что в Новом Завете Боговоплощение ведет ко Кресту, на протяжении Евангелия драматическое напряжение между мудростью века сего и Премудростью Божией лишь нарастает.
Соотношение священной и профанной истории Л. Буйе представлял как неразрешимый конфликт и как суд над миром: миссия Церкви приносит плоды не только благодаря «обращению мира», но более всего в решительном противостоянии «злобе века сего». Он утверждал: «Вечность никоим образом не является созревшим плодом того, что в настоящее время является цветком»7; т. е. Царствие Божие не наступает как момент урожая, венчающий труды человека. Одно не является прямым следствием другого: «не мы своими усилиями, пусть и не без помощи благодати, изменим мир изнутри, чтобы сделать его Царствием»8. Напротив, «новое творение — это смерть ветхого»9. Он решительно отвергал инкарнационистский оптимизм тех, кто говорил о «духе», который созидается в этом мире, о совершенствовании мира, который в своем поступательном развитии движется к «Точке Омега». Очевидно, эта критика была направлена в адрес П. Тейяра де Шардена (1881–1955), который в эти годы приобрел широкую популярность своими лекциями и научными публикациями.
К немногочисленному крылу «эсхатологистов» помимо Л. Буйе с некоторыми оговорками можно отнести И. Конгара (1904–1995) и Ж. Даниелу (1905–1974). Изучая тексты Нового Завета, которые вроде бы подтверждали эсхатологизм, И. Конгар пришел к следующему заключению: «Во-первых, онтологически именно мир сей, преображенный, обновленный, перейдет в Царствие; <…> окончательное спасение совершится путем чудесного всплытия нашей земной лодки, а не путем пересадки выживших в лодку, созданную Богом из других элементов. Во-вторых, неотразимая сила обновления, которая придет в действие тогда, уже сейчас действует в нашем мире мимолетным, удобопревратным, частичным и в основном пока что тайным образом»10.
Первостепенное место в таинственном домостроительстве Божественной благодати И. Конгар отводил Церкви. В притчах о тайном созревании Царствия он усматривал аллюзию на развитие Церкви, а не мира. По его мнению, эти притчи говорят о действии благодати в мире, но никак не о непосредственном развитии мира или каком-то космическом аспекте служения Иисуса Христа11.
Сам Конгар, как кажется, придерживался скорее «эсхатологизма», при этом старательно избегал дуализма «Царствие — мир», характерного для взглядов Л. Буйе. Его экклезиология позволяла преодолеть разрыв между конечными судьбами этого мира и пришествием Царствия Божьего, поскольку и Церковь, и мир с его историей подвластны Царствию, хотя и в разном статусе. У них одно и то же конечное предназначение, т. е. в «унитарном» домостроительстве они направлены на достижение одной и той же окончательной цели, хотя разными путями и в разных планах бытия, сохраняя при этом свою природу и статус12.
Умеренный эсхатологизм отличал взгляды Ж. Даниелу. Его понимание истории испытало на себе влияние послевоенного диалога католической теологии с марксизмом, который заставил богослова высказаться по вопросу о значении прогресса человечества и всемирной истории для христианства. С точки зрения Ж. Даниелу, человеческий прогресс играет промыслительную роль, приготовляя человека к принятию благодати. Таким образом, всемирная история обладает реальной и положительной ценностью, но она носит лишь предварительный характер, ибо в конечном итоге лишь история magnalia Dei («великих деяний Божьих») имеет решающее значение для Царствия Небесного.
В своих рассуждениях о соотношении христианства и всемирной истории Ж. Даниелу выражал взгляды вышеупомянутой «новой теологии», которая в предвоенные годы открыла умы к осознанию важности концепции времени в христианском домостроительстве13. Решение он находил в библейском и святоотеческом понимании истории: религиозная история человечества является прогрессивной и пророческой; она не является простым чередованием разнородных эпох, но представляет собой единый план, в центре которого находится Воплощение Христа. Он отказывался рассматривать развитие религиозной истории мира как прямолинейное: в развитии этой истории есть непрерывность и разрывы, а в сердце христианской тайны времени прогресс неизбежно оказывается лицом к лицу с драмой Креста.
Итак, Даниелу, как и Конгар, принимал эсхатологическую перспективу, старательно избегая дуализма. Используя образ, заимствованный у свт. Иринея, он представлял в целом мирскую историю как виноградную лозу, на которой, как гроздь, вырастает Церковь. Церковь благодатью Христовой призвана преобразить материал, представленный ей профанной историей и человеческим прогрессом. Чтобы подчеркнуть эсхатологическое измерение этой истории, он заимствовал у О. Кульмана широко известный образ Дня Победы : смерть и воскресение Христа — это решающее сражение, победа в котором еще не завершает вой ну, но уже окончательно предопределяет окончательную победу Царствия в будущем14.
Христианская концепция времени, предложенная Даниелу, включала в себя идею «прошлого мира» и «будущего века», который уже присутствует среди нас благодаря воскресению Христа и миссии Церкви. Мир профанной истории, социального прогресса, естественного развития («прошлый мир») по отношению ко Христу и Его Церкви «анахроничен», он устарел, поскольку уже превзойден миром Божественной благодати. Напротив, «будущий век», проявляющийся во вмешательствах Бога в историю людей, по отношению к профанному миру является «катахроническим», поскольку он предвосхищает полноту окончательного свершения15.
В многочисленных статьях, написанных для журналов Esprit («Ум») и Dieu Vivant («Бог Живой»)16, Даниелу продолжал подчеркивать эсхатологический аспект истории, однако благодаря активному служению в качестве капеллана студенчества, обширным контактам и знакомству с идеями П. Тейяра де Шардена, со временем он более решительно стал ориентироваться на теологию Воплощения и активного присутствия в мире.
Инкарнационистское течение
Сторонники более многочисленного «инкарнационистского» течения подчеркивали органическую преемственность и объективный переход от нынешнего мира к Царствию Божьему. В разной степени с этим направлением были связаны такие богословы, как Г. Тилс, М. Монтюклар, Д. Дюбарль, Б. де Солаж, Э. Ридо, Т. Хекер, Х. Ранер, Х. Франкенхайм и др.
Основной вопрос богословия истории, т. е. соотношение нынешнего и будущего века, каждым из этих авторов рассматривался с нюансами, которые не позволяют предложить общий для них всех знаменатель. Несомненно, их взгляды отмечены богословским оптимизмом и осознанием необходимости в положительном ключе выстраивать отношения между Церковью и современным миром.
Одним из выдающихся представителей этого течения был профессор Лувенского университета Г. Тилс (1909–2000), в послевоенные годы активно разрабатывавший «теологию земных реальностей». Он настаивал на том, что в эпоху, когда «многие люди зачитываются Андре Жидом и страстно увлечены марксизмом»17, невозможно предлагать людям исключительно «те-оцентрическое» христианство, не проявляющее никакого интереса к миру. В его книге впервые реалии земной жизни стали предметом богословской рефлексии. Традиционно католическая теология рассматривала существование Бога и реалии сотворенного мира, имея в виду мир природы, но никак не артефакты культуры, в свою очередь, Г. Тилс поставил смелый вопрос: «Почему полевые лилии или кедр ливанский легко называть “творением”, а радиоприемник или рояль — нет?»18 Он считал необходимым предпринять богословское осмысление рукотворных реалий и действия Божественной благодати Духа по «одухотворению» человеческого общества посредством развития культуры и цивилизации, техники, искусства, человеческого труда. Каждому из этих пяти аспектов он посвятил отдельную главу в своей книге «Богословие земных реалий». В основу этого богословия была положена идея универсальности библейского откровения: всё сотворено Богом, и всё должно вернуться к Нему. В каждой главе показывается, что провиденциальной целью каждой из этих реалий является прославление Бога и служение человеку. В каждой из них может совершаться соработничество духа человеческого и Духа Божия в деле освящения и преображения сотворенного мира. Дух Божий, как утверждал Г. Тилс, действует не только в сердцах верующих, Он также действует в мире: каждое проявление рациональности, духовности и человечности в пространстве исторического и культурного процесса, является предвосхищением «новых небес» и «новой земли».
В своем богословии истории бельгийский богослов исходил из того, что нынешние христиане живут в эсхатологические времена — воскресший Христос уже даровал Святой Дух. Если Даниелу с позиций «эсхатологизма» утверждал, что Царствие прорастает как семя только там, где совершается богослужение и церковные таинства, то для Г. Тилса плоды Духа не ограничиваются узкой сферой религиозных обрядов, Дух приносит плоды в земном, социальном и культурном измерениях. Дух действует в реалиях этого мира, благодаря Его действию земные ценности справедливости, совершенства, человечности и мира становятся предуготовлением благ Небесного Иерусалима. Универсализм христианского домостроительства не допускает разрыва между христианскими ценностями и общечеловеческими гуманистическими ценностями, блага мира сего также могут быть восприняты Духом и трансформироваться в подлинно христианские ценности. Т. е. христианство эсхатологично, но не «эсхатологистично».
Эсхатология в богословии Г. Тилса представлена как «инкоативная», соответствующая «уже» О. Кульмана, и «финальная», соответствующая «еще не», о них наш автор говорит как «прелюдии» и «самой симфонии», между ними существует преемство и непрерывность. В 1950 г. он опубликовал книгу «Трансцендентность или воплощение?»19, в которой обозначил два полюса христианской жизни: «воплощение» Богооткровенной истины в «гуманистическом» мире посредством миссии и «трансцендентность» Бога. За этим стоит дилемма, которая разделяет христиан на тех, кто предпочитает деятельный образ жизни, и тех, кто в большей степени устремлен к Абсолюту.
К группе инкарнационистов также принадлежал упомянутый в начале статьи Л. Малевез, который в полемике с эсхатологизмом утверждал, что ин-карнационизм позволяет избежать дуализма и объединить в едином парадоксе обе крайности. В уже упомянутой статье «Две католические теологии истории»20 он описал инкарнационизм, прибегая к метафоре цветка и плода: «Вечность — плод, текущий момент, настоящее время — его цветок; без дара лучезарного лета, нисходящего с небес, не было бы осеннего созревания, но это не означает, что спелые плоды прикрепляются к ветвям во время весеннего цветения»21. В серии статей, объединенных заглавием «Христианское видение истории»22, он рассмотрел христианский парадокс: Царствие приходит свыше и возрастает снизу, оно растет, потому что приходит, его снисхождение свыше означает, что оно одновременно возрастает снизу и разрастается, как растение. Таким образом, инкарнационизм утверждает и трансцендентность Царствия, и его возрастание в истории.
Указывая на истины, которые Л. Буйе выразил слишком односторонне, И. Конгар отмечал: «Нам кажется, однако, что между делами человека в этом мире и развитием мироздания, с одной стороны, и Царствием Божьим, с другой, существует определенная преемственность, которой пренебрегает дуалистическо- эсхатологический подход. Эта преемственность связана с тем, что я бы назвал унитарным планом Бога. Как мне кажется, она основана на том, что между миром и Царствием существует единство, обусловленное общим для них окончательным свершением, и как минимум частичное единство предмета или материальной основы, единство главного действующего лица, а именно Слова Божьего и Его Святого Духа. Существует единство, обусловленное человеком, с которым мироздание связано своим конечным предназначением, как в падении, так и в надежде на преображение. Таким образом, мир и человек образуют, хотя и в не прямом значении слова, единый объект божественного вмешательства, единый субъект, которому уготовано искупление и преображение»23.
Представляя унитарный замысел Бога как догматическое основание ин-карнационизма, И. Конгар имплицитно указал на отличительную черту
«новой теологии», которая связывала ее с основной идеей теологического возрождения, возникшего задолго до этого в Тюбингенской школе. В программной статье, опубликованной в 1819 г. в ее печатном органе «Theologische Quartalschrift», вот как определялся самый дух и сущность католичества: «Прежде всего существует откровение замысла, осуществляемого Богом в человечестве: этот план есть органическое целое, которое последовательно разворачивается в истории»24.
Богословы стремились убедительно показать тесную связь между тайной сотворения мира и событием Боговоплощения, опираясь, в частности, на слова апостола Павла о власти Христа над миром (Еф 1:10; 20–23; Кол 1:16–20, Евр 1:1–4 и др.). Подчеркнутый христоцентризм позволял им соединить истины христианской веры в единое целое; этот унитарный, более динамичный и в большей степени исторический подход к истинам веры позволил инкар-национистскому течению интегрировать различные аспекты современной эпохи: эволюционистские взгляды П. Тейяра де Шардена, идею прогресса, продвигаемую наукой, марксизм в его стремлении преобразовать мир, институт мирян, который на протяжении столетий был заложником разрыва между Церковью и миром, между созерцательной жизнью и активной социальной деятельностью. Поэтому неудивительно, что это течение богословия истории получило дальнейшее развитие в столь разнообразных направлениях как богословие земных реалий (Г. Тилс)25, богословие мирянства (И. Конгар)26, Церковь и мир (Д. Дюбарль)27, Евангелие и время (М.-Д. Шеню)28. Наконец, в 1955 г. стали выходить в свет посмертные издание философских и богословских работ П. Тейяра де Шардена, в которых речь шла о сближении «религии ввысь» с «религией вперед», т. е. религиозного поклонения с научными исследованиями и усилиями человека. Вероятно, он был наиболее ярким представителем инкарнационизма.
Иные формы богословия истории
Панорама мнений не исчерпывалась полемикой между упомянутыми выше течениями, богословский ландшафт был исключительно разнообразен. Важное значение, в частности, имели работы отца-доминиканца М. Монтюкла-ра (1904–1988) и отца-иезуита Г. Фессара (1897–1978).
Монтюклар был идейным вдохновителем журнала Jeunesse de l’Eglise («Молодость Церкви») и некоторых групп, которые в противовес завоеватель-скому духу известного общественно- церковного движения Action catholique («Католического действия») проповедовали идеалы бескорыстного служения и своего рода «невидимое христианство», всецело погруженное в мир с целью установления диалога с неверующими, в частности, с марксистами. Выпуск журнала «Молодежь Церкви», озаглавленный «События и вера»29, вызвал сильное раздражение в Риме и навлек жесткие санкции против Монтюклара. В 1953 г. журнал был внесен в индекс запрещенных книг по обвинению в попытках установления компромисса с коммунистической партией.
Фессар, в свою очередь, решительно настаивал, что человек должен занять центральное место в богословии истории, которое должно выявлять в источниках Откровении законы, определяющие постепенную христианизацию человечества в ходе его эволюции. Он считал, что посредством категорий «иудеи» и «язычники», заимствованных из посланий апостола Павла, можно разделить все человечество на две четко определенные группы в соответствии с их реакцией на провозвестие Христа30.
Среди «промежуточных форм» исследователь П. Д. Оптатус объединял в рамках течения Kruis en Misofferrichting («Креста и Евхаристической Жерт-вы»)31 такие имена как Д. Дюбарль, И. Конгар, Ж. Даниелу и Г. У. фон Бальтазар. Общим для этих богословов являлось особое отношение к Тайне Креста и ее актуализации в таинствах Церкви. Именно сакраментальное измерение истории спасения подчеркивали немецкие богословы Т. Михельс32 и Й. Пинск33.
Особняком стоят две книги Г. У. фон Бальтазара (1905–1988)34, в которых богословие истории представлено как продолжение христологии, как «возвращение к Центру». В то время как философия истории абстрактна, богословие помещает в центр реальную личность Иисуса Христа, который является исполнением прошлого и предвосхищением окончательного свершения истории. В книге «Целое во фрагменте» он показал, что спасение становится реальностью и смыслом истории, поскольку через Воплощение Бог сделался частью истории: «целое — во фрагменте лишь потому, что оно выступает как фрагмент»35. Христологическое понимание истории получило дальнейшее развитие в его знаменитой трилогии.
Заключение
Богословие истории, возникшее в середине XX в., не было умозрительным, оно играло важную роль в жизни Католической Церкви, поскольку предлагало ответы на вызовы своего времени как с христианских, так и с общечеловеческих позиций. С позиций христианства проделанная работа позволила найти решение многих проблем, возникших в отношениях между Церковью и внешним миром, а также внутри самой Церкви, между созерцанием и действием, духовенством и мирянами, богословием и повседневной жизнью. С позиций гуманизма богословие истории привело к осознанию новизны положения человека в мире, радикально изменившемся в результате промышленной и технической революции, в новом мире, цели и ценности которого могут как отдалять от Царствия Божьего и конечного предназначения человека, так и приближать к нему.
Эсхатологическое течение напоминало о том, что подлинное свершение истории происходит по ту сторону видимого горизонта земной истории, технических достижений, прогресса. Царствие Божье — дело Самого Бога, результат действия благодати умершего и воскресшего ради нас Иисуса Христа.
Течение инкарнационизма, отчасти в полемике с протестантизмом, стремилось показать, что нынешняя история в реальности представляет собой нечто большее, чем просто прообраз грядущего мира. Это направление в богословии истории способствовало восстановлению связи между прогрессом и Крестом. В нем подчеркивалось, что Бог, один имеющий власть над Царствием, требует также, чтобы человек всеми силами стремился к Нему и готовил эту землю и сердца людей к принятию благодати Христа и грядущей славы.
Богослова интересует «истинная история», история в ее глубине, индивидуальная и коллективная человеческая судьба; история в ее преемственности и разрыве с Царствием, история символических прообразов и драматических действий, т.е. всех событий, из которых в реальности складывается путь человека и человечества. Вот что об этом писал Х. Ранер: «Нужно постараться найти смысл истории в точном равновесии между двумя полюсами. Несомненно, что смысл истории может быть открыт только с устойчивой точки зрения, которая находится над историей и которая дает общее представление о течении и становлении. Но этот смысл должен находится в самом историческом процессе. Он не должно парить, как в платоновском мифе, над становлением и отдельно от него; он должен быть встроен в само время. Тот, кто хочет интерпретировать историю, должен держаться одновременно над становлением и внутри него. Он должен оказаться уже вне течения, но быть готовым в любой момент снова окунуться в него. В драме истории он должен быть одновременно и зрителем, и актером. Он должен быть больше, чем становящееся, и вместе с тем с любовью принимать даже самое малое из того, что находится в становлении. Чтобы выразить этот идеал исторической интерпретации, я хотел бы повторить слова из надписи на могиле Игнатия Лойолы, которые Гельдерлин поместил в первых строках “Гипериона”: Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo, divinum est 36. Применительно к нашей теме это означает, что толкователь истории должен рассматривать все с точки зрения вечности, должен быть выше всего великого в истории, и в то же время должен ощущать себя активным участником драмы истории, быть готовым войти даже в то, что является наименее значимым в текущем историческом моменте. Способность оценить значимость истории было бы поистине божественным искусством»37.
Список литературы Католическое богословие истории XX века: между эсхатологизмом и инкарнационизмом
- Бальтазар Х. У., фон. Целое во фрагменте. Некоторые аспекты теологии истории / Пер. с нем. А. Ярин. М.: Истина и Жизнь, 2001.
- Бальтазар Х.У., фон. Теология истории / Пер. с нем. А. Ярин. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.
- Даниелу Ж. Христианство и история // Философия религии: альманах. 2011. №2010-2011. С. 364-382.
- Любак А., де. Католичество: социальные аспекты догмата / Пер. с фр. В. Зелинский. Милан: Христианская Россия, 1992.
- Bouyer L. Christianisme et eschatologie // La Vie Intellectuelle. 1948. T. 16. P. 6-38.
- Chenu M.D. Pour une theologie du travail. Paris: Seuil, 1955.
- Congar Y. Jalons pour une théologie du laïcat. Paris: Cerf, 1954.
- Dubarle D. Optimisme devant le monde. Paris: Cerf, 1949.
- Fessard G. Théologie et Histoire // Dieu Vivant. 1947. T. 8. P. 37-65.
- Les événements et la foi. Jeunnesse de l'Église. Paris: Seuil, 1951.
- Malevez L. Deux théologies catholiques de l'histoire // Bijdragen. Tijdschrift voor Philosophie en Theologie. 1949. T. 10. P. 225-240.
- Malevez L. La vision chrétienne de l'histoire // Nouvelle revue théologique. 1949. T. 71. P. 113-134; P. 244-264.
- Michels Th. Das Heilswerk der Kirche: ein Beitrag zu einer Theologie der Geschichte. Salzburg, 1935.
- Optatus P. D. Theologie der Geschiedenis in het Verleden en het Heden // Katholiek Archief. 1953. T. 8. S. 265-312.
- Rahner H. La théologie catholique de l'histoire // Dieu Vivant. 1948. T. 10. P. 91-116.
- Stefánski J. Consecratio mundi: Theologie der Liturgie bei Johannes Pinsk // Pietas liturgica: Studia. 1990. T. 7. 154 s.
- Thils G. Théologie des réalités terrestres. I. Préludes. Paris: Desclée de Brouwer, 1946.
- Thils G. Théologie des réalités terrestres. II. Théologie de l'histoire. Paris: Desclée de Brouwer, 1949.
- Thils G. Transcendance ou Incarnation? Essai sur la conception du Christianisme. Louvain: Publications Universitaires, 1950.