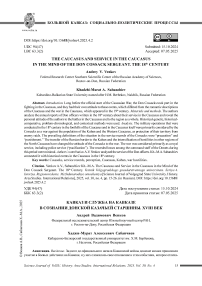Кавказ и служба на Кавказе в сознании донской казачьей старшины. XVIII век
Автор: Венков А.В., Сабанчиев Х.-М.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Большой Кавказ: социально-политические процессы
Статья в выпуске: 4 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Задолго до официального начала Кавказской войны донские казаки принимали участие в боевых действиях на Кавказе, и у них сложилось свое отношение к этим событиям, которое отлича лось от романтических описаний Кавказа и войны на Кавказе, которые появились в XIX веке. Материалы и методы. Авторы анализируют написанные в XVIII в. ежегодные рапорты донских офицеров об их службе на Кавказе и выявляют личностное отношение авторов к боям на Кавказе и к региону в целом. Применялись историко-генетический, историко-сравнительный, проблемно-хронологический, контекстуальный методы. Анализ. Военные действия, которые велись в XVIII в. в предгорьях Кавказа и на самом Кавказе, в первую очередь рассматривалась казаками как война против населения Кубани и Западного Кавказа, как защита своей территории от вражеских набегов. Господствующими определениями ситуации в послужных списках казаков были «предосторожность» и «наказание». Перенос границы России на Кубань и активизация боевых действий в других регионах Северного Кавказа изменили отношение казаков к войне. Война рассматривалась, прежде всего, как царская служба, в том числе полицейская служба («усмирение»). Зафиксированные потери среди командного состава донцов в этот период были минимальны. Вклад авторов. А.В. Венков анализировал службу донских офицеров. Х.-М.А. Сабанчиев связал ее с историческими событиями на Кавказе в XVIII веке.
Казаки, послужные списки, восприятие, Кавказ, Кубань, война
Короткий адрес: https://sciup.org/149149134
IDR: 149149134 | УДК: 94(47) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.4.2
Текст научной статьи Кавказ и служба на Кавказе в сознании донской казачьей старшины. XVIII век
DOI:
Цитирование. Венков А. В., Сабанчиев Х.-М. А. Кавказ и служба на Кавказе в сознании донской казачьей старшины. XVIII век // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионо-ведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 4. – С. 15–26. – DOI: jvolsu4.2025.4.2
Введение. Один из первых исследователей Кавказской войны В.А. Потто писал: «Кавказ! Какое русское сердце не отзовется на это имя, связанное кровной связью и с исторической и с умственной жизнью нашей родины, говорящее о неизменных жертвах ее и в то же время о поэтических вдохновениях» [13, c. 7].
А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов в своих произведениях романтизировали Кавказ и службу на Кавказе.
В то же время служба донцов на Кавказе в XIX в. была крайне тяжелой и никаких романтических чувств (особенно у рядового состава) не вызывала. Как писал В.А. Потто в своей «Кавказской войне», «...казаки сразу попадали в такую обстановку, при которой каждый неверный шаг оплачивался с их стороны тяжелыми потерями и кровью... Десятками ложились они в одиночных боях с врагом, к которому не успели еще приглядеться, сотнями погибали от климатических условий, ломавших самые крепкие железные натуры, – и, таким образом, на глазах у всех исчезла и падала боевая казацкая сила» [14, c. 311].
До всего этого, когда они не были под обаянием художественных произведений и под впечатлением реальной службы, донские командиры (рядовой состав Пушкина и Лермонтова вряд ли читал) уже имели представление о Кавказе и о службе на Кавказе. Боевые действия в Предкавказье и на Кавказе начались еще в XVIII веке.
Практически весь донской командный состав на уровне донских старшин, командиров полков, ежегодно писал и представлял в войсковые структуры послужные списки, рапорты о месте службы и ее протекании, в которых так или иначе просматривается личное отношение авторов к описываемым событиям.
Война играет особую роль в жизни таких военизированных сообществ, как казаки. Да и в целом «как социальный феномен она сопровождает всю историю человечества, может быть представлена и как способ обогащения, источник благосостояния, как доказательство личной доблести, храбрости, подтверждением собственного статуса, как образ жизни, и даже ее цель и основной смысл...» [7, c. 38].
Материалы и методы. Под «сознанием» авторы понимают высшую, присущую только человеку и связанную речью функцию мозга, целенаправленное и обобщенное отражение действительности, способность человека отражать объективную реальность в чувственных и логических образах. В статье имеется в виду обыденный уровень сознания. Проблема же восприятия войны рассматривается не очень давно и не историками, а философами. Е.Ю. Шакирова отмечает: «Главное на войне – человек, поэтому война воспринимается не только на уровне фактов, но и в виде образа, который представляет комплекс представлений о ней, включающий и оценку собы- тий, и оценку врага и собственный образ» [16, c. 172]. Известный российский философ Г.С. Померанц, опираясь на свой жизненный опыт, писал: «Восприятие войны меняется у одного и того же человека на протяжении ее самой; что уж говорить о восприятии войны целым народом более чем за полвека» [9, с. 8]. Иностранные ученые (Дж.А. Линн) тоже считают, что «разные культуры имеют разные концепции войны... у противников разные принципы во взгляде на ценность человеческой жизни» [17, p. 378].
Сама же историография участия донских казаков невелика. Об этом писал уже упомянутый нами В.А. Потто. Есть несколько работ об участии казаков в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. на Кавказе [2] и об участии казаков там же в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. [3].
Целью данной работы является, опираясь на послужные списки донских командиров, воевавших на Кавказе в XVIII в., выяснить, как они воспринимали войну, как шло их ознакомление с новым театром военных действий, кто из них был ранен, каков был характер ранений. Установить, как они воспринимали названия новых географических объектов, названия населяющих их народов. Определить, какие военные операции и какие русские военачальники были зафиксированы чаще других в послужных списках донских старшин.
Источники – послужные списки донских старшин, хранящиеся в фондах Государственного архива Ростовской области (далее – ГАРО). Характерной чертой данных источников является то, что они отражают массовые данные о службе, в том числе и на определенной территории, они однотипны по обстоятельствам появления (своего рода ежегодный отчет военнослужащего о своей службе), однотипны по форме, практически написаны по стандарту, они обладают некой первичностью – они сами не опосредованно отражают события, им присуща однородность и повторяемость содержания. Однако дающие отчет о своей службе воины обычно диктовали свою версию событий, а записывающие чиновники осознанно или неосознанно вносили в текст присущую времени трафаретность, устоявшиеся штампы. Как и другие материалы делопроизводства и личного учета, они могут быть отнесены к категории массовых источников. А массовые источники обычно позволяют определить масштаб восприятия верхами сообщества, его руководством, того или иного явления и его разных сторон.
При написании статьи авторы опирались на принцип историзма, использовали системный подход, применяли специально-исторические методы: историко-генетический, историко-сравнительный, проблемно-хронологический, контекстуальный.
Анализ. Во время исследования выявлено 257 человек, успевших во 2-й половине XVIII в. покомандовать полком в званиях от войскового старшины до генерала и оставивших свои послужные списки.
Из них на Кавказе ни разу не были 84 человека. То есть на Кавказе или в предгорьях Кавказа побывали хотя бы один раз 173 человека, либо будучи во главе казачьих полков, либо еще не дослужившись до этой должности. Мы видим, что с Кавказом и его предгорьями в это время впрямую познакомились две трети донских военачальников.
Самое удивительное, что само слово «Кавказ» в послужных списках было встречено всего 1 раз. Петр Иванович Платов, родной брат будущего атамана, записал в послужном списке за 1797 г., что с [1]782 по [1]787 гг. «на Кубане и Кавказе был во многих с неприятелем сражениях» [12, л. 88].
Зато термин «Кавказская линия» встречается в послужных списках 63 раза и «Кавказский корпус» – 2 раза.
Гораздо чаще встречается слово «Кубань» – 145 раз, причем 89 раз это слово мужского рода («за Кубаном», «к Кубану») и 56 раз – женского. Количество слов женского рода резко увеличивается ближе к концу XVIII века.
Иногда «Кубан» рассматривается как некая административная единица, квазигосударство – Федор Афанасьевич Кутейников записал, что был «при завоевании и выводе из Кубана в российские пределы тамошних народов» [12, л. 26].
Действительно во 2-й половине XVIII в. Кубань и население прилегающей к реке территории играли в жизни Войска Донского важнейшую роль. Именно отсюда начинались многочисленные набеги, от которых страдало донское население.
Традиционно в XVI и XVII вв. территория Дона делилась на Крымскую сторону (правый берег) и Ногайскую сторону (левый берег) по названию орд, контролировавших здесь степное пространство. Теперь, судя по обнаруженным документам, бывшая «Ногайская сторона» (по крайней мере – ее южная часть) стала называться «Кубанской стороной». Этот термин встречается в послужных списках 33 раза. Михаил Барабанщиков указал в послужном списке: «...[1]759 на Кубанской стороне по речке Салу для предосторожности с полком. [1]771 на Кубанской стороне по речке Ея для прикрытия барьерного места» [11, л. 43]. То же указал Дмитрий Иловайский: «[1]767 на Кубанской стороне по речке Салу для предосторожности» [11, л. 243]. Еким (Аким) Карпов записал: «[1]764 на Кубанской стороне по речке Маныче» [11, л. 61]. Дмитрий Михайлович Паздеев: «...[1]768 на Кубанской стороне по речке Манычи» [11, л. 167].
В то же время термин «Кубанская сторона» обозначает враждебную территорию непосредственно Кубани. Тот же Дмитрий Михайлович Паздеев через 5 лет отмечает: «[1]773 для предосторожности от Кубанской стороны по речке Кагальнику» [11, л. 167]. Подполковник Захар Евстратович Сычев нес службу «...[1]761 при речке Манычи для предосторожности от Кубанской стороны» [11, л. 264]. А Петр Васильевич Янов стоял с полком «...[1]785 на Ее для содержания от Кубанской стороны кордонов» [10, л. 199].
Территория самой Кубани рассматривается как опасное место, постоянно грозящее набегами. Василий Андронович Андронов записал: «...[1]752 на Кубанской стороне ради осторожности от закубанцев» [12, л. 255], а Еким (Аким) Барабанщиков – «...[1]758 на речке Кагальнике для предосторожности от Кубанской стороны» [11, л. 275]. Сами слова «осторожность» и «предосторожность» встречаются в послужных списках 25 раз.
Барьером между Кубанью и донской территорией является степная зона, которая в послужных списках называется «Кубанская степь» и встречается 11 раз. Все тот же Еким (Аким) Барабанщиков «находился в Кубанской степи в разъезде и в погоне за неприяте- лем» [11, л. 275]. Семен Сулин находился «...[1]745 на Кубанской степи в погоне за неприятельской партией» [11, л. 73].
Казаки создали оборонительные рубежи по протекавшим в степи речкам Кагальник, Ея, Маныч, Сал, а также Егорлык (подполковник Федор Кутейников) [11, л. 9] и Эльбузд (Ельбузда) (полковник Филипп Семенович Сулин) [12, л. 261]. Во время Пугачевского восстания из-за опасения соединения повстанцев с внешним противником оборонительные рубежи были умножены. Осип Никонович Лощилин в 1773 г. был поставлен «с полком для прикрытия донских станиц по речке Цым-ле» [11, л. 75]. А самый северный барьер удерживал Михаил Ильич Денисов, который в 1773 г. был назначен с полком «для держания предосторожности в Голубинской и Тре-хостровянской станицах от злодейств изменника Пугачева и от кубанских и горских татар» [11, л. 149].
Позже А.П. Ермолов писал, что «никто более казаков не рассуждает об опасности, и едва ли кто видит ее с большим ужасом...» [5, с. 71–72]. Однако принимаемые казаками меры для защиты своей территории были оправданы.
Бои непосредственно на донской территории зафиксированы всего дважды. Полковник Андрей Юдин участвовал в 1738 «при Каргалах при разбитии Кубанской орды» [11, л. 41] и полковник Илья Степанович Рышкин отметил, что в 1771 г. «во время неприятельского на Романовскую станицу нападения побито им до сорока и в плен взято 4 человека» [11, л. 57].
Ситуация резко изменилась в 1780-е гг., после разгрома в 1783 г. ногайской орды. Сам Войсковой атаман Алексей Иловайский записал это событие так: «В 1783 году с полками за Кубаном при наказании бунтовавшихся татар» [11, л. 2]. И 9 командиров полков как под трафарет повторили эту запись в своих послужных списках.
В самом конце XVIII в. формулировка изменилась. Полковник Якуб Асанович Асанов писал: «...[1]783 во всеобщем за Кубань и Лабу походе при наказании клятвопреступников нагаев» [12, л. 214]. И эту формулировку повторили так же 9 казачьих полковников. Лишь Алексей Степанович Леонов назвал ногайцев «вероломными»: «...[1]783 в приведении кубанских кочевых жителей Всероссийскому высочайшему престолу в подданство, а также и за Кубаном по обоим берегам реки Лабы и урочище Керменшик... против вероломных нагаев в действительном сражении находился» [12, л. 136].
Затем последовали еще несколько «всеобщих» походов Войска Донского на Кубань и за Кубань («за Кубаном и Лабою походы»). Всего в них были задействованы 60 представителей донской элиты.
Формулировки изменились. Исчез термин «Кубанская сторона», обозначающий левобережье Нижнего Дона, вместо него появляется иногда употреблявшийся и ранее термин «Задонская сторона»: Гаврила Васильевич Греков записал: «...[1]783 в поголовном на Задонской стороне походе» [10, л. 119]. Термин «осторожность» в послужных списках 1797 г. встречается 1 раз [12, л. 255]. В списках 1799 г. его вообще нет. Термин «предосторожность» больше не встречается. Для обозначения охраны территории используются слова «предохранение», «защищение», «отвращение» («для отвращения от набегов горских черкес») [12, л. 161], «отпор», «пресечение», «прикрытие» («для прикрытия от неприятельских набегов российских границ») [12, л. 263], «недопущение» («для недопущения черкесских скопищ ворваться в российские пределы») [10, л. 179].
Появляются термины «истребление» (полковник Горбачев участвовал «во всеобщем Войска Донского походе за Кубаном и Лабою... для истребления сильных горских неприятельских скопищ») [12, л. 145], «усмирение» (Павел Андреевич Краснощеков в 1785 г. ходил во «всеобщий поход за Кубань и Лабу для усмирения тамошних народов» [12, л. 263], а Степан Ефимович Кутейников в 1785 г. был «при усмирении кабардинцов» [12, л. 73]), сохраняется термин «наказание».
С переносом в 1791 г. по итогам очередной русско-турецкой войны границы России на Кубань донцы не ликвидировали свою многоуровневую систему прикрытия границы. Так, Степан Евдокимович Греков в 1795 г. стоял с полком на Кагальнике [10, л. 66]. Там же в 1794 г. стоял с полком сын опального атамана Степан Степанович Ефремов [12, л. 45].
Неверно было бы считать, что донцы со стороны Кубани до 1783 г. только оборонялись. Охрана донской территории была в определенной мере внутренним делом Войска. Но донские полки привлекались в состав русской армии и вели военные действия и в ходе официальных войн, и в ходе банальных пограничных стычек. Так, Иван Пахомович Бударин, будучи в 1777 г. на Кавказской линии, находился в походе «за Кубаном для приведения в российское подданство обитающих за Кубаном и Лабою Едисанских татар» и участвовал в сражениях [12, л. 284]. Осип Данилов, выкрест из чеченцев, записал: «...[1]774 на Кубане в действительном с черкесами сражении в деташементе господина бригадира и кавалера Бринка, где и ранена под ним лошадь» [11, л. 19]. Иван Алексеевич Каршин в 1774 г. участвовал в боях с черкесами «за Кубаном» при Зеленчуке, а под Темрюком его казаками было отбито три тысячи кибиток [12, л. 49].
Что касается «образа врага», то одни донцы большой разницы между противостоящими им народами не видели и отделывались клише: «На Кавказской линии против закубан-ских горских народов и чиркес» (Федор Матвеевич Персидсков) [12, л. 292], другие хорошо знали отдельные племена. Так, подполковник Захар Евстратович Сычев был откомандирован атаманом Иловайским «для успокоения... оставшихся джанбулацких и едисанс-ких татар» [12, л. 33].
Большинство своих противников на Кубани и за Кубанью называли «черкесами» – 32 раза, «татарами» – 30, «горскими народами» – 22, «горскими черкесами» – 13, «заку-банцами» – 13, «закубанскими народами» – 13, «неприятелем» – 13, «ногаями» или «ногайцами» – 9, «закубанскими татарами» – 7, «кубанскими татарами» – 4, «ногайскими татарами» – 4, «тамошними народами» – 3, «горцами» – 2, «кубанскими кочевыми жителями» – 1, «черкесскими народами» – 1, «горскими татарами» – 1, «закубанскими горскими народами» – 1, «кубанскими народами» – 1, «кубанцами» – 1. Полковник Иван Горбиков записал, что был в «[1]749 в погоне за воровскими людьми по Кубанской степи» [11, л. 22].
Из персоналий неприятельского лагеря называются хан Давлет-Гирей и «султан» Шабас-Гирей (полковник Степан Алексеевич
Ларионов) [11, л. 175]. Полковник Алексей Пантелеевич Пантелеев был послан «изловить мурзу Араслан Гирса и со оным других мурз татар» [12, л. 250]. Подполковник Василий Перфилов еще в 1736 г. участвовал «при разбитии... за Кубаном славного кубанского мурзы Азамата» [11, л. 38]. А Семен Сулин в 1771 г. был «при поиске за кубанским мирзой Келеметом» [11, л. 73].
Участие донских казаков в боевых действиях на левом фланге и в центре Кавказской линии не были такими массовыми, как во «всеобщих походах» за Кубань и Лабу. Службу на Кавказской линии отметили в своих послужных списках 52 человека.
Донские казаки традиционно составляли часть гарнизона в крепости Кизляр. С 1739 г. оборонительные сооружения по Тереку образовали Кизлярскую укрепленную линию. В 1746 г. под Кизляром было создано Гребен-ское казачье войско. Но донцы все равно посылались туда в гарнизон крепости. Выявлено, что 15 донских командиров побывали там, начиная с 1736 г., когда Алексей Воронин ездил туда для встречи персидского посла [11, л. 49]. Затем с 1759 по 1776 г. в Кизляре стояли тысячные донские команды. Дольше всего, с 1768 по 1776 г. пробыл там во главе команды из двух полков полковник Яков Сулин [11, л. 69].
В 1763–1769 гг. вверх по Тереку от Кизляра была создана Моздокская укрепленная линия на базе фортификационных сооружений в урочище Моздок. В 1763 г. там построили форпост. По-над линией были созданы казачьи станицы: Калиновская, Мекенская, Наурская, Ищерская и Галюгаевская [1, с. 22]. Их заселили 517 семейств волжских казаков [1, с. 30]. И с 1766 г. тысячные и двухтысячные команды донских казаков стали посылаться в крепость Моздок. Первым во главе такой двухтысячной команды там был подполковник Василий Петрович Орлов [11, л. 8]. Затем премьер-майор Петр Иванович Кулбаков «...[1]771 с полком командирован к Моздоку в корпус господина генерал-поручика и кавалера де Медема, где был с татарами в сражении» [11, л. 27]. Моздок и укрепления вокруг него были развернуты в Моздокскую линию, и будущий генерал от кавалерии, а пока подполковник Дмитрий Иловайский после
1774 г. был «на Моздоцкой линии с полками походным атаманом» [11, л. 8].
Примерно в это же время донские казаки побывали в Грузии. Василий Никитич Греков занес в послужной список, что в 1771 г. с полком в составе корпуса Сухотина был в Грузии и Мингрелии «во многих с неприятелем сражениях и при атаке турецкого города Пота» [11, л. 29].
Вряд ли территория Кавказа была для донцов «землей незнаемой». Они вели разведку и приезжали сюда с дипломатическими поручениями. Личная сотня донского атамана зачастую привлекалась для таких поручений. Яков Иванов Ханжонков, когда служил в ней, был «в посылках в Крым и Кубан для разведывания тамошних обращений» [11, л. 233]. Ефим Кутейников из той же команды «...[1]757 в посылке на Кубан для разведывания» [11, л. 50]. Карп Киреев «...[1]759 состоял в сотной... команде и был в Кабарде» [11, л. 30]. Дмитрий Иванович Иловайский с 1758 по 1764 г. состоял в сотной команде и посылался «в разные интересные посылки... Между тем послан был и в Кабарду» [11, л. 243]. Сам донской атаман А.И. Иловайский еще в молодые годы в 1756 г. «в посылке в Кабар-ду», а в 1758 г. «за Кубаном у сераскира посланцем» [11, л. 2]. И в 1783 г. Михаил Иванович Русин, будучи есаулом в полку походного атамана Дмитрия Иловайского, дважды посылался «чрез снеговые горы и Грузию в Азию в город Трапезон к Гаджи Але паше» [12, л. 316].
С 1777 г. в послужных списках донцов появляется запись «на Кавказской линии». Первым там оказались уже упоминавшийся Иван Пахомович Бударин и Евсигней Крюков, который находился «...[1]777 по [1]779 на Кавказской линии в Кубанском корпусе против за-кубанцов» [10, л. 197]. С 10 апреля 1780 г. и по 1782 г. охранял линию полк Сычева. С 1782 по 1784 г. стоял на Кавказе полк Матвея Платова. И так каждые два года шла смена полков.
Оказавшиеся на Кавказской линии донцы дрались теперь не только со знакомыми им черкесами и татарами-«закубанцами». Подполковник Захар Евстратович Сычев, например, на национальную принадлежность внимания не обращал и записал: «[1]780 на Кавказской линии противу нападающих из-за
Кубани злодейских партий, которых отвращал и никак внутрь линии въеж жать не допущал» [12, л. 32–32 об.]. А Иван Дмитриевич Иловайский, оказавшийся в 1782 г. на Кавказской линии, сразу отметил нового противника: «...[1]784 в Чичнях где против чеченцов был в сражении. [1]785 в Грузии, [1]786-го во многократных с кабардинцами сражениях» [12, л. 42]. Его двоюродный брат Николай Васильевич Иловайский, в 1799 г. посланный на Кавказскую линию походным атаманом [10, л. 17], впервые попал на Линию в 1784 г., где участвовал «...[1]785 августа 10 при Малке в поражении чеченцов» [12, л. 65]. Бои были жестокие. Алексей Егорович Мержанов, служивший в полку М.И. Платова, записал, что в 1783 г. был «отряжен против чеченцев» и участвовал в сражениях, «истребляя селения» [12, л. 309]. Против кабардинцев сражался Иван Алексеевич Каршин, который получил «в добычу множество рогатого скота и овец» [10, л. 60]. А Федор Афанасьевич Кутейников, служивший на Кавказской линии с 1782 по 1788 г., успел подраться со всеми: «в Ханкале против чеченцев, где подо мной убита лошадь... [1]785 в Большой Кабарде на речке Баксан противу кабурдинцев, в вершине Калауза противу за-кубанских татар, где в атаке находился три часа» [12, л. 26].
С началом очередной русско-турецкой войны к врагам казаков на Кавказе прибавились турки корпуса Батал-паши. Матвей Алексеевич Гревцов записал, что во время похода на Анапу и отступления был «в действительных сражениях с разными горскими черкесами и турками» [12, л. 60]. О боях с турками писал Никифор Яковлевич Сулин, участвовавший в штурме Анапы [12, л. 169]. С турками дрался Гаврила Амвросиевич Луковкин, участвовавший в пленении Батал-паши и оставивший в своем послужном списке описание этого сражения [12, л. 72].
И, наконец, при возвращении из Персидского похода в 1797 г. донские казаки вели бои «с хомбутаями (?) и казакумыками (так в тексте. – А. В., Х.-М. С. )» [12, л. 158]. Сын М.И. Платова, Иван Матвеевич, тоже вписал себе в послужной список за 1797 г. бои с казикумыками [12, л. 303].
Среди вождей своего противника казаки отметили «черкесского лжепророка шейха
Мансура», с «толпами» которого Андрей Филиппович Слюсарев сражался в Малой Кабар-де [10, л. 62]. 5 раз упоминается Батал-паша. Его отметили уже названный Г.А. Луковкин, Петр Михайлович Гордеев, который был «...[1]791 на Кубанской стороне на разведывании войск Батал паши» [12, л. 80], Аксен Ильич Денисов, который был «при разбитии Батал-паши и черкесских султанов» [10, л. 43], а также Алексей Андреевич Каршин и Алексей Пантелеевич Пантелеев. Михаил Петрович Орлов записал, что в 1796 г. участвовал «в поисках бежавшего дербентского Шекиль-хана» [10, л. 90].
Вождей русских войск, под чьим командованием донцы служили на Кавказской линии, они упоминают гораздо чаще с добавлением воинского звания и титула. Это чаще других упоминаемый (5 раз) бригадир Иван Федорович Бринк, который во главе Кубанского корпуса в 1776–1777 гг. совершал походы за Кубань. 4 раза упоминается генерал Иоганн Фридрих фон Медем, курляндец, котрого отправили на Кубань и Кавказ с задачей «упреждать и не допускать Кубанскую орду, так же кабардинцев и других горских татар, равно к грабежам склонным, делать набеги и утеснять их соседей в подданстве и покровительстве Ея Императорского величества находящихся» [6]. 2 раза упоминается подполковник Иван Бухвостов, который был выслан из 2-й армии князя Долгорукова на Кубань охранять интересы преданных России татар. В его отряде насчитывалось 1 500 всадников – ахтырские гусары, драгуны и донские казаки. С этим отрядом он принял участие в широко известном бое при Калалахе в 1774 г. и стал первым кавалером ордена Святого Георгия на Кавказе. Вместе с ним упоминается подполковник Стремо-ухов, который в 1773–1774 г. находился «при новосоюзных татарских ордах», то есть ногайцах, в качестве пристава [8, с. 96]. 1 раз упоминается Александр Васильевич Суворов, который в 1777 г. сменил И.Ф. Бринка на посту командира Кубанского корпуса. Затем Александр Васильевич Суворов командовал Кубанским корпусом в 1782–1784 годах. Поскольку послужной список составлялся в 1797 г., А.В. Суворов назван «графом» [12, л. 4]. Упоминаемый 1 раз Алексей Николаевич Сухотин участвовал в походе корпуса генерала Тотлебена в Грузию и после «покорения» Грузии в августе 1771 г. принял корпус от Тотлебена, который уехал в Петербург. Упоминаемый 1 раз генерал Федор Иванович Фабрициан был в 1781 г. назначен командующим российскими войсками на Кавказе, но командовал лишь до 1782 года. Упоминаемый 1 раз генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин, двоюродный брат Светлейшего, кавказский наместник и командующий Кавказским корпусом, отбыл с Кавказа с началом войны 1787–1791 годов. До своего отъезда он провел успешную операцию против шейха Мансура. Сменил П.В. Потемкина упоминающийся 2 раза генерал-аншеф Петр Абрамович Текелли. Генерал-майор князь Николай Юрьевич Ратиев, упоминающийся 2 раза, участвовал в боях вместе с генерал-аншефом и командовал его авангардом. Упоминаемый 1 раз генерал-поручик барон Владимир Иванович Розен во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг. командовал Кубанским корпусом. Генерал Иван Иванович Герман фон Ферзен командовал бригадой в Кавказском корпусе во время разгрома Батал-паши.
Чтобы грамотно воевать, необходимо знание местности, и казаки, возможно с ошибками, стали вносить в свои послужные списки географические объекты новой территории, в первую очередь – речки. Воспринимались названия на слух, и возможны были искажения. Тихон Иванович Денисов в 1783 г. стоял на передовой страже «при речке Подкумка» [10, л. 29]. Помимо «Кубана» и Лабы, в 1783 г. бои шли на речке Емасу [12, л. 159]. Во время похода на Анапу бои шли «на речке Убы-не» [12, л. 60]. Аксен Ильич Денисов в 1789 г. выявил речку Фазх, а во время похода на Анапу шел «по речкам Обын и Бакон» и участвовал в разгроме Батал-паши у речек «Чибибо и Кудако» [10, л. 43]. Михаил Федорович Кузнецов там же, у Анапы, сражался «при речках Невскуне и Убыне» [10, л. 179]. Петр Матвеевич Греков 16 августа 1785 г. дрался с чеченцами на реке Малке [12, л. 99]. Раньше его, 10 августа, дрался на Малке Николай Васильевич Иловайский [12, л. 65]. 12 сентября 1787 г. шел бой на реке Уруп [12, л. 216]. Федор Иванович Миллер отметил бой «при речке Иналу» [12, л. 106]. Алексей Нечаев был ранен на реке «Сюнже» [10, л. 147]. Фе- дор Афанасьевич Кутейников был «при речках Большого и Малого Зеленчуков против закубанских татар в действительном сражении три раза» [12, л. 26]. А в 1790 г. Иван Денисович Денисов записал бой «при речке Сшеу Каше» неподалеку от Анапы [12, л. 270]. Там же упоминается речка «Шекупше» [12, л. 249 об.]. Неподалеку Иван Никитич Севастьянов в 1790 г. воевал «за Кубаном при речках Пчасе и Псише» [12, л. 78]. Выступив в Персидский поход, донцы зафиксировали в послужных списках Куру и Самур [12, л. 158]. Некоторые эти реки – Уруп, Кура, Малка, Зеленчук, Баксан, Подкумка – встречаются в послужных списках и других донцов.
Новым явлением для большинства казаков были горы. В своих послужных списках они поделили их на «черные» и «снеговые».
Ефим Леонтьевич Астахов записал, что в 1788 г. был в походе «за Кубаном и Лабою у черных гор» [12, л. 93]. Полковник Горбачев усилил момент, написал: «за Кубаном и Лабою даже до Черных гор» [12, л. 145]. Бои «под Черными горами» зафиксировал Федор Андреевич Мелентьев [10, л. 121]. Видимо, имелись в виду склоны Западного Кавказа.
Данила Степанович Ефремов, сын опального атамана, отметил, что с 1785 по 1787 г. был «за Кубаном, Лабою и под снеговыми горами в действительных сражениях» [12, л. 50]. Михаил Петрович Орлов возвращался с полком в 1797 г. из Грузии «по-над Терком с левой стороны чрез снеговые горы» [12, л. 176]. Видимо, имелся в виду Главный Кавказский хребет.
Только Андрей Филиппович Слюсарев нашел название хотя бы одного горного комплекса и записал, что сражался «...[1]785 июля 21 под Бештавыми горами» [10, л. 62], имея в виду «Бештау».
Что касается других географических объектов, то это Безвинный мыс, речки Бей-суг и Челба в Кубанской степи, Тамань, которую назвали островом [12, л. 152], Овечий брод, «урочище Керменшик», «гора Дже-меде» под Анапой [12, л. 169]. Трижды называется урочище Темишберг. Но только Алексей Пантелеевич Пантелеев указал его расположение через систему постов – «от Тамани до реки Бугаза кардон... к урочищу
Тимиберг для охранения прохода в российскую границу закубанцев» [12, л. 249 об.].
Из крепостей и укреплений им были известны Ставрополь, Владимирский редут, Кубанский редут, Северная крепость, вражеские крепости Капыл, Анапа, «деревня Федцах» [12, л. 170], Ханкала. Выступление в 1796 г. в Персидский поход обогатило послужные списки перечнями городов и исторических областей. Войска шли «через город Дербент у городов Персии Кубе, старой и новой Шамахи... при покорении персидского города Ганжи» [10, л. 90].
Исторические области Северного Кавказа тоже стали известны донцам. Они смело писали, что были «в сражениях против Малой Абазы и Большой Кабарды» [12, л. 191], воевали «в Малой Кабарде» [10, л. 62].
Учет потерь русских войск на Кавказе велся с 1801 г. [4]. Но сведения из послужных списков за XVIII в. показывают, что либо военные действия велись крайне вяло, либо донские командиры демонстрировали высокий уровень самосохранности. Из 173 человек, участвовавших в боях и охране рубежей, ранения указали 6 человек, 1 из них был ранен дважды, под 2 убили лошадь, под 1 убили 2 лошади, под 1 ранили лошадь, 2 побывали в плену.
Еким (Аким) Яковлевич Уваров записал: «С [1]773 марта по [1]775 год с пятисотным полком по кубанской степи в деташементе бригадира Бринка в сражениях против черкес, где и ранен саблей в плечо» [11, л. 174–175].
Алексей Петрович Туроверов, будучи казаком в полку Федора Грекова, в 1779 г. «при речке Калалах с черкесской партиею имел сражение и ранен саблею» [12, л. 245].
Алексей Яковлевич Нечаев, будучи казаком в полку М.И. Платова, в 1783 г. в сражении на реке Сунже был «ранен стрелкой в голову» [10, л. 147].
Степан Ефимович Кутейников, будучи войсковым старшиной и командиром полка, в 1787 г. «при Северной крепости... при нападении закубанских народов, ранен в правую ногу пулею» [12, л. 73].
Василий Иванович Попов, будучи сотником в полку Грекова, в 1788 г. участвовал в сражении на реке Малке, «где ранен стрелою в правую ногу пониже колена» [12, л. 129].
Петр Григорьевич Денисов, будучи капитаном, в 1789 г. на Тамани в некрасовском селении «находился в сражении, когда ранен в левую руку саблею», затем во время штурма Анапы был ранен в правую ногу пулею [10, л. 137].
Дмитрий Алексеевич Михеев, будучи сотником, в 1777 г. воевал в Кубанском корпусе против горских черкес в сражениях, «где взят был в плен и находился полмесяца» [12, л. 302].
Петр Пантелеевич Апостолов, будучи сотником, был в 1787 г. взят закубанцами в плен, «освобожден на выкуп, освободился собственным коштом» [12, л. 201].
Данила Филимонович Орехов отметил, что во время боев на Кавказской линии при речке Лабе, когда он был хорунжим в полку М.И. Платова, «убит бывший подо мной конь» [12, л. 215].
Федор Афанасьевич Кутейников, как мы помним, будучи есаулом, потерял лошадь в бою против чеченцев в Ханкале [12, л. 26].
Иван Степанович Денисов, будучи капитаном, в 1786 и 1787 гг. в боях «за Кубаном» потерял убитыми две лошади [12, л. 200].
И под войсковым старшиной Осипом Даниловым, как уже указывалось, в 1774 г. лошадь ранили [11, л. 19].
Как видим, большинство ранений получены, когда пострадавшие еще не были командирами полков. При всем тщательном учете потерь, вплоть до ранения лошади, эти потери минимальны. Из 173 человек ранены 6 (3,5 %), в плену побывали 2 (1,1 %).
Характер ранений показывает, что больше половины получены на расстоянии – пулями и стрелами, но 3 пострадавших ранены саблями (1 из них будучи командиром полка), и ранили их черкесы.
Ф.Ф. Торнау позже отмечал особенность черкесов в рукопашном бою – они не имели обычая «бросаться на неприятеля очертя голову, зато дрались упорно и, обратив его в бегство, гнались за ним далеко и рубили без пощады...» [15, с. 210].
Результаты. Вооруженные конфликты, которые происходили в XVIII в. в «Кубанской степи», в предгорьях Кавказа и на самом Кавказе, в первую очередь рассматривались казаками как война против населения Кубани и Западного Кавказа. Службу в Кизляре, на Моздокской линии и на Кавказской линии несли отдельные казачьи полки, а охрана южных рубежей Войска Донского и России со стороны Кубани была делом всех казаков, которые организовывали здесь против противника «всеобщие походы».
Изначально война рассматривалась ими как защита своей территории от вражеских набегов. Поскольку казаками была выстроена многоуровневая система обороны, боевые действия велись без особого урона со стороны казаков и некоторыми воспринимались как соревнование в лихости при уважении к противнику («славный кубанский мурза Азамат»). Выдвижение к Кубани и разгром ногайской орды рассматривались казаками как справедливое возмездие за предыдущие набеги «заку-банцев» и ногайцев. Господствующими определениями ситуации в послужных списках были «предосторожность» и «наказание».
Перенос границы России на Кубань и активизация боевых действий в других регионах Северного Кавказа изменили отношение казаков к войне. Война рассматривалась, прежде всего, как царская служба, в том числе полицейская служба («усмирение»). Новый театр военных действий был тщательно исследован с фиксацией географических объектов, но и тогда больше внимания уделялось территориям за Кубанью, на Западном Кавказе.
То, что это отношение к региону и событиям отражено в послужных списках командного состава, фактически – массовых источниках, свидетельствует, что подобные взгляды были присущи всему Войску Донскому или его подавляющему большинству.
Зафиксированные потери среди командного состава донцов были минимальны.