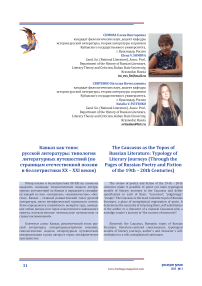Кавказ как топос русской литературы: типология литературных путешествий (по страницам отечественной поэзии и беллетристики ХХ - ХХI веков)
Автор: Сомова Елена Викторовна, Свитенко Наталья Вячеславовна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Год литературы в России
Статья в выпуске: 2 (2), 2015 года.
Бесплатный доступ
Обзор поэзии и беллетристики ХХ-ХХI вв. позволил выделить основные типологические модели литературных путешествий на Кавказ и определить специфику каждой из них: «экскурсия», «паломничество», «бегство». Кавказ - главный романтический топос русской литературы, место метафизической «прописки» поэтов. Этим определяется потребность возврата туда, замещение собою автора или героя классического кавказского сюжета, ностальгическое читательское путешествие «в страну воспоминаний».
Кавказ, романтический топос русской литературы, литературоцентричное сознание, типологические модели литературных путешествий, самореализация в роли автора и героя, метафизическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/170174891
IDR: 170174891 | УДК: 82-94
Текст научной статьи Кавказ как топос русской литературы: типология литературных путешествий (по страницам отечественной поэзии и беллетристики ХХ - ХХI веков)
Став в первой половине ХIХ в. главным литературным топосом русского романтизма, будучи востребован в этом качестве и в ХХ сто-летии 1 Кавказ до наших дней остаётся Меккой русских поэтов, писателей и читателей - обладателей литературоцентричного сознания и менталитета.
Наша задача - определить главные интенции литературного восприятия Кавказа, обозначив основные типологические модели литературных путешествий на Кавказ русских поэтов и писателей ХХ–ХХI вв.
Задуманные и предпринятые литературные путешествия могут быть подразделены на четыре основных типа: экскурсия, паломничество, бегство, возврат.
Модель «экскурсии» на Кавказ заложил В. В. Маяковский («Тамара и Демон», 1924), блистательно выступив в роли праздно любопытствующего столичного поэта-пролетария уровня Ивана Бездомного: От этого Терека в поэтах истерика. / Я Терек не видел. / Большая потерийка. / Из омнибуса / вразвалку / сошёл, / поплевывал / в Терек с берега, / совал ему / в пену / палку. / Чего же хорошего? / Полный развал! / Шумит, / как Есенин в участке. / Как будто бы / Терек / сорганизовал, / проездом в Боржом, / Луначарский» [16, т. 3, с. 68].
Тенденция оказалась плодотворной. Молодая «поэтесса» Катя Карпович («На минеральных живительных водах», 2013) примеряет на себя роль современной княжны Мери: «Под Пятигорском, где мамочкам отдых, / дочкам стаканчик, старинный романчик, / долго ищу я, балда, поэтесса, тень человека с кривыми ногами / и, получив в грудь отрыжку железа, / воду железную пью стаканами» [10].
Измельчание налицо. Базаровская само-ирония Маяковского скрывала его романтическую сущность, неожиданно и неизбежно пробуждающуюся здесь, среди теснин и хребтов: «Хочу отвернуть заносчивый нос / и чувствую: стану на грани я. / Овладевает мною гипноз / воды и пены играние…» [16, т. 3, с. 68].
Катя Карпович праздное любопытство не изображает. Именно оно и заставляет ее обозревать местные достопримечательности, главная из которых – поручик с печальными глазами (для нее – с кривыми ногами) – ну-ка, где он тут? Тень не материализуется - недостаёт для этого ни голоса, ни страсти, ни масштаба личности «экскурсантки». Да и потребности, собственно, нет. К перевоплотившемуся в «нового Демона» Маяковскому «Лермонтов сходит, презрев времена»; героине К. Карпович, которой «всё уж понятно в юные лета» [10], поэт не является.
Возможно, это и к лучшему.«Экскурсан-ты» идут потоком, и массово растиражированная сюжетная коллизия Маяковского о нисхождении в современный мир Лермонтова теряет оригинальность и убедительность. «Прилежно говорят экскурсоводы / о зависти, о ссоре роковой, / О творческом пути певца свободы, / Оборванном злодейскою рукой…» «Но глядя на венок из бронзы тяжелой, / На лиру, победившую века, / Всё чудилась мне белая фуражка, / Забытая на склоне Машука» (А. Коваленков. «Лермонтов в Пятигорске», 1954) [11, с. 24]. «Рассказу гида живо все внимают. / А я всё жду – начнутся чудеса… / Спокойно Лермонтов сойдет к нам с пьедестала / и сам стихи начнет для нас читать» (И. Бжиская. «У памятника Лермонтову», Пятигорск, 2002) [2].
Вослед и «в пику» Маяковскому пишет в 1924 г. стихотворение «На Кавказе» С. Есенин. Мотивация собственного появления здесь изначально иная, хотя не вполне ясна самому лирическому герою: «А ныне я в твою безгладь / пришел, не ведая причины: / Родной ли прах здесь обрыдать / Иль подсмотреть свой час кончины» [7, с. 142]. Смутная потребность приводит его сюда, где «Пушкин в чувственном огне / Слагал душой своей опальной: / «Не пой, красавица, при мне / Ты песен Грузии печальной»; где лечил свою тоску и «был пулей друга успокоен» Лермонтов; где «спит под плач зурны и тари» Грибоедов. Его приезд сюда – смесь паломничества и бегства от «зол и бед» столичной жизни. Желание очиститься и обрести новое поэтическое дыхание и голос движет им. Он просит Кавказ: «Ты научи мой русских стих / Кизиловым струиться соком. / Чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекрас- нейшей поэмой / Забыть ненужную тоску / И не дружить вовек с богемой»[7, с. 144].
Подобно Есенину, за год с небольшим до добровольного ухода пишет стихотворение о Кавказе Борис Рыжий. «Господи, только не сразу / финку мне всаживай в грудь. / Дай дотянуть до Кавказу. / Дай сочинить что-нибудь» [21, с. 375–376].Вспоминает он, в отличие от Есенина, предшественника «маргинального», чьё имя, в отличие от Лермонтова, Пушкина, Грибоедова, Марлинского, не стало литературной эмблемой Кавказа: «Яков Петрович Полонский / пишет стихи про Кавказ» («Тонкой дымя папиросой», 1999). А в подтексте ещё два имени, краса и гордость грузинской поэзии – Николоз Бараташвили и Галактион Табидзе («Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет» (Н. Бараташвили) [5, с. 186]; «Мчатся кони, кони, кони на Вселенском ипподроме, / Мчатся синие фантомы по разомкнутым кругам» (Г. Табидзе) [23, с. 192]);«Тон-кие черные кони / в синие прут облака» (Б. Рыжий) [21, с. 375–376].
Кавказ не спас, не обезболил. Но и просили поэты не о жизни - о творчестве. Эта просьба была исполнена. С. Есенин, как и стремился, создал в 1925 г. поэму «с большой эпическою темой» «Анна Снегина». Б. Рыжий в 1994 г. получил «Антибукера», а в 2000-м выпустил свой единственный прижизненный сборник «И всё такое…».
Ведомая «Тоской по Лермонтову» (стихотворение 1964 г.), совершает литературное паломничество в Грузию Б. Ахмадулина. Она пытается духовным зрением увидеть, «где он стоял? Вот здесь, где монастырь / Еще живет всей свежестью размаха, / Где малый камень с легкостью вместил / великую тоску того монаха...» [1, с. 408]. В отличие от Есенина, ее мольба очищена от собственных творческих притязаний, обращена только к Лермонтову: «Стой на горе! Не уходи туда, / Где только-то! – Через четыре года / Сомкнется над тобою навсегда / Пустая, совершенная свобода! / Стой на горе! Я по своим следам / Найду тебя под солнцем, возле Мцхета. / Возьму тебя всем зреньем, не отдам, / И ты спасён уже, и вечно это» [1, 409].
Перекликаются с ахмадулинским «поиском глаза» строки «паломнического» сти- хотворения Вл. Смирнова «Светлая тень Лермонтова», 2010-е гг.: «Здесь он стоял в сиянье голубом, / Душа собой вершину продолжала…»; «Я исходил подножье Машука…» [22].
Здесь даже дышится по-особому: «этот горский, этот лермонтовский воздух / Наподобие господнего подарка» (О. Ермолаева, 1997) [6]. «Тут надышаться всласть никак нельзя – / Так поэтичен воздух Пятигорска» (В. Смирнов) [22].
Но не всегда попытка проехать по «святым местам», повторяя маршрут Лермонтова, приводит к желаемому духовному просветлению. В стихотворении С. Бодруновой «Я ехал на перекладных из Тифлиса» (2005), она превращается в дорогу разочарований. В себе, в исторической и современной действительности, чью пошлость и неприглядность так резко оттеняет создававшаяся здесь большая литература. «Пусть пишет Печорин – / Бумаги в дороге размокли, размякли, / И жалкие люди ютятся по саклям, Живут и не ведают слова «не так ли», / Зигзагов позерства, фатальных пентаклей...», «Один над стремниной, ни конный, ни пеший, / Ублюдок режима, осколок имперский, / Рассказчик, узнавший из авторских версий, / Что кто-то умрет, возвращаясь из Персий… / Куда? – Неизвестно куда». [3]. Лермонтовский трагизм усугубляется пушкинским - о нём напоминает не только реминисценция из стихотворения «Кавказ», но и аллюзия на финал «Осени»: «Плывет… Куда ж нам плыть?» [20, т. 3, с. 248] 2 .
Потребность бегства на Кавказ как иллюзорную надежду на освобождение сформулировал для себя и «диссидентов» последующих имперских эпох сам Лермонтов: «Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей…» [14, с. 213]. Этот импульс лег в основу сюжета лучшего историко-фантазийного романа Б. Ш. Окуджавы «Путешествие дилетантов» (1978), показавшего, между прочим, типологическое сходство николаевского и советского тоталитаризма в их отношении к интеллигенту-одиночке – герою и изгою времени.
Главный герой романа, князь Сергей Мятлев, потрясенный гибелью двух друзей-поэтов – ссыльного вольнодумца в стычке с горцами (А. А. Бестужев-Марлинский) и «злого и насмешливого гения» на дуэли (М. Ю. Лермонтов), «выпадает» из светского круга – общества – государства, лишающего его права и надежды на автономное существование. Невыносимость несвободы, ее несовместимость с жизнью вынуждают Мятлева и его возлюбленную Лавинию бежать по маршруту, указанному друзьями: поручиком Амираном Ами-лахвари (авторским двойником) и тем, другим – погибшим «насмешливым гением». Они надеются «укрыться» в краю лермонтовском, окуджавовском, благословенном, где «друзей созову, на любовь своё сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу» (Б. Окуджава. «Грузинская песня», 1967) [17]. Именно эту надежду Д. Быков называет верной приметой дилетантизма. «Дилетант – это тот, кто надеется сбежать от государственного гнета в Кавказский рай, в личное счастье, в имение; вообще дилетант – тот, кто надеется!» [4]. Иллюзия в очередной раз разбивается: за стеной Кавказа физически укрыться нельзя. Единственная возможность для «усталого раба» – иной побег: «в обитель дальнюю трудов и чистых нег» [20, т. 3, с. 258].
Часто такой обителью становится… Кавказ. Не реальный – литературный. Где «Берег – письменный стол. Море – чернильница» (В. Каменский. «Прибой в Сухуме», 1922) [9, с. 125].
Наличие двух Кавказов – для «нас» и для «них» – осознают в стихах Б. Ахмадулина и С. Бодрунова. Первая – с мудрой и жертвенной снисходительностью поэта. «Неужто всё – для этих, загорелых / и ни одной не прочитавших книги?..», «Я упасу их от моей печали, / от грамоты моей высокопарной… / О Море-Небо! Ниспошли им легкость. / Дай мне беды, а им – добра и чуда» (Б. Ахмадулина. «Гагра. Кафе «Рица», 1979) [1, с. 435–436], вторая – с жесткой неприязнью и к «низким истинам» жизни и «возвышающему обману» литературы («Какая картина!.. дневная картинка: / Грузинка в начале, в конце осетинка, / кокетка, красотка, крестьянка, кретинка, / и контрабандистка, и полублядинка…» (С. Бодрунова. «Я ехал на перекладных из Тифлиса», 2005) [3].
Литературный Кавказ становится частью культурной памяти русского писателя и читателя, его «страной воспоминаний». И обостряется с возрастом потребность возврата туда.
«Читательский» вариант возвращения на Кавказ – это ностальгическое путешествие в собственные детство и юность, когда впервые взахлёб были прочитаны «Мои любимые писатели – Г. А. Печорин, И. П. Белкин» (Вера Павлова, «Молчанья золотоискатели», 2009) [18], и воскресить эти ощущения – дорогого стоит. «На улицах туман. / Послушать бы «Тамань» / По радио! / Чтоб лермонтовский дар, / Как в детстве, как тогда, – / Порадовал…»; «Что может быть сильней страны воспоминаний?!» (Н. Матвеева. «Тамань», 1995) [15].
Для классического русского читателя классическая русская литература, даже в самых печальных её эпизодах, – радость и утешение, согласно бессмертному пушкинскому рецепту: Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро» [20, т. 5, с. 313–314]. А. Кушнер: «И когда мне бывает тоскливо, с полки / Не бутылку шампанского (нет бутылки), / Не «Женитьбу» беру «Фигаро», а долгий / Этот путь вспоминаю и полдень пылкий»: «Поднималась арба в туче белой пыли, / и живому поэту погибший фору / В восемь лет баснословных давал, – в рогожу, / Очевидно, завернут или в холстину?» («До свиданья, Кавказ, мы тебя любили») [13, с. 129]. «Откуда вы?» – спросил я их. «Из Тегерана». – «Что вы везете?» – «Грибоеда». – Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис» [20, т. 6, с. 451].И всё это: «Пост казачий, / раскинутые палатки, /Горы, словно их плавили и гранили, / Горький дым, запах смерти и воздух сладкий, / И столичный журнал, где его бранили» [13, с. 129], – становится драгоценным личным воспоминанием.
«Писательский» вариант возвращения на Кавказ предполагает самореализацию в двух ролях: автора и героя. Первую модель воплощает Борис Акунин, написавший под псев- донимом-анаграммой А. О. Брусникин роман «Герой иного времени» (2010). Мотивацию создания подобного рода произведений в своё время озвучил М. Зощенко в предисловии к своей «Шестой повести Белкина»: «В классической литературе было несколько излюбленных сюжетов, на которые мне чрезвычайно хотелось бы написать. И я не переставал жалеть, что не я придумал их». Он же разъясняет принцип работы со знаменитыми сюжетами: «У живописцев в отношении копии дело обстоит проще. Там достаточно «списать» картину, чтобы многое понять. Но копия в литературе значительно сложнее. Простая переписка ровным счетом ничего не покажет. Необходимо взять сколько-нибудь равноценный сюжет и, воспользовавшись формой мастера, изложить тему в его манере… сделать сносную копию с отличного произведения не есть ученическое дело, а есть мастерство, и весьма нелегкое» [8, т. 6, с. 15].
Однако, по нашему убеждению, роман «Герой иного времени» написан не для демонстрации мастерства и даже не для подтверждения того, что сюжеты и характеры классической литературы жизнеспособны и неисчерпаемы, но ради удовольствия от самого процесса письма - погружения в любимый мир Лермонтова, Марлинского, Толстого, оживления их героев – кавказских пленных, ссыльных, ратных, горцев... В духе классической мистификации повествование представляет собой фрагменты «Записок старого кавказца» отставного офицера Г. Ф. Мангарова, якобы изданных в Санкт-Петербурге в 1905 г. Он стремится походить на любимого литературного героя Печорина, но понимает, что всего лишь Грушницкий по сравнению с героем подлинным – персонажем предыдущей эпохи, декабристом Олегом Никитиным.
Возвращение в роли героя предполагает подстановку СЕБЯ на место литературного персонажа какого-либо классического кавказского сюжета. Подобное замещение виртуозно проделывает Маяковский в «Тамаре и Демоне»: «Любви я заждался, / мне 30 лет. / Полюбим друг друга. / Попросту. / Да так, / чтоб скала / распостели-лась в пух. / От черта скраду и от бога я! / Ну что тебе Демон? / Фантазия! Дух! / К тому ж староват –мифология» [16, т. 3, с. 68]. Да и где ему, добавим, тягаться с настойчивым по-мужски и по-пролетарски Маяковским.
Раздражающая ёрническая интонация подобной поэтической «подстановки» характерна и для Д. Пригова: «В полдневный зной в долине Дагестана/ С свинцом в груди лежал недвижим я / Я! Я лежал – Пригов Дмитрий Александрович / Кровавая еще дымилась рана / По капле кровь сочилась – не его! не его! – моя! (Д. Пригов. «Долина Дагестана», 1989) [19]. Интересна полемика об этом стихотворении в апрельском номере журнала «Литература» за 2014 год. Профессор Т. Г Кучина видит в нём готовность «поэта-графомана» «собственной кровью заплатить за место на литературном Олимпе, потеснив классика» [12, с. 56]. Резко возражает редактор С. Волков, нашедший в приговских стихах «свойство настоящей лирики: она присваивается читателем и становится повествованием о нём…», испытывающий от них «настоящий, а не постмодернистский озноб» [12, с. 57].
Настоящий озноб – и от стихотворного посвящения Б. Рыжего уральскому поэту-земляку О. Дозморову. Как сон – «Свердловск, набитый ласковым ворьем / и туповатыми ментами. / Гнилая Пермь. Исетский водоем…». А наяву: «Мы здорово отстали от полка. / Сокрыл туман последнюю звезду. / Из мрака бездна вырастает. / Храпят гнедые, чуя пустоту. / И ветер ментики срывает. / И сердце набирает высоту» («Памяти Полонского», 1998) [21, с. 214–215].
Возвращение поэта на высоты Кавказа есть окончательный возврат в своё метафизическое пространство: «Небо поэтов» - «первое от земли небо, вторая земля» (М. Цветаева) [24, т. 5, с. 362]. Место сужденной ему земной смерти и вечной жизни. «Руки крестом, / крестом / на вершине… / Луна. / Подо мною / Льдистый Машук» (В. Маяковский. «Про это», 1923) [15, т. 2, с. 248]. «Артериальной теплой кровью я захлебнусь под Ма-шуком» (Б. Рыжий. «У современного героя», 1999) [21, с. 248].
Эта пульсирующая кровь питает литературную почву Кавказа, делая её плодоносной.
Список литературы Кавказ как топос русской литературы: типология литературных путешествий (по страницам отечественной поэзии и беллетристики ХХ - ХХI веков)
- Ахмадулина Б. Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной: Сборник. М.: Дедалус, 2007.
- Бжиская И. К памятнику М. Ю. Лермонтову [Электронный ресурс] // Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2005/10/15-145 (дата обращения 27.04.15).
- Бодрунова С. С. Я ехал на перекладных из Тифлиса [Электронный ресурс] // Журнальный зал. UPL: http://magazines.russ.ru/interpoezia/2005/3/bod13-pr.html (дата обращения 27.04.15).
- Быков Д. Л. Булат Окуджава [Электронный ресурс] // Imwerden.info: Электронная библиотека Александра Белоусенко. URL: http://www.imwerden.info/belousenko/books/bykov/bykov_okudzhava.htm (дата обращения 27.04.15).
- Грузинские романтики. М.: Художественная литература, 1989.