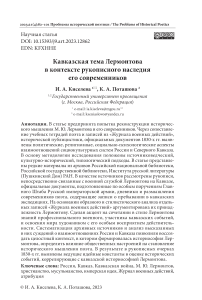Кавказская тема Лермонтова в контексте рукописного наследия его современников
Автор: Киселева И.А., Поташова К.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка реконструкции исторического мышления М. Ю. Лермонтова и его современников. Через сопоставление учебных тетрадей поэта и записей из «Журнала военных действий», исторической публицистики, официальных документов 1830-х гг. выявлены политические, религиозные, социально-психологические аспекты взаимоотношений социокультурных систем России и Северного Кавказа. В основу методологии исследования положены источниковедческий, культурно-исторический, типологический подходы. В статье представлены редкие материалы из архивов Российской национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки, Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. В качестве источников рассмотрены рукописи, непосредственно связанные с военной службой Лермонтова на Кавказе, официальные документы, подготовленные по особым поручениям Главного Штаба Русской императорской армии, дневники и размышления современников поэта, содержащие записи о пребывании в кавказских экспедициях. На основании образного и стилистического анализа отдельных записей «Журнала военных действий» аргументирована их принадлежность Лермонтову. Сделан акцент на сочетании в стиле Лермонтова знаний профессионального военного, участника кавказских событий, и освоения мира художником с его особым восприятием действительности. Систематизация архивных источников и анализ высказанных в них суждений о взаимоотношениях России и Кавказа позволили воссоздать целостный контекст, в котором формировалась историософия Лермонтова, определить влияние общественных настроений на становление исторического мышления поэта. В результате в рукописных очерках 1830-х гг. выявлены ведущие идейные константы в оценке исторических событий, коррелирующие с кавказской историософией Лермонтова.
Россия, кавказ, кавказская война, м. ю. лермонтов, христианство, мусульманство, имперская идея, журнал военных действий, атрибуция
Короткий адрес: https://sciup.org/147242345
IDR: 147242345 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12862
Текст научной статьи Кавказская тема Лермонтова в контексте рукописного наследия его современников
В творчестве Лермонтова нашли отражение реальные картины его времени. Обращаясь к изучению его взглядов на роль России в мировом историческом процессе, невозможно оставить без внимания контекст развития исторического мышления 1830-х гг.
Относящихся к этому времени документально зафиксированных размышлений о Кавказской войне немного, что, вероятно, обусловлено существовавшим запретом на распространение информации о ходе проведения экспедиций и сражений, о котором Лермонтов сообщал в письме к А. А. Лопухину 16–26 октября 1840 г. после сражения на Валерике:
«…жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законам. Может быть когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем»1.
Несмотря на то, что опубликованы и отчасти изучены записки и эпистолярное наследие А. П. Ермолова, Г. А. Эммануэля, Ф. Ф. Торнау, всё же в историографических работах заметны лакуны в освещении кавказских событий 1820–1830-х гг.
Активная публикация материалов по «кавказскому вопросу» началась с открытием во второй половине 1840-х гг. специальных изданий «Кавказ» и «Кавказский сборник», в то время как более ранние рукописи практически не становились предметом исследования. Выявление и анализ репрезентативного комплекса архивных документов 1830-х гг. позволяет проследить магистральные направления в оценке Кавказской войны той частью общества, к которой принадлежал Лермонтов.
При исследовании архивных материалов из фондов отделов рукописей Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Института русской литературы (Пушкинский Дом) были выявлены разножанровые рукописи 1830-х гг., связанные с проблемой расширения границ Российской империи на восток, взаимоотношениями России и Кавказа в первой трети XIX в. Эти материалы могут быть полезны при изучении формирования взглядов Лермонтова на проблему русско-кавказских отношений. Обнаруженные рукописи, часть которых не публиковалась ранее и не становилась предметом специального научного изучения, пополняют историографию «кавказского вопроса» и могут рассматриваться как первые попытки осмысления известных исторических событий.
К наиболее ценным источникам с точки зрения раскрытия особенностей исторического мышления 1830-х гг. следует отнести очерковые рукописи: «Записки об экспедиции против кавказских горцев в 1830 г.» (ОР РНБ. Ф. 550, К. И. Прушановский. O.IV.83), «О Кавказе» (ОР РНБ. Ф. 573, неизв. авт. СПб. Дух. Акад. Оп. 1. A.I.59), «Исторические записки о начале и развитии мюридизма, или Религиозной мусульманской войны в Дагестане и Чечне, с 1822 по 1843 год» (ОР РНБ. Ф. 550, К. И. Прушановский. F.IV.769), «Кавказ. Дагестан. 1823–1843» (ОР РНБ. Ф. 550, К. И. Прушановский. Q.IV.423), «Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 по конец 1842 г.» (ОР РНБ. Ф. 573, неизв. авт. СПб. Дух. Акад. Оп. 1. A.I.66), «Сборник материалов о Кавказе» (ОР РНБ. Ф. 573, неизв. авт. СПб. Дух. Акад. Оп. 1. A.I.71), «Дневник неизвестного офицера, прикомандированного к Навагинскому полку, действовавшему на Кавказе» (ОР РНБ. Ф. 777, неизв. авт. Оп. 3. Ед. хр. 326), «История Кавказа: очерк, начало» А. А. Вельяминова (ОР РГБ. Ф. 178.I.11148.10), «Об обществе восстановления православия на Кавказе: записка неустановленного лица» (ОР РГБ. Ф. 425, П. П. Яковлев. К. 4. Ед. хр. 39). На основе содержания и особенностей представления в них исторических фактов рукописные материалы могут быть классифицированы следующим образом: 1) источники, непосредственно связанные с военной службой Лермонтова на Кавказе; 2) официальные документы, подго-товленные по особым поручениям Главного Штаба Русской императорской армии с целью фиксации происходящих собы-тий; 3) дневники и размышления современников Лермонтова, содержащие записи о пребывании в кавказских экспедициях.
Основной фонд документов, представляющих кавказскую жизнь Лермонтова и служащих фактическим основанием для изучения его историософии, хранится в РО ИРЛИ РАН и включает в себя как оригинальные документы, так и писарские копии, сделанные в разное время. Выписки, рапорты, формулярные списки и наградные листы, в которых зафиксировано имя поэта, объединены в «Сведения, собранные из дел Окружного архива Кавказского военного округа, относящиеся до поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, за время служения его в войсках отдельного Кавказского корпуса в 1837, 1840 и 1841 гг.» (Ф. 524, М. Ю. Лермонтов. Оп. 3. № 32. 60 л.). Эти документы публиковались П. Е. Щеголевым отдельными выдержками в «Книге о Лермонтове» [Щеголев] и в журнале «Русская старина». Притом что рукописное наследие Лермонтова уже достаточно изучено (см.: [Крутова], [Бронникова, Зубкова, Киселева, Крутова], [Агамалян], [Алексеев]), следует обратить специальное внимание на некоторые материалы, связанные с пребыванием поэта на Кавказе. Так, интерес представляет находящийся в фонде «Журнал военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 октября по 19 ноября 1840 г.» (Оп. 3. № 33. 34 л.). В военных изданиях, посвященных Кавказской кампании, не раз отмечалось то, что Лермонтов, состоящий в должности отрядного адъютанта при генерале Ап. В. Галафе-еве, фиксировал военные действия в журнале. На это указывается при публикации выдержек из «Журнала…» Д. В. Раковичем в издании «Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846»2 и Г. С. Лебе-динцем в «Русской старине»3. Вполне вероятно, что Лермонтов выполнял эту задачу: присущее поэту внимание к каждой увиденной им в бою и в военной жизни детали, отраженное и в поэтических откликах, и в батальной графике, характерно и для этих журнальных записей. Подтверждением возможного авторства Лермонтова является стиль журнальных записей, лишенных сухости протокола и отличающихся художественностью и выразительной повествовательностью:
«Добѣжавъ до лѣсу, войска неожиданно остановлены были от-вѣсными берегами рѣчки Валарика и срубами изъ бревенъ, за трое сутокъ впередъ приготовленными непрiятелемъ»;
«…когда войска начали вдаваться далѣе въ лѣсъ, съ правой стороны лежащiй, часть чеченцевъ, коихъ отступленiе совершенно было отрѣзано, бросилась къ опушкѣ лѣса и начала бить въ обозъ»4.
Аргументом принадлежности Лермонтову авторства описаний из «Журнала военных действий…» можно считать и общие черты в построении этих природных зарисовок с его индивидуальным авторским стилем, маркерами которого являются распространенные за счет внимания к пространственным характеристикам описания, которые можно встретить и в романе «Герой нашего времени»:
«Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию…» (6: 253).
Однако надо полагать, что Лермонтов смотрел на события Кавказской войны не только как художник, но и как профессиональный военный, о чем свидетельствуют как сам факт военной службы поэта, так и хранящиеся в ОР РНБ его учебные тетради. «Лекции из военного слова»5 построены по образу теоретических курсов и включают следующие темы: «Словесность. Введенiе» (л. 2–3), «О способностяхъ ума и позна- вательныхъ си лахъ» (л. 3–6 об.), «Даръ слова и свойство онаго»
(л. 6 об. — 9 об.), «Объ изящномъ вообще и въ рѣчи» (л. 9 об. — 12 об.), «Риторика» (л. 12 об. — 15), «О предметѣ или содержанiи сочиненiя» (л. 15–28). В тетради есть записи по поводу сцен военного характера, которые «болѣе всего требуютъ быстра-го воображенiя, силу и отважность мысли и чувствованiй» (л. 27). Поэт понимает необходимость соответствия стиля изображаемым военным событиям: «Слогъ долженъ быть живой, острый, краткiй, сильный» (л. 27). Этим требованиям в полной мере отвечают военные картины и в стихотворениях «Бородино» и «Валерик», и в его кавказских поэмах. «Лекции из воинского устава. 1833»6 представляют собой подробные разборы тактик ведения боя, связанных с построением колонн, с их подготовкой к атаке, смыканием и размыканием. Профессиональный взгляд военного, знание системы построения и ведения боя отразился и в поэтическом творчестве Лермонтова. Например, в «Валерике» он дает такое точное описание картины сражения:
«Между колоннами въезжая, Звенят орудья. Генерал Вперед со свитой поскакал… Рассыпались в широком поле, Как пчелы, с гиком казаки…» (2: 168–169).
И хотя приведенные документы Лермонтова не содержат оценочных суждений, очевидна их роль в поэтике лермонтовского художественного батального образа, а также для понимания поэтом причин и смысла военных действий, представляющих естественный ход исторического процесса. Выбор Лермонтовым для поступления Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (в 1832 г.), не одобряемый бабушкой Е. А. Арсеньевой, но приветствуемый родственниками со стороны Столыпиных, говорит о готовности нести военную службу: «…moi, qui jusqu’à présent avais vécupour la carrière littéraire, <…> voilà que je me fais guerrier. <…> aussi, s’il y a la guerr e, je vous jure pardieu d’être le premier partout»7
(6: 419), — пишет поэт в письме к М. А. Лопухиной из Петербурга о понимании миссии армии, об авторитете родственников военных — участников исторических событий, как, например, его двоюродный дед и опекун А. А. Столыпин, штабс-капитан и герой войны 1812 г., друг генерала А. А. Вельяминова.
Возможно предположить, что особое значение для формирования взглядов Лермонтова на «кавказский вопрос» имело его общение с А. А. Вельяминовым, под начало которого попадает поэт в 1837 г. Кроме того, А. А. Вельяминов был однополчанином двоюродного деда Лермонтова А. А. Столыпина, с которым тот вместе служил «в гвардейской артиллерийской бригаде» [Попов: 41]. С А. А. Вельяминовым также общались служившие на Кавказе родственники поэта П. И. Петров и А. А. Хастатов. А. А. Вельяминов был сподвижником генерала А. С. Ер-молова, которого Лермонтов вспоминает в «Валерике» («при Ермолове ходили» — 2: 168) и намек на образ которого содержится в «Споре» («Их ведет, грозя очами, / Генерал седой» — 2: 195). Возможно, что образ в последнем стихотворении сформировался и под влиянием А. А. Вельяминова, «строгого, с виду холодного, малоречивого», гнева которого «боялись <…> как огня»8. В фонде 178 «Музейное собрание» ОР РГБ хранится его рукопись «История Кавказа»9. В контексте исторического мышления 1830-х гг. этот очерк важен идейными доминантами в оценках приходящегося на это время обострения отношений между Россией, «защитницей и покровительницей» [Захаров: 50] христианства, и магометанским Кавказом.
Обозревая историю Кавказа с давних лет до современного ему этапа, А. А. Вельяминов уже с первых строк акцентирует укорененность греческого влияния, подчеркивает, что «побѣды Александра Македонскаго принесли рѣшительный перевѣсъ на Кавказѣ Грековъ» (Вельяминов: л. 1 об.). Именно этот аспект и способствовал активному распространению на Кавказе христианства. Присутствие России на Кавказе он также связывает с ее преемственностью Византийской империи как в ее государственном величии, так и в необходимости защитить подвергнувшийся угрозе уничтожения христианский мир:
«Государства, образовавшiеся изъ развалинъ Александровой Монархiи, приняли мало по мало Азiатскую физiономiю, съ тѣмъ вмѣстѣ уничтожались и слѣды греческаго влiянiя и на Кавказѣ» ( Вельяминов : л. 1 об.).
А. А. Вельяминов подчеркивает агрессивный характер тюркских династий на Кавказе: «Саметиды <…> воздвигнули гоненiя на Кавказскихъ христiянъ» ( Вельяминов : л. 2); «приливы и отливы татарскихъ ордъ <…> наполнили его многочисленными татарами» ( Вельяминов : л. 2 об. — 3).
Роль России А. А. Вельяминов видит прежде всего в защите православия на Кавказе: «Посреди сихъ кровопролитныхъ переворотовъ и безпорядковъ уничтожались всѣ первыя начала православiя на Кавказѣ» ( Вельяминов : л. 2 об. — 3). Наряду с явными отсылками к идее преемственности России по отношению к Византийской империи, выраженной в необходимости «освободить отъ турецкаго ига» Кавказ ( Вельяминов : л. 4), где натиском турок «уничтожена христiянская религiя» ( Вельяминов : л. 4), А. А. Вельяминов акцентирует и миротворческое начало политики России на Кавказе, а также собственно государственные цели освоения региона, служащего крепким восточным рубежом при соприкосновении «трехъ государствъ: Россiи, Персiи и Турцiи» ( Вельяминов : л. 4 об.) и дающего торговые выгоды через Каспий.
Рецепцию темы взаимодействия этих трех государств находим и в кавказском тексте Лермонтова. Здесь вспоминается судьба Печорина, который был намерен ехать «в Персию — и дальше» (6: 245). Интерпретация этого путешествия не раз предпринималась в науке (см.: [Виноградов], [Дурылин], [Ермоленко]), но еще ждет своего дальнейшего осмысления. Знаковым представляется и образ столицы Ирана/Персии из стихотворения Лермонтова «Спор», где изображаются «типы цивилизаций и облики столетий» [Гроссман: 674]: «Дремлет Тегеран» (2: 194). Рассматривая это стихотворение, нельзя не обратить внимания на его аллегоризм и свойственную ему условность при передаче истории. Учитывая постоянное неспокойствие в Персии 1820–1830-х гг. и в целом активизацию ислама на границе с Россией, несмотря на заключение мира России с Персией в 1828 г., образ дремлющего Востока, как представляется, возник в стихотворении именно в силу преобладания идеи над конкретикой событий, и может рассматриваться как следствие разговоров Лермонтова со славянофилами (недаром «Спор» был передан Лермонтовым через Ю. Ф. Самарина в журнал «Москвитянин»). Имперский лейтмотив очерка А. А. Вельяминова, видевшего бесспорной мессианскую роль России на Кавказе в конкретности исторического момента, состоит в наведении «тишины и порядка между Кавказскими жителями, покорившимися Россiи<,> и усмиренiи непокоренныхъ» (Вельяминов: л. 9), что созвучно и размышлениям Лермонтова, выраженным не всегда прямо, но через аллюзии и реминисценции в кавказском тексте. И в этой связи лермонтовский «Спор» также показателен: в нем поэт претворил концепцию России «как великой империи, которая в своей мощи и объемности уподобляется силе природной, стихийной и превышает потенциал когда-то исторически значимых государств» [Киселева, Поташова, Сеченых: 275].
Неудивительно, что Кавказская война, будучи чередой событий, отражающих государственную политику России, представлена относительно многочисленной группой рукописей, которую составляют официальные документы. Среди бумаг, связанных с ермоловскими походами, следует выделить хранящиеся в ОР РГБ «"Клятвенные обещания" жителей аварского ханства о добровольном подданстве Российской империи», составленные в 1827 г. в деревнях Ганц-Измаилие и Шрем-биюртовской и в 1829 г. в деревне Бутуевской. Текст присяги в них приведен на русском и арабском языках, документ заверен подписями и отпечатками пальцев приведенных к присяге. Клятва следующая:
«Я ниже имянованный обѣщаюсь и клянусь всемогущемъ Бо-гомъ, предъ святымъ Его Алкораномъ въ томъ что, въ ступая добровольно въ подданство всероссiйскаго престола Его Импера-торскаго величества истиннаго и природнаго всемилостивѣишаго великаго Государя Императора Николая Павловича Самодержца всероссiйскаго и Его Императорскаго престола наслѣднику Александръ Николаевичу, и какъ вѣрно подданому надлежитъ безъ лицемѣрства во всемъ повиноваться ихъ высокому Его Импера-торскаго величества самодержавству, силѣ и власти принадлежа-щiя права и прiимущества узаконенныя и впредь узаконяемыя покрайнему разумѣнiю силѣ и возможности предостерегать, оборонять, и старатся во всемъ наравнѣ уже съ подданными Его Императорскаго величества къ благу всего народа, всѣ къ пользѣ государственной делать безъотговорочьно. — всякую вверенную»10.
Примечательно, что и Лермонтов, наряду с традиционным именованием священной книги мусульман — Коран («Из Корана стих священный…» — 2: 129, «Но внемля громкий стих Корана…» — 4: 147), использует содержащуюся в клятве более редкую форму «Алкоран» («Мулла оставил алкоран, / И не слыхать его призванья…» — 3: 182, «Какой-то темный стих из алкорана / Запел он громко» — 3: 265), передающую форму наименования Корана на арабском, где знаменательному слову предшествует артикль « لا — Ал/Аль/Эль» — это определенный артикль в арабском языке, всегда пишется слитно с определяемым словом.
Среди официальных документов обращают на себя внимание и обширные работы штабс-капитана Генерального штаба царской армии К. И. Прушановского, сделанные им во время поездки в Дагестан для подготовки исторических обозрений этого края: «Исторические записки о начале и развитии мюридизма, или Религиозной мусульманской войны в Дагестане и Чечне, с 1822 по 1843 год» (ОР РНБ. Ф. 550, К. И. Прушановский. F.IV.769), рукописный путевой журнал «Кавказ. Дагестан. 1823–1843» (ОР РНБ. Ф. 550, К. И. Прушановский. Q.IV.423). Особенно ценным в связи с осмыслением причин кавказских событий является его историческая записка «О началѣ духовной войны или превратнаго таригiата въ Дагестанѣ съ 1823 по 1843 годъ», входящая в состав путевого журнала. Рукопись представляет собой сброшюрованную из трех блоков тетрадь, состоящую из 39 листов, 36 из которых заполнены с обеих сторон темно-коричневыми чернилами разборчивым крупным почерком. Кавказскую войну К. И. Прушановский определяет как «духовно-мусульманскую» и видит причину столкновения между «исламомъ и христiянствомъ»11 в развитии в 1820-е гг. «новой мусульманской исправительной секты подъ названiемъ исправительнаго таригата», оформившейся под влиянием муллы Магомеда, программа которого «способствовала консолидации разрозненных горских племен в единое целое и выработке общих идеологических установок» [Джалалова: 47]. Пруша-новский указывает, что именно «мулла Магомедъ воспламе-нилъ ненависть къ русскимъ и велѣлъ гоцавать. Гоци — значитъ ведущiй святую войну» (Прушановский: л. 10), отсюда главная миссия русских сил на Кавказе — защита христианства. Наряду с этой составляющей Кавказской войны Прушановский обращает внимание на природный характер горцев, не подвластный контролю:
«Только что русскiе удалились, Шамиль, какъ и надобно было ожидать, забылъ свою клятву, и сдѣлалъ пламенное воззванiе къ жителямъ Дагестана» ( Прушановский : л. 23).
Непрекращающиеся набеги горцев Прушановский объясняет не только влиянием исламских проповедников, но и их естеством:
«Шамиль хочетъ безпокоить насъ во первыхъ набѣгами на покор-ныя намъ земли, во вторыхъ волненiемъ народовъ нами поко-ренныхъ для развлеченiя силъ» ( Прушановский : л. 24).
Отсутствие даже небольших исправлений в рукописи, а также выноски на поля основных тезисов, заголовков, имен, дат позволяют говорить о том, что рукопись была перебелена для представления в Главный штаб и лично императору Николаю I. Впоследствии она была частично опубликована в «Кавказском сборнике». Мессианская роль русских подчеркивается и в «Поло-женiи Христiянства на Кавказѣ до открытiя проповѣди», рассматривающем вопрос «откуда пришло духовное просвѣщенiе на Кавказъ» и указывающем, что еще «въ конце 15 и начале 16 века Черкесы исповѣдовали преславную греческую вѣру, и что Богослуженiе справлялось на славянскомъ языкѣ» (Пру-шановский: л. 4). Неизвестный автор Положения делает подробный обзор развития христианства на Кавказе с XIII в. до 1824 г., когда по просьбе генерала А. П. Ермолова было учреждено миссионерское общество с целью «успѣшнѣйшей Про-повѣди Православной вѣры на Кавказѣ» и «распространенiя Христiянства между горскими и заграничными язычниками и магометянами» (Прушановский: л. 11). И хотя идея христианского Кавказа обозначена у Лермонтова лишь пунктирно и становится заглавным предметом изображения лишь в поэмах «Демон» и «Мцыри», именно они и являются вершинами кавказского текста Лермонтова. Нельзя не отметить и художественную силу ранней поэмы «Измаил-Бей», где главный герой носит «белый крест на ленте полосатой» (2: 224), даже несмотря на то, что в силу романтических обстоятельств и романтического сознания оказывает сопротивление русским.
Если в документах официального характера четко просматриваются две линии в оценке русско-кавказских отношений — имперская идея, связанная с самоочевидным пониманием ценности расширения государства, и идея мессианского служения, заключающаяся в сохранении и распространении христианства на Кавказе, то в частных записках и дневниках обнаруживаются суждения более гуманистического характера с присущими эпохе романтизма размышлениями о природе и цивилизации. Это и понятно — они написаны непосредственными участниками событий, которые, не ставя под сомнение важности происходящего («…мы вооружились для избавленiя сего несчастнаго народа и наше вмѣшиванiе оправдано добродѣтелiю»12), в то же время задумывались над «противною стороною» цивилизационных действий, налагающих «тѣ цѣпи, которыя мы долженствовали бы ослабить»13.
Имеющие место в русском обществе 1830-х гг. диалектические споры были близки и Лермонтову, образно представившему в своем творчестве идею России как преемственной по отношению к Византии Великой империи. Поэт видит и конфликт естественного и цивилизованного человека, находя, что «любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни» (6: 232), и конфликт природы и цивилизации. В «Споре» он, подобно древнегреческому рапсоду, поет славу великолепию идущим «медным строем» (2: 195) с севера военным батареям и боевым батальонам, одновременно воспроизводя диалог величественных вершин Кавказа — Эльбруса и Казбека, олицетворение которых так отвечает архаическому сознанию с его персонифицированным восприятием мира природы. Признание естественности течения исторического процесса у Лермонтова соседствует с пониманием того, что история неумолимо идет к апокалипсису и к конечности гармонического мира природы. В сознании поэта, как и в сознании его эпохи, борется мысль о необходимости применения силы для обеспечения мирной жизни, порядка, сохранения и развития культуры с мыслью о зле, происходящем от вмешательства человека в естественное совершенство мира природы, нарушающееся тогда, когда «загремит топор» (2: 193). Примечательно, что Измаил-Бей, герой одноименной поэмы Лермонтова, горец, получивший «прививку» европейской культуры, решается «от русских защитить» «не родной аул», но «родные скалы» (3: 202), которые являют собой образ совершенства тварного мира, своего рода рая на земле, уподобление которому лежит и в основе идеи христианской Империи. Этот парадокс аналогичен парадоксу существования человека — венца творения, способного творить как добро, так и быть источником зла.
Лермонтов и его современники размышляли об этическом характере Кавказской войны, представляя «образ утверждения русских на Кавказе <…> двупланово» [Киселева, Поташова: 97]. В основе их размышлений и отношения к местным народам лежат идеи и чувства человеколюбия и желания гармонического сосуществования. Уже в ранней поэме «Измаил-Бей» Лермонтов вкладывает в уста русского офицера признание в любви к природе и народу Кавказа: «И ваше племя я люблю» (3: 192), — тем самым обнаруживая охранительный характер военных действий русской армии по отношению к населению и культуре региона.
Идея миролюбия прослеживается и в позднем стихотворении Лермонтова «Валерик», где поэт вкладывает в уста русских солдат, с которыми его объединяет единое «мы», слова-воспоминания: «Как там дрались, как мы их били, / Как доста-валося и нам» (2: 168). Поэт передает присущее всей русской стороне сочувствие горцам. Языковым средством воплощения гуманистического смысла выступает местоименная конструкция «мы» — «их» — «нам», одновременно раскрывающая противостояние и общую судьбу воюющих сторон. Горечь поэта о существующей в человеческом сообществе вражде («Один враждует он — зачем?» — 2: 172) определяет его нравственное состояние. Не отрицая необходимость противления злу и показывая свою причастность к воюющей стороне, готовность служению интересам государственности и понимание неизбежности цивилизационных конфликтов при движении истории, поэт утверждает вечную правду первозданной беспорочности «ясного неба», под которым «места много всем» (2: 172).
Материал о пребывании Лермонтова на Кавказе и его участии в сражении на Валерике может быть дополнен «Очеркомъ положенiя военныхъ дѣлъ на Кавказѣ съ начала 1838 по конецъ 1842 года» — сочинением генерала Е. А. Головина, являвшегося с 1837 по 1842 г. командующим Отдельным Кавказским корпусом. В своем очерке генерал подробно фиксирует все нападения горцев на военные крепости русской армии, видя присущее «дикимъ горцамъ» предпочтение «гибели съ оружiемъ въ рукахъ мучительной голодной смерти»14. Документально фиксируя действия русских в 1840 г., Е. А. Головин сообщает о составе чеченского отряда, бывшего «на лѣвомъ флангѣ подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Галафѣева», в котором служил Лермонтов: «Десять съ половиною баталiоновъ пѣхо-ты, донскiе № 34 и 39 полки, 370 линейныхъ казаковъ, 200 че-ловѣкъ горской милицiи и 29 орудiй артиллерiи» (Головин: л. 40). Сложную ситуацию, возникшую в то время в Чечне, Е. А. Головин объясняет «исполненiемъ предположенiй, сдѣланныхъ еще сообразно съ предшествовавшими обстоятельствами» (Головин: л. 41). В связи с этим «ничто не препятствовало Шамилю распространять и утверждать влiянiе свое въ Чечнѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждать Чеченцевъ къ всеобщему возстанiю» (Головин: л. 42), как и дальнейшему продвижению Шамиля, который «перешелъ Сунжу и увлекъ съ собою всѣ мирные аулы, бывшiе на правомъ берегу Терека, за исключенiемъ трехъ деревень, Брогуна, Стараго и Новаго Юртовъ» (Головин: л. 42). Находим у Е. А. Головина и описание сражения на Валерике. Приведенные им топографически точные детали позволяют проследить маршрут Лермонтова тех дней и действия отряда, в котором он находился:
«Отрядъ его 6 iюля выступилъ въ Малую Чечню. Выжигая аулы и уничтожая хлѣбы, генералъ Галафѣевъ прошелъ чрезъ Чахъ-Кери, Урусъ-Мартанъ и Анхой и возвратился въ Грозную чрезъ Казакъ-Кичу, лѣвымъ берегомъ Сунжи. Онъ сдѣлалъ нѣкоторый вредъ Чеченцамъ, надъ которыми въ бою вѣздѣ имѣлъ превосходство; но и самъ притерпѣлъ значительную потерю въ людяхъ, особенно 11 iюля въ дѣлѣ на рѣкѣ Валерикъ, гдѣ войска наши неожиданно наткнулись на весьма крѣпкую позицiю, занятую многочисленными скопищами мятежни-ковъ» ( Головин : л. 44).
Действия генерала А. В. Галафеева получили неоднозначную оценку Головина, отметившего, что «время для усмиренiя Чечни было пропущено», «всѣ аулы уже присоединились къ Шамилю и поклялись не вступать въ сношенiя съ Русскими», а сами «дѣйствiя войскъ болѣе раздражали и способствовали возмутителю усилиться» ( Головин : л. 44 об).
Критический элемент в суждениях современников естественен при ведении охранительной войны и желании смягчить ее жестокий характер и избежать кровопролитий. Так опустошенность лирического героя в лермонтовском «Валерике» («Им вслед смотрел [я] недвижимый» — 2: 171) определяется неизбывной горечью существования человека в падшем мире, где необходима заповедь «не убий», которая была бы абсолютно не востребована в райском бытии.
Главенствующее место в размышлениях участников Кавказской войны 1820–1830-х гг. занимают, во-первых, имперская идея, связанная с самоочевидным пониманием ценности расширения государства и контроля над пограничными землями, во-вторых, идея мессианского служения, заключающаяся в сохранении христианства на Кавказе, и, в-третьих, представления о необходимости мира не только внутри христианского сообщества, но и в его взаимодействии с иными культурами во имя человеколюбия. Эти же идеи транслируются и Лермонтовым, выразившим в своем творчестве «настроения передовых, мыслящих кругов русского общества» [Гулин: 18]. Военные действия на Кавказе мыслятся Лермонтовым как естественное движение исторического процесса и, соответственно, цивилизационного прогресса, но при этом представлены как неизбежное зло падшего мира. Непосредственное участие поэта в кавказской военной кампании определяется не только вынужденными обстоятельствами его командировки на Кавказ, но и его готовностью служить интересам православного государства. Рефлексия поэта по поводу этих событий созвучна настроениям, которые были характерны для общества его времени, но гений поэта представил их в особой образной форме.
С. 6–35 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/imag-es/2023-5-1/01_Gulin_6-35.pdf (02.09.2023). DOI: 10.22455/2686-7494-20235-1-6-35
Список литературы Кавказская тема Лермонтова в контексте рукописного наследия его современников
- Агамалян Л. Г. Сводный каталог лермонтовских материалов в собраниях ИРЛИ РАН / отв. ред. Л. Г. Агамалян. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2014. 496 с.
- Алексеев Д. А. Лермонтов. Исследования и находки. М.: Древлехранилище, 2013. 644 с.
- Бронникова Е. В., Зубкова Н. А., Киселева И. А., Крутова М. С. Каталог рукописных источников о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: энциклопедический словарь / гл. ред. и сост. И. А. Киселева. М.: Индрик, 2014. С. 897–924.
- Виноградов И. И. Духовные искания русской классики. М.: Сов. писатель, 1987. 380 с.
- Гроссман Л. Н. Лермонтов и культуры Востока // М. Ю. Лермонтов / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). М.: Изд-во АН СССР, 1941. Кн. 1. С. 673–744. (Сер.: Литературное наследство; т. 43/44.)
- Гулин А. В. Небесный ангел Михаила Лермонтова (Духовный опыт как творческая категория) // Два века русской классики. 2023. Т. 5. № 1. С. 6–35 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/images/2023-5-1/01_Gulin_6-35.pdf (02.09.2023). DOI: 10.22455/2686-7494-2023-5-1-6-35
- Джалалова С. М. Политико-правовые воззрения Магомеда Ярагского (первая половина XIX в.) // Актуальные проблемы российского права. 2011. № 4. С. 40–50 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-pravovye-vozzreniya-magomeda-yaragskogo-pervaya-polovina-xix-v (23.09.2023).
- Захаров В. Н. Имперская идея Ф. М. Достоевского // Русская литература и национальная государственность XVIII–XIX вв.: тезисы докладов Междунар. науч. конф. к 500-летию Московского Новодевичьего монастыря и 300-летию провозглашения Российской империи (г. Москва, 13–15 октября 2020 г.). М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 49–50.
- Дурылин С. Н. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова: [комментарии]. М.: Дом-музей С. Н. Дурылина, 2006. 293 с.
- Ермоленко С. И. Зачем Печорин ездил в Персию? // Филологический класс. 2007. № 1 (17). С. 41–48 [Электронный ресурс]. URL: https://filclass.ru/images/JOURNAL/17/12.pdf (23.09.2023).
- Киселева И. А., Поташова К. А. Истоки и образное воплощение имперского сознания М. Ю. Лермонтова // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 3. С. 87–100 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1663004883.pdf (15.09.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2022.11242. EDN: PTRLVT
- Киселева И. А., Поташова К. А., Сеченых Е. А. Творческая история стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор» (1841) в культурно-историческом контексте // Научный диалог. 2019. № 10. С. 264–279 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/1339 (15.09.2023). DOI: 10.24224/2227-1295-2019-10-264-279.
- Крутова М. С. Рукописные источники о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова // Библиотековедение. 2014. № 4. С. 65–70 [Электронный ресурс]. URL: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/78 (25.08.2023). DOI: 10.25281/0869-608X-2014-0-4-65-70
- Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь: Кн. изд-во, 1954. 223 с.
- Щеголев П. Е. Книга о Лермонтове: [в 2 кн.]. Л.: Прибой. 1929.