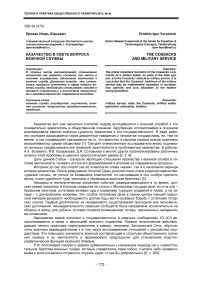Казачество в свете вопроса военной службы
Автор: Ерохин Игорь Юрьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает становление казачества как военного сословия, его место в системе государства, отношение казачества к военной службе. Делаются выводы, что сложившиеся традиции казачества в сфере вопроса военной службы необходимо использовать сегодня в процессе социализации и воспитания патриотизма и гражданственности современной молодежи.
Военная служба, государство, казачество, военное сословие, патриотизм, гражданственность, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14935306
IDR: 14935306 | УДК: 94
Текст научной статьи Казачество в свете вопроса военной службы
The article considers formation of the Cossacks community as a military estate, its place in the state system, and the Cossacks’ attitude to military service. It is concluded that the Cossacks’ traditions of the military service may be implemented nowadays in socialization, patriotic and civic education of the modern young generation.
Казачество вот уже несколько столетий подряд ассоциируется с военной службой и это основательно закрепилось в общественном сознании. Зарубежная историография в основном анализировала именно военную сущность казачества и его государственности. В ряде работ это сословие раскрывается через девиантное поведение и неприятие государством, но, тем не менее, в них справедливо указывается на то, что воинство и героизм казаков всегда позитивно воспринимались самим обществом [1]. Сегодня отечественные исследователи вновь поднимают вопросы профессиональной (военной) идентичности в проблематике казачества. В работах А.А. Волвенко, И.В. Казарезова, Д.Н. Соловьева и многих других проанализированы различные аспекты этой проблемы в широких хронологических рамках [2; 3; 4].
Цель данной статьи - раскрыть эволюцию отношения казачества к военной службе в системе менталитета, показать истоки его формирования и влияние на современные процессы.
Историки до сих пор спорят как об этимологии слова «казак», так и о начальном периоде истории казачества. После разрушения Золотой Орды донские степи стали родиной казачества: «удалые головы, не только не боявшиеся опасностей, но находившие в них особую прелесть жизни, стали удаляться туда, селились и образовали воинское братство» [5].
Находясь в геополитическом эпицентре событий, разворачивающихся в то время, донские казаки оказались в близком соседстве не только с Московским государством, но и на юге -Крымским ханством, остатками кочевых орд и окраинами турецких владений в Азове, а на западе – с днепровскими казаками. Это особое положение Дона в самом центре павшей ордынской империи вызывало необходимость долгие годы вести кровавую борьбу с остатками татарских улусов. Первые десятилетия их независимого существования проходили вне экономических достижений, жизнедеятельность казачьих сообществ была направлена исключительно на оборону и войну для добычи, которая служила возмещением потерь, причиненных нападениями кочевников.
Зарождение самой политики и государственности в казачьих сообществах XV–XVI вв. прослеживается в связи с эволюцией военного лидерства. Первые политические действия, давшие начало казачьему самоуправлению в рамках, например, Запорожской Сечи, обусловлены военным взаимодействием и в том числе выстраиванием отношений с российским государством. Это повышало значимость военной составляющей в структуре общественного сознания казаков и их менталитета и формировало предпосылки для становления властноуправленческих функций казачьего атамана.
Н.И. Костомаров говорит о казаках применительно к указанному периоду как о «самостоятельном братстве военных людей, которые управлялись сами собою, считали себя независимыми и если изъявляли готовность служить царю, то как бы добровольно» [6, с. 265].
Таким образом, казачество исторически и геополитически всегда было связано с военной службой. Напряженные отношения с Польшей и Турцией диктовали необходимость использования этого военного сословия государством. Именно в связи с этим в 1746 г. российской властью граница между землями Донских и Запорожских казаков устанавливалась по р. Кальмиусу, то есть там, где в 1714 г. формально была установлена русско-турецкая граница. Запорожцы оставались в формальных, хотя и не фактических пределах Турции, агентами российского государства на этой территории. Вместе с тем государство решило и давний спор между этими двумя группами казаков «под опасением на обе стороны жесточайшего Ея Императорского Величества гнева и истязания» [7].
Извечная служба не помещикам, а государству сформировали у казаков вольнодумие и особое отношение к военной службе. Собственная классификация военных чинов, отличавшаяся от общероссийской, говорит об автономии в рамках служения единому Отечеству. Российская история демонстрирует разные формы использования казачества государством. Во второй половине XIX в. происходит формализация военной службы казаков в рамках российского государства. Так, в 1875 г. был издан закон о воинской повинности. Срок службы для казаков (кроме священнослужителей и торговых казаков) определялся в 20 лет: от 18 до 21 года - в приготовительном разряде, от 21 до 33 лет - в строевом разряде, от 33 до 38 лет - в разряде запасных.
Военный долг у казаков был тесно связан с их верой. Многочисленные военные походы на иноверцев (турок, персов и др.) часто вдохновлялись рассказами и преданиями о немилосердных истязаниях ими христиан. Религиозность казачества нередко составляла основу мотивации их служения долгу, была связана с военными обрядами и традициями. Так, уход от религиозного гнета ассоциировался в сознании как уход от Центральной власти и был всегда востребован в казачьих сообществах.
Тем не менее государство (с его потребностями охраны границ и внутреннего порядка) и казачьи сообщества представляли собой единую систему. Идея служения родине – ключевая в казачьем менталитете, системе ценностей и фольклоре. Реконструируемый М.А. Рыбловой, проанализировавшей фольклорные тексты казаков, архетип «ухода» служил своего рода идейной матрицей, на основе которой формировалось мировоззрение казачества. Уход предполагал военную службу государству. С помощью войны и «служения» решалась важная стратегическая задача, формировалась социокультурная модель экстремального существования, в рамках которой казачество становилось «вольным служилым сословием». Модель военного братства показала свою эффективность и при формировании казачьей идентичности, и при формировании государственной составляющей казачьего мировоззрения.
Представления о воинской судьбе, службе, государстве и государе, власти, зафиксированные фольклорными текстами, реализовывались в способах устройства внутриобщинной жизни ранних казачьих сообществ, «определяя специфику культурной модели донских казаков, которая предстает как часть общерусской традиции» [8, с. 211]. Действительно, военная сфера являлась «колыбелью» политики в целом у казачества (как и у славян вообще). Отношения казаков к военной и государственной службе полны противоречий. Важно при этом дифференцировать понятия «служение государству» и «служба государю», ведь примерно до середины XVIII в. у казачества главенствовала личная преданность государю. Власть государя рассматривалась как обязанность, возлагаемая на него Богом, отсюда и служение ему гармонировало той вере, которой придерживались казаки. Проблема религиозности казачества, о которой уже упоминалось ранее, требует особого исследования в силу той важности, которую несет в себе для понимания и отношения к военной службе.
Служение государю стало объединяющим фактором при формировании Российской Империи и российского государства. Русская народная идентичность (как внутри, так и вне страны) строилась преимущественно не на этнических, а на традиционных основаниях: конфессиональных («мы» – «православные», «хрестьяне», они – «нехристи» / «басурмане»), сословных («мы» – «казаки») или территориально-локальных / региональных («мы» – «донские», «запорожские», «яицкие»). Лишь в экстремальных условиях бесконечных войн казаки идентифицировали себя с государством, олицетворением которого для них был самодержавный царь.
В русской казачьей традиции на протяжении многих веков сложился культ героя. Истоки подобного отношения казаков к военному делу следует искать в структуре казачьей семьи. Она, в основном, держалась на беспрекословном авторитете отца. Именно в семье закладывались основы формирования гражданского долга и воинской чести. Эти ценности, связанные с военной службой, складывались в процессе формирования гражданской культуры казачества. Не случайно звание атамана – казачьего вождя произошло от древнегерманских atta – отец и mann – витязь, муж. Первоначальное значение этих понятий «отец-витязь» или «отец-мужей» сохранилось в памяти казаков как «отец-атаман», «батька-атаман».
Уже в годовалом возрасте во время исполнения военных обрядов мальчиков сажали верхом на неоседланного коня. По поведению ребенка гадали: если казачонок вел себя достойно, не плакал и хватал коня за гриву, говорили, что он будет жив и достойно участвовать в будущих военных походах; если же плакал и не мог удержаться и падал – быть убитому на поле боя. Также рано учили держать саблю, и с 3-5 лет крестный начинал обучать мальчика военному искусству и приучать к верховой езде. В 7 лет стригли наголо и старшие братья придирчиво осматривали вещи и выбрасывали все, что считалось мягким или слишком теплым [9, c. 283]. Эта суровость воспитания связана с основной миссией мужчины-казака – военной службой, расцениваемой не просто как долг или честь, а неотъемлемое право для сохранения своей идентичности.
Среди базовых архетипов субэтноса казаков, основанных на активной жизненной установке, исследователи выделяют именно военную службу [10, c. 184]. В иерархии ценностей казачества они занимают важное место при формировании картины мира. Структура казачьей семьи и традиции военного самоуправления исторически способствовали формированию духа верности боевому братству и преданности России и ее вооруженным силам.
Итак, военная служба является основой мировоззрения казачества и совпадает с государственной составляющей этого мировоззрения. Воспитание молодежи в казачьих традициях должно сегодня опираться на значимость военной службы, приоритет личностного долга казака в защите Отечества, уважении к главе государства.
Ссылки:
-
1. Hobsbawm E.J. Social Banditry // Rusal protest: Peasant Movemenst and Social Change. 1974.
-
2. Волвенко А.А. Российская власть и донское казачество во II пол. XIX - нач. XX в. // Пространство власти: исторический опыт имперской России и вызовы современности / под ред. Б.В. Ананьича, С.И. Барзилова. М., 2001.
-
3. Казарезов И.В. Функции и технологии общественно-государственного управления образовательной деятельностью казачьих обществ (на материалах Ростовской области) // Социум и власть. 2010. № 1. С. 23-27.
-
4. Соловьев Д.Н. Мобилизационные составляющие казачьих войск. СПб., 2011.
-
5. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 2007.
-
6. Там же.
-
7. ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 12 (1744-1748). СПб., 1830. № 9282 «О назначении пограничной межи между землями Запорожцев и Донских казаков». С. 544-545.
-
8. Там же.
-
9. Русские дети. Основы народной педагогики: иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2006.
-
10. Костюченкова Е.М. Антропонимическая система как элемент лингвокультуры донского казачества // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 38 (82). Сер. Общественные и гуманитарные науки. СПб., 2008.
С. 186-203. Вып. 3.