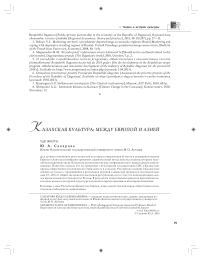Казахская культура: между Европой и Азией
Автор: Сапарова Юлдуз Азимхановна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Модель устойчивого развития секция
Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
Для лучшего понимания роли казахской культуры и определения её места в суперцивилизациях Европы и Азии целесообразно применить сравнительный метод анализа социокультурных явлений (компаративистику). Казахстан расположен между конфуцианской и православной цивилизациями. Известно, однако, что по сравнению с некоторыми государствами СНГ, в Казахстане прочны общественно-политическая стабильность и согласие. Российское влияние в Казахстане связано не только с проживанием в республике крупной славянской группы (по последним данным 23-26% от общей численности населения республики), но и с тем, что казахский народ долгое время находился в подданстве России. В результате существования рядом на протяжении нескольких веков в культурной структуре казахского народа произошли некоторые изменения.
Республика казахстан, европа, азия, казахстанский народ, общественно-политическая стабильность, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14489721
IDR: 14489721 | УДК: 008(574)
Текст научной статьи Казахская культура: между Европой и Азией
Для лучшего понимания роли казахской культуры и определения её места в суперцивилизациях Европы и Азии целесообразно применить сравнительный метод анализа социокультурных явлений — компаративистику, которая выступает одним из основных способов анализа культур и цивилизаций.
Одной из идей, которая объединяла культурные и социальные процессы, происходившие на территории Казахстана, является социокультурная концепция евразийства. Можно выделить следующие социальнополитические основания идеи евразийства. Во-первых, данная идея возникла как осознание отличия России от Европы, в широком плане — православной цивилизации от западнохристианской. В западном европейском мышлении Россию не относят к Европе, границы которой заканчиваются где-то в районе Карпат. Например, Ф. Ницше утверждал, что послепетровская Россия является громадным срединным царством, где Европа как бы возвращается в Азию.
В то же время Европа и Азия составляют единый континент, и Россия занимает его хартлент (середину), поэтому Евразия предстаёт перед нами как возглавляемый Россией особый культурный мир, внутренне и крепко единый, бесконечно противоречивый и обладающий многообразием своих проявлений. Евразия — Россия, развивающаяся своеобразная культуро-личность.
Она, как и другие «многородные» культурные единства, индивидуализирует человечество, являя его единство во взаимообраще-нии с ними, и потому осуществляет свою общечеловеческую, «историческую миссию». С этой позиции Россия представляет собой особый мир.
Жизнь этого мира, в основном, протекает отдельно от жизни стран к западу от неё (Европа), а также к югу и востоку (Азия). Народы и люди, проживающие в пределах этого мира, способны к достижению такой степени взаимного понимания и таких форм братского сожительства, которые труднодостижимы для народов Европы и Азии. Л.Н. Гумилев писал: «Этот континент (Евразия) за исторически обозримый период объединялся три раза. Сначала его объединили тюрки, создавшие каганат, который охватывал земли от Жёлтого моря до Чёрного. На смену тюркам пришли монголы из Сибири, после периода полного распада и дезинтеграции инициативу взяла на себя Россия: с XV века русские двигались на восток, и вышли к Тихому океану. Новая держава выступила, таким образом, наследницей Тюркского каганата и Монгольского улуса» [2, с. 5]. Л. Н. Гумилев делает очень дельное замечание некоторым культурове-дам России: «Пора прекратить рассматривать древние народы Сибири и Центральной Азии только как соседей Китая или Ирана» [2]. Объединению Евразии традиционно противостояли: на западе — католическая Европа, на Дальнем Востоке — Китай, на юге — мусульманский мир (с позиции российской культуры). С ноосферных позиций обосновывает евразийскую идею Г.В. Вернадский. С его точки зрения нет естественных границ между европейской и азиатской Россией. «Следовательно, нет двух России — “европейской” и “азиатской”. Есть только одна Россия евразийская или Россия Евразия» [цит. по: 3, с. 9].
Евразийская идея широко обсуждается в современной философской и иной мысли стран СНГ. Можно встретить различные позиции по данному вопросу. Националистически ориентированные деятели попытались откреститься от евразийской идеи, посчитав за оскорбление для русского народа идею единства культур «метрополии» и «инородцев», к которым они относят тюрко-кавказские народы (например, журнал «Русский вестник», статьи Н. Гусевой). Неодобрительно были встречены этим истеблишментом книги О. Сулейменова «Аз и Я» и Мурата Аджи «Полынь половецкого поля». Неприятие евразийской идеи часто прикрывается утверждениями о панисламистской и пантюркской угрозе.
Прежде чем дальше углубиться в основы евразийской идеи, рассмотрим популярную сейчас теорию — учение С. Хантингтона о конфликте цивилизаций. Согласно этому учению, пограничные районы различных цивилизаций являются вероятными очагами нестабильности и конфликтов. Казахстан по своему геокультурному пространству расположен между конфуцианской и православной цивилизациями. Известно, однако, что по сравнению с некоторыми государствами СНГ, в Казахстане прочны общественно-политическая стабильность и согласие.
Это можно объяснить множеством факторов. Значительную роль среди них играет и культурный фактор. По нашему мнению, к определяющей внутреннее положение в современной Республике Казахстан значи- тельной и обширной группе относятся представители евразийского менталитета.
Российское влияние в Казахстане связано не только с проживанием в республике крупной славянской группы (по последним данным 23—26% от общей численности населения республики), но и с тем, что казахский народ долгое время в подданстве России. В результате этого за несколько веков в культурной структуре казахского народа произошли некоторые изменения. Этот процесс, в первую очередь, коснулся языка и породил проблему русскоязычных казахов (уйгуров, узбеков, татар и т.д.). «Если говорить окончательно, решающий демографический фактор среди казахов — потеря своего родного языка под прямым воздействием языковой среды, прекратилась лишь теперь и только сейчас начинает набирать силу процесс возвращения к своей родной речи. Несмотря на улучшение демографического положения, для того, чтобы ещё больше ускорить этот процесс, нужно во всех сферах жизни (например, начиная от рождения детей, дошкольного воспитания, учёбы в школе, приучения к труду, до официального применения в каждой отрасли государственного языка нашей страны) оказывать ему действенную поддержку. Короче говоря, только при сочетании активной языковой политики с демографически решающими, выгодными для себя переменами она может быть плодотворной, иными словами, материнский язык можем поднять только силой отцовской (демографией)» [6, с. 91].
Конечно, демографический и языковой факторы оказывают на этнокультуру огромное влияние. Однако нельзя исключать эту большую группу из сферы национальной культуры из-за потери языка. Например, шотландцы и ирландцы не утратили национальное своеобразие, хотя и стали говорить на английском языке. Также и в нашей республике русскоязычные казахи и представители ряда других мусульманских народов не ушли далеко от национальных традиций и обычаев и религиозно-культурной сферы. К тому же вопрос не об удельном весе и процентном отношении.
Культурная система казахского народа начала XX века основывалась на трёх началах: исконная традиционная культура, колониальная культура и западное влияние. Евразийский культурный тип сумел совместить традиционную культуру с достижениями западной цивилизации. Специальные исследования показывают склонность к культурному диалогу. Об этом в своё время достаточно сказал Абай.
Только рассматривать «традиционалиста» как антипода прогресса, а «модернизированную личность» как антипода «традиционалиста» было бы надуманным. В связи с этим вопросом приведём такую уместную мысль Главы государства Республики Казахстан: «Мы значительно оторвались от своих культурных корней. Зато больше испытали воздействие других цивилизаций. Хорошо ли это или плохо, это уже другой вопрос» [5, с. 264].
Подобные этому примеры можно привести и из мировой истории. Перед попавшими в зависимость евреями было два пути: первый — осуществление непримиримой зи-лотской тактики, полное отрицание культуры античного Рима. Второй — бить врага его же оружием, предугадывать каждый его шаг и соответственно готовить контрмеры. Эта тактика принесла еврейской культуре стратегическую победу. Свидетельством этому является сегодняшняя еврейская культура [5].
Схожие с этим явления можно наблюдать и в реакции России, Японии и Китая на западную экспансию. До встречи с Западом эти три страны по уровню развития технологий стояли намного ниже по сравнению с ним. Известно, что после реформ Петра I Россия приблизилась к западноевропейской культуре. Противников Петровских реформ — «староверов» и славянофилов можно оценить как проявления зилотского архаизма в России.
Япония и Китай ответили на давление За- пада несколько иначе. После повышения уровня своей материальной культуры, путём принятия передовых достижений Запада, Япония и Китай поставили заслон перед европейской духовной экспансией. Это, в частности, по сравнению с Китаем, более последовательно, проводилось в Японии, и в результате этого она превратилась в страну с одной из передовых культур в мире. Как видим, можно по-разному ответить на европейскую экспансию. Можно считать, что, несмотря на невосполнимые жертвы, казахский народ с честью вышел из этого исторического испытания. Неправильно приуменьшать здесь роль евразийского субтипа в казахской культуре.
Евразийский культурный тип относится, говоря словами Гегеля, к «разорванному сознанию», он колеблется между Западом и Востоком. Древний пример этой традиции можно увидеть в культуре Великого шёлкового пути. Но рассматривать евразийскую культуру только как буферный регион между Западом и Востоком было бы проявлением односторонности. Потому что здесь мы становимся свидетелями не просто взаимоотношений двух суперцивилизаций, а формирования модели их единения. Несомненно, что, как и в средние века, в результате слияний эллинистической, арабской, персидской, тюркской культур стал возможным Ренессанс, так и в XXI веке в Центральной Азии начинается новый подъем. Только для этого необходимы непреклонная воля народа и его единство, общность традиций и времени.
В Казахстане между представителями евразийско-казахского типа и русскоязычной культуры прослеживается много связей. Как бы ни относиться к Советскому Союзу, надо признать одно: дружба народов стала не лживым лозунгом, а превратилась в ментальное свойство простых людей. Именно по этой причине в марте 1991 года большинство народа Казахстана проголосовало за сохранение Советского Союза. Из этого не должно вытекать, что они были против об- ретения Казахстаном независимости. Представители европейской национальности, чувствующие себя гражданами Республики Казахстан, обладая евразийским менталитетом, могут заниматься плодотворной деятельностью по превращению Казахстана в цивилизованную страну.
Итак, мы остановились на некоторых проблемах евразийского культурного типа. Для реализации своих возможностей евразийский культурный тип должен объединиться с казахской традиционной культурой. В противном случае, в евразийской казахской культуре будут преобладать маргинальные признаки.
Казахстан всё-таки расположен в Центральной Азии, и этот фактор имеет решающее значение. Сегодня становится очевидным, что большинство государств Центральной Азии столкнулось с проблемой поиска путей развития и нуждается в нахождении эффективного и безопасного пути модернизации своих обществ. Именно поэтому изучение внутриполитической ситуации, складывающейся в соседних с Казахстаном центральноазиатских странах, приобретает особое значение с позиции обеспечения его безопасности.
Такая постановка проблемы во многом объясняется тем, что переходные режимы стран Центральной Азии имеют ряд сходных черт, которые позволяют классифицировать их в качестве отдельного феномена, как по схожести социально-экономических и политических систем, так и по состоянию обществ. Именно такое внутреннее родство государств постсоветской Центральной Азии обуславливает схожесть закономерностей в их системном развитии, которые, в совокупности, образуют внутренние факторы стабильности их политических систем. Независимо от степени присутствия этих факторов в той или иной центральноазиатской стране, сохранение политической стабильности во всей Центральной Азии во многом зависит от решения проблемы безболезненной трансформации политических систем с целью достижения большей устойчивости.
Исследованию внутренних факторов стабильности в Центральной Азии в последние годы среди экспертного сообщества уделяется повышенное внимание. При этом основной упор делается на политические аспекты данной проблематики, и в первую очередь на устойчивость политических систем центральноазиатских стран. Во многом это связано с произошедшими в последние годы на постсоветском пространстве событиями — так называемым «цветными» революциями. Эти события по-разному оцениваются в экспертном сообществе — как в негативном, так и в позитивном контексте. Однако все оценки, в основном, сходятся на двух моментах.
Во-первых, с точки зрения устойчивости и стабильности политических систем, главными причинами «цветных» революций в Грузии, Украине и Кыргызстане стали, прежде всего, просчёты правивших властных элит. В этом смысле можно согласиться с теми исследователями, которые склоняются к тому, что важнейшими факторами «цветных» революций в этих странах стали массовый характер недовольства (и, в том числе, непременно среде элиты) правящим режимом и неадекватность последнего, то есть неспособность упредить революцию, удовлетворив хотя бы наиболее острые потребности общества. Для противостояния назревавшим «революционным коллизиям» грузинским, украинским и кыргызским властным элитам не хватало главного — дееспособности и популярности [4].
Во-вторых, как считают многие эксперты, «цветные» революции стали «революциями несбывшихся ожиданий»: за то немногое, что удалось, заплачена слишком дорогая цена — кризис и обманутые надежды. Последующий постреволюционный опыт показал, что, с одной стороны, свершение «цветных» революций не гарантирует реализации более демократической идеи, а с другой — «революционная ротация властей» приво- дит к дестабилизации стран и целых регионов. Например, события в Кыргызстане и Узбекистане показали, какие разрушающие действия может иметь резкая смена власти и что подобные эксперименты в странах Центральной Азии могут закончиться серьёзной дестабилизацией обстановки и повлечь за собой крайне опасные последствия, что и подтвердили события в Бишкеке и Андижане [1].
Основополагающим фактором политической стабильности в странах Центральной Азии выступает национальная идеология и социальная идентификация. Дело в том, что в нынешнем социально идеологическом развитии центральноазиатских обществ, как представляется, скрыта одна из главных угроз для стран региона, включая южные области Казахстана. И самое главное — вплоть до настоящего момента прак- тически все центральноазиатские общест ва раз ви ва ют ся в ус ло ви ях оп ре де лён но-го идеологического вакуума. К сожалению, в большинстве стран Центральной Азии государство пока не смогло предложить никаких серьёзных основ для развития идентификации общества. Общество, в силу неразвитости так называемого нации-государства и гражданского общества, не располагает какими-либо готовыми идеологическими моделями, так как традиционные идеологемы в большинстве стран либо размыты, либо не прошли ещё должной модификации для восприятия их в данном качестве. Очевидно, что существующий в странах региона идеологический вакуум должен быть заполнен чем-либо, и государства найдут выход из этой ситуации, но пока серьёзных путей развития и собственно идеологических концептов не предложено.
Список литературы Казахская культура: между Европой и Азией
- Абросимов И. Агония «оранжевой революции» [Электронный ресурс]//Дни.ру.: [веб-сайт]. URL: http/dni.ru/news/pk/2005/9/20/70148.html.http/vzglyad.ru/politics/2005/10/25/10847.html (дата обращения: 20.09.2005).
- Гумилев Л. Н. Из истории Евразии//Евразия. 2001. № 1.
- Гумилев Л. Н. В поисках вымышленного царства. Алматы, 1992.
- Делягин М. Г. После СНГ: одиночество России//Россия в глобальной политике. 2005. № 2 (июль-август).
- Назарбаев Н. А. В потоке истории. Алматы: Онер, 1996 (на казах. яз.).
- Татимов М. Мир казаха. Алматы: Жазушы, 2006 (на казах. яз.).
- Тойнби А. Постижение истории. Москва: Политиздат, 1989