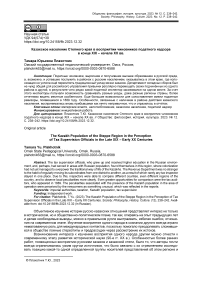Казахское население Степного края в восприятии чиновников податного надзора в конце XIX - начале XX вв
Автор: Плахотник Т.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Податные чиновники, выросшие и получившие высшее образование в русской среде, а, возможно, и успевшие послужить в районах с русским населением, оказывались в этом краю, где колонизация не успела ещё пересилить традиционный уклад жизни казахов. Департамент окладных сборов был не чужд общей для российского управления привычки регулярно перемещать своих подчинённых из одного района в другой, в результате чего редко какой податной инспектор засиживался на одном месте. За счет этого инспекторы получали возможность сравнивать разные уезды, даже разные регионы страны, более отчетливо видеть местные особенности. Еще большие возможности для сопоставления имели податные ревизоры, появившиеся в 1889 году. Особенности, связанные с наличием в районе действия казахского населения, воспринимались вновь прибывшими как нечто непривычное, что и отразилось в отчётах.
Имперские власти, налогообложение, казахское население, податной надзор
Короткий адрес: https://sciup.org/149144311
IDR: 149144311 | УДК: 94(574)+39 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.32
Текст научной статьи Казахское население Степного края в восприятии чиновников податного надзора в конце XIX - начале XX вв
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия, ,
,
Возникновение интереса к изучению восприятия одного народа другим можно отнести к современному этапу развития исторической науки (90-е гг. XX в.). Особенностью более ранних работ, посвященных восприятию русскими казахов и казахской степи, было то, что авторы почти всегда ограничивались узким кругом источников, что было связано с их стремлением исследовать позицию какой-то одной определенной группы носителей представлений об этом регионе и
его жителях1. Например, в монографии Е.С. Сыздыковой «Российские военные и Казахстан» рассматриваются вопросы социально- политической и экономической стороны истории региона в оценке офицеров Генерального штаба. Авторы-офицеры, по словам Е.С. Сыздыковой, стремились подчеркнуть добровольность присоединения казахских степей (Сыздыкова, 2005).
Изучение податного надзора Степного края – актуальная и перспективная исследовательская тема, предполагающая привлечение исторических источников. В изучении данной проблемы необходим объективный подход, анализ, свободный от доли субъективизма и эмоционального влияния.
Поэтому данная статья не только актуальна, но и обладает научной новизной. Присутствует и практическая значимость, поскольку анализ деятельности чиновников является очень важным – данный опыт можно соотнести с деятельностью и формированием современного управленца.
В 60–70 гг. XIX в. стала проявляться нехватка кадров в системе финансового управления особых чиновников для ведения дел по налогообложению. Такие чиновники под именем податных инспекторов появились в России в 1885 г. в связи с реформой предпринимательского обложения. К середине 1890-х гг. податные инспекторы действовали уже и в Степном крае (в 1895 г. в Омске состоялся их первый съезд). Надзор за правильностью выборки торговыми, промышленными предприятиями и кочевыми торговцами промысловых свидетельств стал одной из основных обязанностей. Еще одно направление работы инспектора – взимание кибиточной подати с казахов-кочевников. Правительство определяло сумму платежа для одной кибитки по стране. Чиновники определяли размеры платежей лишь до уровня волости. Дальнейшую раскладку производили волостные и аульные съезды, причем налог распределялся между отдельными плательщиками с учетом их зажиточности. Налоговые платежи двух соседних кибитковладельцев могли существенно различаться. Задача податных инспекторов состояла в том, чтобы проверить правильность подсчета по аулам кибиток и удостоверить соответствие закону волостных и сельских раскладочных приговоров (Шиловский, 2010: 161).
«Одна из особо важных задач ведомств податного инспектора и главная его обязанность – привести в известность точное число кибиток платежных единиц – его участка – и по сие время остается неразработанной и встречает затруднения не только в способе этого исчисления, но и в самом понятии “кибитка”»2. Но, по словам чиновника, «в народе понятия “кибитка” нет»3. А отсюда и сложности с определением «кибитковладелец». В отчете податного ревизора Киреевского говорится, что «здесь сказывается неудовлетворительность самого закона [Степное положение], не дающего точного определения понятия кибитковладелец. И действительно, кибитковладельцем по закону считается каждый кочевник, имеющий отдельное жилище, причем летнее и зимнее жилище одного и того же хозяина принимается за одну кибитку; из законодательных мотивов к упомянутой выше статье усматривается, что предметом обложения кибиточной податью является не сама кибитка, а каждое отдельное хозяйство, кибитка же, или всякое другое заменяющее ее жилое помещение, служит лишь наглядным, годным для контроля признаком хозяйства4.
Внимание чиновников привлекает расслоение в казахском обществе, основанное, как правило, на силе и богатстве: «киргизское население настолько прочно усвоило себе представление о силе и власти богатства, что находит вполне естественным такое положение, когда богачам предоставлено все, а беднякам – ничего, и безропотно подчиняется этому гнету»5.
Также в глаза инспекторам бросается низкий уровень экономического благосостояния казахского общества. И это связано, прежде всего, с их образом жизни – кочеванием и основной хозяйственной деятельностью – скотоводством. В силу климатических особенностей зоны проживания казахи зачастую терпели такие бедствия, как джут. «Отчетный год для скотоводческого хозяйства Каркаралинского уезда было благодаря засушливому лету, запасы сена по той же причине были весьма незначительны, скотина рогатая, а в особенности лошади, гибли сотнями от буранов и бес-кормицы»6. Падеж скота в огромных количествах негативно сказывается на всей жизни казахов, но при этом ими ничего не предпринимается для сохранения своего хозяйства, так как «киргизы сена почти не косят»1. Этот примитивный способ ведения хозяйства явно осуждается чиновниками. Например, при описании экономического развития края, инспектор говорит о сельскохозяйственной ферме, в которой «хозяйство ведется по-киргизски, скотина и лошади плохи, худы, коровы без молока»2. Мы видим укор инспектора в адрес казахов, которые не проявляют стремления менять привычный хозяйственный уклад. Примитивность хозяйства объясняется, прежде всего, привязанностью к кочевому образу жизни: «Средний киргиз, пользующийся известным достатком, обеспечивающим ему возможность прокармливать себя и семью продуктами своего примитивного скотоводческого хозяйства, ни за что не сделается ни землеробом, ни ремесленником…»3.
После всех описаний бедствий и лишений, которые испытывает казахский народ, инспекторы, как правило, позволяют себе критику местной администрации: «…местная администрация долгое время отворачивалась от этих явлений, с непонятным упорством отказывалась придавать им их действительное значение»4. И что самое ужасающее в глазах чиновников, «подати, несмотря ни на что, взыскивались ежегодно полностью, и никто не обращал внимания, возможно ли это, не разоряет ли это кочевников, согласуются ли вообще размеры сборов с платежеспособностью населения, которое между тем медленно, но верно шло к полному разорению, к ни-щете»5. Тут мы видим полное безразличие местных властей, которое так критикуют инспекторы, не понаслышке знающие о ситуации, царящей в казахском обществе. Также чиновники отмечают следующее: «и сами киргизы, и местная администрация в лице уездных начальников смотрят в высшей степени недружелюбно на какое-то ни было более действительное, чем ныне вмешательство чинов податного надзора во внутренние распорядки киргизской жизни»6.
Мало того, что власти не предпринимали действий по оказанию помощи казахам, так еще и обременяли местное население дополнительными расходами и повинностями, покрываемых «карачигинами» (дополнительными к государственным налогам местными сборами). Таковыми являлись обязательная для каждого аула выписка «никем не читаемой» киргизской газеты, «ока-рауливание» запасного сена, изготовление аульных «счетоводственных книг», приобретение экипажей и сбруи для проезжающих чиновников, выставление юрт и баранов для топографов, занимающихся нарезкой (за счёт киргизских же земель) новых переселенческих участков. Наконец, самая тягостная из повинностей – подводная: поставка лошадей для проезжающих чиновников. «Вообще, поездка в степи напоминает скорее разбойничий набег, чем что-либо другое, и немудрено, что киргизы обыкновенно в ужасе разбегаются и разгоняют свои табуны, лишь бы спастись от того, что называется на официальном языке “проездом чиновников”. Мне передавали, что многие из уездных начальников, отправляясь в степь, [например], для переучета кибиток, выезжают целым домом, в нескольких экипажах, с семьей, прислугой, поваром, и т. д. Под эти экипажи требуется, конечно, масса лошадей и людей, и их сгоняют откуда можно стражники, причем подчас собранным в известном пункте людям и лошадям приходится ждать по несколько дней, а, следовательно, и кормиться, и вот для этого производится новая реквизиция, уже в виде баранов»7. Также в отчетах можно встретить и упоминание о развозе почты за счет казахских лошадей и при этом «рассыльные, располагая большой властью в степи, пользуются лошадьми далеко не в скромных размерах, к тому же весной, когда лошади слабы, требуется частая смена их»8. Также существует еще один вид натуральной повинности – это «снабжение проходящих войск юртами и баранами»9.
Таким образом, мы видим сочувствие чинов податной инспекции в отношении к казахам. Для развития казахов, по мнению ревизора Киреевского, «необходимо, чтобы киргизы прониклись культурой, избавились от гнета родового начала, усвоили себе иной, чем ныне, взгляд на русского чиновника: таково направление, которого должна держаться местная администрация»10.
Чиновники податной инспекции, сталкиваясь с казахским обществом, остро ощущали его закрытость и плохую проницаемость, казахи не открывали русскому чиновнику своих «домашних, закулисных секретов». Этому способствовало то самоуправление, которое сохранила казахам Российская Империя, так как волостное и аульное самоуправление у казахов оказывалось гораздо более самостоятельным, чем волостное и сельское самоуправление русских крестьян. Еще одним важным для инспекторов явлением становится бедность казахского населения, которую усугубляет отношение местных чиновников и самой казахской знати. Какие-то попытки инспекторов привлечь внимание администрации к тем трудностям, с которыми сталкиваются казахи, а также помочь нуждающимся, остается «гласом вопиющего в пустыне».
Нищета и разорительная бедность казахов не исчезает и после триумфального шествия советской власти на ранних этапах установления власти Советов: «… увы… за второй год существования земства, ни он [Председатель Земской Управы] и никто другой не сделали и шагу к улучшению быта киргизов, а делать нужно – и многое… Начать с переустройства, хотя бы их зимовок, о которых я уже упоминал. Малы, тесны, грязны и служат распространителями заразы, воздух пропитан зловонием и экскрементами животных, которые помещаются вместе с киргизами. О вентиляции и понятия не имеют. Болезнь распространяется быстро. Тиф уносит массы. Вымирают не только семьи, но и целые аулы. <...> Немудрено, когда едешь по степи, всюду встречаешь свежие могилы, свидетельствующие о безвременной гибели киргизов. Бедный класс, живущий, вернее, влачащий свою несчастную жизнь в заброшенном уезде, достоин сожаления. К улучшению жизни или спасению гибнущего народа мер никем не принимается»1.
В политической сфере мы тоже не видим значительных сдвигов: «Наблюдается полнейший произвол и обирание бедноты и противной партии. На них ложится весь расход, который произведен при выборах; на них же ложится большая половина и всех налогов; у них же отбирается под разными предлогами скот и они же делаются жертвами набегов “джигитов”. Жаловаться некому да и нельзя. Если кто пожалуется на Управителя или его родных, то ему грозит полное разорение. Обращаться в степи не к кому: все находится в руках Управителя. Ум и справедливость измеряется скотом и властью. У кого много скота и кто у власти – Управитель, тот – все. Беднейший класс у киргизов не считается за человека, а рабами. Бедный или работник не имеет права сидеть за общим столом, и с жадностью зверя хватает брошенную, предварительно обглоданную кем-либо из членов семьи или гостем, кость, перенося голод и насмешки молча»2. Видимо, казахское население не совсем «подвластно» русской власти, раз так мало подвержено изменениям, несмотря на то, что поменялся государственный строй.
Казахское скотоводство также на низком уровне, без видимых изменений: «Скотоводческое хозяйство ведется также как 50 и более лет тому назад, с тою разве только разницею, что свободной земли стало меньше. По-прежнему киргизы не проявляют никаких забот ни в смысле обеспечения своего скота кормом, ни в смысле улучшения его породы»3.
Как имперская власть, так и советская на начальных этапах ее установления, не стремились оказать помощь бедствующему населению степных областей. Учитывая уровень развития казахского общества, их традиционный образ жизни, они откровенно нуждались в экономической помощи и в элементарном наставничестве. «Когда река пересыхает и идет донным течением, трудно без помощи посторонних вывести воду на поверхность полей, так как киргизы не имеют соответствующих инструментов и специалистов. Затрачиваемое же ими время и энергия на очистку и углубление арыков для полива пашни, не оправдывают тех надежд и результатов, кои должны были бы получиться: поэтому с каждым годом стали засевать поля все менее и менее. До устройства водохранилищ на реке Токраун необходимо поставить ветряные и паровые двигатели для выкачивания воды на поверхность, доставить земледельческие орудия, – и урожай как хлебом, так и травами и корнеплодами обеспечен для уезда, чем можно было бы предотвратить гибель бедных киргизов, которые умирают ежегодно от голодного тифа и др. заразных болезней тысячами; не говоря уже о скоте, который также гибнет ежегодно десятками тысяч, так как киргизы трав косят мало и несвоевременно, не ранее августа, и говорят что «еще трава не поспела» и косят ее сухую. В уезде до сих пор нет ни одного инструктора, который мог бы ездить и учить киргизов, как нужно обрабатывать землю, вести хозяйство и косить траву»4.
Безусловно, в своих бедах казахи отчасти виноваты сами, их образ жизни, структура общества, основанная на силе, богатстве и полнейшем подчинении знати является тем фактором, который отрицательно сказывается на их уровне жизни, но также не стоит забывать о последствиях включения степей в состав Российской империи. Как отмечали инспекторы, подать, несмотря на все, поступает безнедоимочно, при этом власти совершенно не интересуются, а каким образом и как это так получается, что при всей бедности народ в состоянии платить подать и выполнять различные повинности, которые нередко переводят в денежный эквивалент. Их не интересует, какими методами взимается подать, главное – своевременное поступление налога. Невозможно оспорить тот факт, что казахский народ получил вместе с подданством и массу положительного, но вместе с тем, на него наложили дополнительное бремя, которое тормозит естественный ход развития.
Список литературы Казахское население Степного края в восприятии чиновников податного надзора в конце XIX - начале XX вв
- Сыздыкова Е.С. Российские военные и Казахстан (Вопросы социально-политической и экономической истории Казахстана XVIII - XIX вв. в трудах офицеров Генерального штаба России). М., 2005. 246 c. EDN: QPAVJN
- Шиловский М.В. Сибирские переселения. Вып. № 3. Освоение Верхнего Прииртышья во второй половине XVI - начале XX вв. Новосибирск, 2010. 274 с.