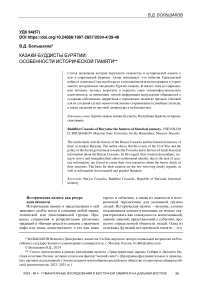Казаки-буддисты Бурятии: особенности исторической памяти
Автор: Большаков В.Д.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Буряты на службе отечеству: биографии и историческая память
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории бурятского казачества и исторической памяти о нем в современной Бурятии. Автор показывает, что события Гражданской войны и политика Советской власти в отношении казачества привели к утрате многих исторических сведений о бурятах-казаках. В связи с этим их современные потомки, пытаясь возродить и укрепить свою этноконфессиональную идентичность, за неимением точной информации вынужденно обращаются к созданию собственных нарративов о героических подвигах предков. Основой для их создания служат немногочисленные сохранившиеся семейные легенды, а также сведения из научной литературы и публицистики.
Буряты-казаки, казаки-буддисты, республика бурятия, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/170208805
IDR: 170208805 | УДК: 94(57) | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-4/39-46
Текст научной статьи Казаки-буддисты Бурятии: особенности исторической памяти
Историческая память как ресурс идентичности
Историческая память и представления о ней занимают особое место в сознании любой нации, этнической или этносоциальной группы. Процессы сохранения и репрезентации различных традиций и обычаев зачастую связаны с наличием мифа или эпоса, повествующего о тех или иных героях и событиях, а также их важности в исторической перспективе для указанной группы людей. Историческая память – явление, сложно поддающееся концептуализации, ее можно охарактеризовать как совокупность воспоминаний, знаний, мнений, представлений о событиях прошлого определенной общности людей. Одна из основных функций исторической памяти – это сплочение существующей социальной группы на основе коллективной памяти, которая, в свою очередь, по-своему находит отклик у каждого члена группы. Пьер Нора, французский историк и основоположник теории «мест памяти», считал, что «существует столько же памятей, сколько и социальных групп» [14, с. 20]. Таким образом, любая социальная группа может обладать собственной версией исторической памяти. Процессы выстраивания этнической или национальной идентичности часто связаны как раз с наличием и проработанностью исторической памяти.
Важным звеном в выстраивании нарратива для создания и поддержания идентичности являются истории об исторических героях. Эти герои могут быть как мифическими, так и в действительности существовавшими, но и тех, и других объединяет одно: они закрепляются в общественном сознании и памяти, а легенды об их подвигах и жизненном пути фиксируются как в устном народном творчестве, так и в литературной традиции. Процессы выстраивания идентичности на основе нарративов об исторических и мифических героях могут осуществляться естественным и искусственным путем. Первый предполагает передачу мифов и легенд внутри семьи, народное творчество, устные предания и т.д. Второй путь – это взятие на вооружение существующих или существовавших легенд и их использование для выстраивания нарратива. В данной работе речь пойдет об исторической память современных казаков-бурят – этно-конфессиональной группы, которая выстраивает свою идентичность на основе нарратива о героическом прошлом своих предков.
История бурятского казачества
В ходе завоевания и освоения Сибири русские первопроходцы проделали огромный путь, дойдя от предгорий Урала до побережья Тихого океана. На своем пути они встречали местное население и сталкивались с его уникальными культурными особенностями, а также разнообразными социально-экономическими условиями и политической обстановкой на местах. В середине XVII в. первые отряды русских казаков, наслышанных о богатстве края, прибыли в Забайкалье, где столкнулись с разрозненными племенами бурят и эвенков. В 1644 г. произошло знаковое событие – встреча русского казака Константина Москвитина с бурят-монгольским князем Турухаем Табуном, который довольно благосклонно отнесся к иноземцам, сообщив им, что в его землях нет ни серебра, ни золота. Существует мнение, что Турухай попросил казаков передать весть о его готовности присягнуть русскому царю [7, с. 61]. Есть основания полагать, что этот шаг бурятского князя был обусловлен военно-политической ситуацией в ме- стах его кочевания. С одной стороны, Турухаю была необходима поддержка в борьбе со своими внутренними политическими оппонентами, с другой – Забайкалье граничило с империей Цин, которая, в свою очередь, демонстрировала определенные притязания на вышеупомянутые земли. С точки зрения казачьих отрядов такой союз также был выгоден – тесные связи с местными политическими лидерами способствовали облегчению их закрепления на новой территории. Так или иначе, можно предположить, что столкновение русских казаков с отрядом Турухая задало вектор развития русско-бурятских отношений на долгие годы вперед и сыграло большую роль в становлении и укреплении казачества в регионе.
В 1685 г. было принято решение отправить в Забайкалье отряд Федора Головина, одного из ближайших соратников Петра I, с целью наведения порядка и обеспечения безопасности на этой территории. Вскоре к его отряду присоединились отдельные бурятские и тунгусские воины, и уже в 1688 г. селенгинские и хоринские буряты заключили с Головиным договор о вечном подданстве России с обязательством выплачивать ясак [4, с. 191].
С середины 1670-х гг. буряты во главе с Ухин-Зайсаном, влиятельным представителем цонго-лов, стали принимать активное участие в отражении нападений монголов [9, с. 4]. Буряты сразу же показали себя как отличные воины, которые хорошо ориентировались на местности, что сильно упрощало русским ведение боя. После первых контактов, которые не всегда были мирными, буряты теперь стали вместе с русскими участвовать в отражении набегов, служили в качестве проводников, были переводчиками и участвовали в охране дипломатических миссий.
Говоря о воинской славе, стоит вспомнить несколько исторических событий, в ходе которых местное население проявило настоящий героизм и отвагу, чем расположило к себе русскую администрацию. В августе 1689 г. в Нерчинске шли крайне сложные дипломатические переговоры между Россией и Китаем. На них обсуждались вопросы мирного сосуществования двух стран и определения границы в Забайкалье. Маньчжурские войска значительно превосходили русских по численности, несмотря на то что в состав русских частей входили бурятские и эвенкийские ратники [1, с. 50]. Условия Нерчинского договора оказались не слишком выгодными для России [5, с. 5]. Спустя три десятилетия, в 1725 г. в Забайкалье прибыл граф Савва Лукич Владисла-вич-Рагузинский, в задачи которого входило подписание нового договора о границе между Россией и Китаем. В августе 1727 г. был заключен Буринский трактат, положения которого позднее были закреплены Кяхтинским договором, окончательно определившим границу и давшим России право на беспошлинную торговлю с Китаем и на открытие неофициального представительства Русской духовной миссии в Пекине [15, с. 28].
Важно подчеркнуть, что при заключении этого договора ключевую роль играли вооруженные силы каждой из сторон. Делегацию С.Л. Влади-славича-Рагузинского на встрече с китайскими послами у реки Буры сопровождали как русские казаки, так и привлеченные инородцы. От России на этой встрече присутствовал отряд бурятских конников, в который входили родоначальники се-ленгинских и хоринских бурят, а также сын Ухин-тайши по имени Лубсан Сосой [9, с. 7]. За активную поддержку посольства на русско-китайских переговорах семь родов селенгинских бурят и одиннадцать хоринских родов были торжественно награждены особыми знаменами. Кроме этого, за особые заслуги нескольким родам была вверена обязанность вместе с русскими казаками нести охрану новосозданной границы. С.Л. Владисла-вич-Рагузинский высоко оценил воинские навыки и личностные качества бурят, создав почву для дальнейшего формирования бурятского казачества [11, с. 15].
К середине XVIII в. противоречия между Россией и Китаем начали нарастать с новой силой, что вынуждало русскую администрацию принимать особые меры по охране восточного участка своей границы. Несмотря на то, что государство относилось к воинам-инородцам с опаской, оно не имело другого выхода, кроме как привлечь их к охране границы наравне с малочисленными русскими отрядами. Так, 17 октября 1760 г. был издан указ о создании пятисотенного тунгусского полка под командованием эвенкийского князя Ганти-мура. Этот полк стал основой эвенкийского казачества. По причине того, что тунгусы жили близко к границе, было решено определить полк в пограничную охрану. Решение о привлечении эвенков к государственной службе по охране границы вызвало реакцию у других инородцев. Например, комендант Селенгинской пограничной канцелярии Варфоломей Якоби получил письмо от 14 родов селенгинских бурят, изъявивших желание служить на границе по примеру тунгусского полка. Якоби передал это прошение Сибирскому губернатору Ф. Соймонову, который в свою очередь представил его в Сенат. 30 июня (по некоторым данным - 22 июня) 1764 г. по указу Сената было создано четыре бурятских казачьих конных полка, которые разделялись по родовому признаку -Ашебагатский, Цонгольский, Атагановский и Сартульский [5, с. 189]. Это событие можно считать рождением казачьего войска, состоящего из бурят буддийского вероисповедания.
В обязанности этого войска входила регулярная деятельность по защите границ и участие в военных кампаниях. Для самих бурят это было выгодно, так как по большей части они и так проживали вблизи границ и потому просто защищали свои семьи. К тому же инородческое казачество избавлялось от уплаты ясака. Однако статус казака налагал и свои отягощающие жизнь обязанности: буряты несли службу пожизненно и должны были обеспечивать самих себя оружием, транспортом и продовольствием. На это накладывалось еще и недоверие правительства к бурятским казакам. Вплоть до середины XIX в. фиксировались попытки упразднения бурятских родовых казачьих полков. Правительство утверждало, что их нахождение в составе русской армии было лишь временной мерой на период, когда в регионе не хватало военных сил. Некоторые из современных исследователей бурятского казачества полагают, что эти попытки были продиктованы желанием стереть из памяти бурят воспоминания об их героических предках-чингизидах [2, с. 8].
Наконец, 17 марта 1851 г. было опубликовано «Положение о создании Забайкальского казачьего войска», которое фактически означало прекращение существования бурятского казачьего войска. Согласно ему, родовые бурятские полки подлежали расформированию, а их бывшие члены - перераспределению по другим подразделениям. При этом буряты были приравнены к русским казакам в правах и обязанностях, условиях жизни и правилах службы [9, с. 16-17]. После 1851 г. буряты-казаки наравне с остальными участвовали в охране границ и во всех военных операциях русского государства на Дальнем Востоке. Бурятские казаки отличились в Китайском походе 1900–1901 гг., Русско-японской войне 1904-1905 гг. и Первой мировой войне. На полях сражений они показали себя храбрыми и умелыми воинами, многие из них были награждены Георгиевскими крестами разных степеней [8, с. 28].
В Гражданскую войну бурятское казачество раскололось на два противоборствующих лагеря: одни выступали за советскую власть, другие же остались верны императорской власти. 16 апреля 1917 г. в Чите прошел первый казачий съезд, на котором обсуждались судьбы казачества в новых исторических обстоятельствах. Большинством голосов делегатов съезда была принята резолюция о ликвидации казачьего сословия. Летом 1917 г. прошел съезд бурятских казаков Селен-гинского и Троицкосавского уезда, где также было принято решение о ликвидации бурятского казачества. В резолюции отмечалось: «Казачье сословие, как пережиток старины и следствие существования постоянных армий, должно быть уничтожено и уравнено со всеми свободными гражданами России» [7, с. 84]. К 1921 г. Забайкальское казачье войско было официально упразднено.
Буряты-казаки на службе России
Как уже было сказано ранее, бурятские казаки преданно служили России с момента образования родовых полков в 1764 г. Пользуясь своим привилегированным положением среди остальных бурят, казаки не платили ясака, однако им приходилось принимать участие в охране границы и во всех военных кампаниях. Среди потомков бурятских казаков и всех интересующихся историей бурятского казачества ходит легенда о героическом участии казаков-бурят в Отечественной войне 1812 г. Предание гласит: «...Кони наши утоляли жажду водою из реки Сена и гарцевали по улицам Парижа» [8, с. 24]. Эта легенда переходит из уст в уста на протяжении уже нескольких поколений, о ней в свое время вспоминали и участники Русско-японской войны. Известный бурятский исследователь В. Гармаев в своей книге по истории бурятского казачества упоминал о том, что слышал эту легенду несколько раз, в частности - от своих родственников и информантов. В ходе беседы с куда-ринским казаком Бадма-Доржи Цырендоржиевым ему стало известно об истории, которую поведал казаку его отец: «…В войне 1812 года приняла участие сводная сотня из бурят-монгольских полков. Особо отличились казаки из села Цаган-Челу-тай - Бадма-Цырен и Агван Ранжуровы. Они проявили героизм и отвагу и вместе с русскими воинами Селенгинского полка с боями дошли до Парижа». Стоит отметить, что 41-й Селенгинский пехотный полк в самом деле существовал - он был основан Павлом I 29 ноября 1796 г. как «Селен-гинский мушкетерский полк» [12, с. 5]. Однако по сей день не было найдено никаких документальных подтверждений факта участия казаков-бурят в Отечественной войне 1812 г. Тем не менее, В. Гармаев считает, что эту легенду нельзя игнорировать, а отсутствие каких-либо документов, свидетельствующих об участии бурятских казаков в сражениях войны с Наполеоном, может быть связано с тем, что правительство намеренно пыталось скрыть этот факт [8, с. 25].
В начале XX в. Россия пыталась усилить свое влияние на международной арене, в т.ч. и на отдаленных дальневосточных рубежах. Главными противниками России здесь в тот период были Японская империя и Китай. Одним из крупнейших международных конфликтов того времени стало Боксерское восстание 1899–1901 гг. На помощь китайскому правительству в борьбе с восставшими пришел Альянс восьми держав, в состав которого вошли Италия, Франция, Австро-Венгрия, США, Япония, Германия, Великобритания и
Россия [6, с. 58]. Принимало участие в этих событиях и Забайкальское казачье войско. Для бурят-казаков это было первое документально подтвержденное боевое крещение за пределами России. В русской историографии эти события известны как Китайский поход. 11 июня 1900 г. был издан указ о проведении мобилизации с целью подавления восстания на КВЖД. Под ружье были поставлены Амурский полк и Забайкальское казачье войско, включая казаков-бурят в составе Верхнеудинского полка. Объединенные войска бурятских и русских казаков занимались охраной участка строящейся Трансманьчжурской магистрали, принимали участие в сражениях в Хайларе и Цицикаре, а после этого вошли в Пекин и Мукден. Усилиями в т.ч. и воинов-забайкальцев повстанческие отряды, действовавшие на границе с Россией, были ликвидированы.
Одним из важных воспоминаний бурятских казаков о периоде Китайского похода стала история обретения бурятами ценнейшей буддийской реликвии. В момент восстания в Пекине хранилась статуя Сандалового Будды (Зандан Жуу). По преданиям, эта скульптура является единственной прижизненной скульптурой Будды. Организацией ее вывоза занимались сразу несколько человек: соржо-лама Эгитуйского дацана Гомбо-Доржо Эрдынеев, казак-переводчик Гомбо Бадма-жапов и работник дипломатической миссии в Китае Найдан Гомбоев. Считается, что Гомбо Бадма-жапов вместе с Найданом Гомбоевым, обладая необходимыми связями, смогли подготовить правильные документы на вывоз статуи из Пекина, а Гомбо-Доржо Эрдынеев, являясь священнослужителем, вместе с отрядом казаков-бурят доставил статую в целости и сохранности в Эгитуйский дацан, в котором она хранится по настоящее время [10]. Таким образом, бурятские казаки не только проявили себя на поле боя, сражаясь с отрядами ихэтуаней и освобождая осажденные деревни и города, но и позаботились о сохранности важной буддийской реликвии. Буряты-казаки отличались от основной массы русских воинов - как своей внешностью, так и тем, что они знали монгольский, а иногда и китайский язык, чем производили сильное впечатление на китайские войска. Казаки-буряты были представлены к наградам за свои успехи и мужество на поле боя. Так, 26 знаков отличия 4-й степени было выделено только для бурят-казаков 3-го Верхнеудинского казачьего конного полка [8, с. 35].
Не менее значимым событием начала XX в. стала Русско-японская война. Части Забайкальского казачьего войска принимали в ней самое непосредственное участие. С первых дней казаки были брошены в бой с целью сдержать натиск вражеской стороны на горных перевалах
Ляодунского полуострова. Основной заслугой и отличительной особенностью забайкальских казаков стала тактика ведения боя - они перекрыли путь до крепости Порт-Артур, сражались в конном строю, попутно делая боевые вылазки к позициям противника. Самой успешной операцией, в которой приняли участие казаки-буряты, был Набег на Инкоу. Инкоу - город, в котором располагался глубокий тыл японской армии. Результатом дерзкого нападения бурятских казаков стал полный разгром противника на этом участке. «Буряты-ламаисты на маленьких лошадях забайкальской породы, вооруженные винтовками без штыков и шашками, мужественно дрались верхом» [9, с. 24]. Казаки воевали стойко и мужественно и в других сражениях, и не случайно 30 июня 1906 г. 1 -й Верхнеудинский полк был удостоен Георгиевского знамени «За отличие в войне с Японией в 1904 и 1905 годах» [8, c. 39]. За свои успехи многие казаки были награждены государственными наградами, в частности - Георгиевскими крестами разных степеней. Самыми известными героями того времени являются Аюр Сакияев и Бадма-цырен Очиров - полные кавалеры Георгиевского креста. Важно упомянуть, что казакам -бурятам выдавали особую модификацию этого креста - Георгиевский крест для нехристиан. В центре такого креста вместо фигуры Георгия Победоносца находился герб Российской империи. Это было сделано для того, чтобы не задеть чувства последователей ламаистского вероисповедания [9, с. 27].
Суммируя все вышесказанное, можно утверждать, что бурятские казаки буддистского вероисповедания сыграли важную роль в истории нашей страны. Казаки-буряты совершили большое количество ратных подвигов, за что были удостоены высших государственных наград, а их потомки имеют полное право гордиться своими отважными предками. Но несмотря на это историческую память современного бурятского казачества нельзя назвать непротиворечивой, и дискуссии о прошлом постоянно ведутся в казачьих кругах. Трагические события Гражданской войны и последующее преследование казачества со стороны Советской власти привели к тому, что буряты утратили большую часть историй о деяниях своих предков. Многие рассказы были забыты, а артефакты уничтожены - как случайным образом, так и преднамеренно. Возвращение утраченных традиций началось лишь в начале 1990-х гг. после распада Советского Союза. В это время неравнодушные казаки по всей России начали создавать казачьи общества и пытаться возродить утраченную культуру. Не стала в этом смысле исключением и Бурятия.
Историческая память современных казаков-бурят
Современное бурятское казачество является составной частью Забайкальского казачьего войска. На данный момент на территории Республики Бурятия функционирует целый ряд казачьих организаций, нацеленных на развитие и популяризацию казачьей культуры. Сейчас в Улан-Удэ действует несколько головных казачьих обществ, заведующих делами казачества во всей республике, включая «Объединение казаков по Республике Бурятия» и окружное казачье общество Республики Бурятия «Верхнеудинское». В большинстве районов республики существуют местные отделения этих организаций. Члены казачьих объединений принимают активное участие во многих просветительских мероприятиях, организованных казачьими обществами. Так, например, казаки выступают на различных фестивалях и казачьих играх, демонстрируя искусство владения шашкой и навыки верховой езды. Помимо этого, приграничные отделения оказывают помощь в охране общественного порядка на подконтрольной им территории. Добровольные дружины казаков охраняют лес от нарушителей порядка и тушат пожары. Усилиями атаманов предпринимаются попытки организации инфраструктуры для воспитания подрастающего поколения - в школах создаются казачьи классы и армейские кружки, проводятся различные массовые мероприятия патриотической направленности.
В ходе полевого исследования, проведенного в феврале - марте 2024 г., нам удалось встретиться и пообщаться с некоторыми представителями современного бурятского казачества в звании от подъесаула до казачьего генерала. Основная цель исследования заключалась в выяснении оснований исторической памяти нынешних казаков-бурят. В результате стало понятно, что в настоящий момент они переживают кризис идентичности, который, по-видимому, начался еще в середине 1990-х гг. Во многом это связано с тем, что среди современных российских казаков распространено мнение, что настоящий казак должен быть православным, что, в свою очередь, идет вразрез с мировоззрением казаков-бурят, подавляющее большинство которых исповедует буддизм [13, c. 109]. В попытке отстоять свою уникальность они обратились к прошлому, однако, как уже было сказано ранее, события Гражданской войны и политика советской власти по отношению к казачеству сделали процесс поиска информации затруднительным, в силу чего их прошлое предстает лишь в виде отрывочных сведений.
Многие информанты утверждают, что не имеют достоверных сведений о своих предках. Один из информантов так объяснял недостаток информации: «Люди в целях собственной безопасности сжигали фотографии и памятные вещи. Все, что было известно про предков, во многих семьях было уничтожено. Моя мама даже и не помнила деда». Другой респондент, узнавший о своем казачьем происхождении только в возрасте 50 лет, рассказал схожую историю: «Кстати, фотографии у нас были. Много было. Но дело-то в чем... Ну, я помню, что маленьким пацаном был, видел фотографии предков, видел я их. А потом мать взяла и сожгла. Чтобы не подумал лишнего. Ну и все, с того времени я ничего и не знаю». Тем не менее, несмотря на то, что респондент ранее ничего не знал о своем происхождении, он все равно полагал, что может быть казаком: «...Все равно предполагал, что могу быть из казаков. Раз уж мы тут на границе живем...». После того, как информант узнал, что он потомственный казак, он принял решение вступить в местное казачье общество в г. Кяхта: «Ну, я в память о предках вступил. Раз казак мой прадед был, то надо вступить» (Полевые материалы автора, далее - ПМА. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, г. Кяхта, с. Шарагол. 2024 г.).
Таким образом, трагические события кровопролитных сражений прошлого оставили неизгладимый отпечаток в исторической памяти современных бурятских казаков. В годы Гражданской войны и во времена СССР многие артефакты намеренно уничтожались во избежание проблем с государством, а воспоминания не передавались в семьях из уст в уста - это было небезопасно. Казачья устная история лишилась большого пласта информации, что негативно повлияло на идентичность современных бурятских казаков, некоторые из которых до недавнего времени даже не знали о том, что их предки несли охрану российских границ.
Некоторым из респондентов, впрочем, посчастливилось застать своих предков живыми: «Ну, у меня дед не любил рассказывать про это. Он был участником русско-японской войны. Что он там делал - я точно не знаю. Дед общался об этом со своими друзьями за столом в своем кругу, но я-то не знаю, о чем они говорили. У нас разрыв получился между поколениями. Потом, после революции нам всем, казакам, пришлось несладко. Все прятали свое происхождение, свое казачество… Потому что жутко преследовали». Этот информант также пришел к выводу о том, что проблема с недостатком в наши дни исторических сведений связана с гонениями на потомков казаков в Советское время, что отмечали и другие респонденты. При этом он поделился и такими воспоминаниями из своего детства: «Помню, что в детстве игрался с Георгиевским крестом. Находил штык и револьвер, вот и все». В этом случае память о предках-казаках сформировалась у респон- дента в основном благодаря артефактам, чудом сохранившимся в тяжелые времена. В этой ситуации потомкам бурятских казаков не остается ничего иного, кроме как черпать информацию о своих предках в краеведческой литературе и журналах. Один из респондентов рассказал про своего деда: «Я помню его, хромой был. Бабушка-то говорила, что он с русско-японской войны раненый вернулся, да… Ну я вот помню, маленький был, видел, он хромой ходил». На вопрос о том, был ли его дед награжден за участие в войне, респондент ответил следующим образом: «Ну, я помню, в книге видел, там было написано, что у него был крест какой-то... Георгиевский. Лично я не видел, не знаю, врать не буду. Есть книга “Казаки Цаган-Челутая”, там написано, что он кавалер Георгиевского креста» (ПМА. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, г. Кяхта, с. Шарагол. 2024 г.).
В ходе полевого исследования было выяснено, что историческая память бурят-казаков сохраняется не только в форме устных или письменных рассказов о былых событиях. Важная роль здесь принадлежит увековечиванию памяти героических предков - благодарные потомки ставят мемориальные таблички, возрождают утерянные в прошлом исторические сведения и факты. Одним из важных факторов, формирующих историческую память современных бурят-казаков, стал буддизм. Отличное от других вероисповедание выделяет бурятских казаков на фоне остальных и является для них важной опорой при конструировании своей идентичности. Во многом по этой причине в настоящее время бурятские казаки занимаются восстановлением разобранного в 1936 г. в ходе репрессий Бултумур-ского дацана. Ходят слухи, что силами некоторых прихожан тех лет удалось сохранить отдельные буддийские реликвии и иные предметы. Так, один из респондентов рассказывал: «В начале 2000-х гг. мы узнали, что в этом месте был некогда казачий дацан и поехали туда исследовать местность. В ходе раскопок мы нашли несколько табличек и заржавевшие штыки» (ПМА. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, г. Кяхта, с. Шарагол. 2024 г.). Узнав про существование дацана, местные энтузиасты и заинтересованные люди принялись восстанавливать его по немногочисленным сохранившимся атрибутам.
Казачий дацан в этом смысле является важнейшим элементом поддержания уникальной идентичности. На территории храмового комплекса установлен памятный камень, на котором написано: «Указ сената России от 30 июня 1764 г. о сформировании четырех бурятских казачьих полков: цонгольского, сартульского, атаганского, ашабагатского, в составе которого две трети были табангуты». Очевидно, что таким образом бурятские казаки строят свою идентичность на связи с четырьмя родовыми полками, а не на общности со всем Забайкальским казачьим войском. Здесь же проводится ежегодный детский фестиваль «Табангут – народ воин», целью которого является привлечение молодежи к казачьей культуре предков. Детский казачий фестиваль, несмотря на свою педагогическую направленность, уже стал местом встречи для казаков-бурят со всей республики. Такое мероприятие помогает укреплять идентичность группы и транслировать историческую память, поскольку к каждому фестивалю приурочен выпуск очередного номера одноименного журнала, на страницах которого неравнодушные казаки делятся сохранившимися семейными историями, а также историческими сведениями, собранными из книг и архивов [3, c. 3].
Буряты-казаки стараются помнить о своем прошлом и воспроизводят историческую память через создание памятников, возрождение храмовых буддийских казачьих сооружений, проведение подобных вышеупомянутому мероприятий. При этом они, как и остальные представители российского казачества, скорее занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, нежели исполняют обязанности по охране государственных границ и поддержанию правопорядка. К сожалению, на данный момент не существует законов, позволяющих казакам официально заниматься такой деятельностью. Тем не менее, в среде казаков существует Добровольная народная дружина, участники которой ходят вместе с пограничниками в лес «партизанить», отдавая тем самым дань памяти своим предкам и укрепляя подобным образом свою идентичность.
История и нарратив
Стремясь преодолеть кризис идентичности, люди пытаются найти самих себя через обращение к событиям прошлого, к своей исторической памяти. В этом отношении буряты-казаки, являясь этноконфессиональной общностью со сложной историей, не являются исключением. Работая с семейными воспоминаниями, они пытаются возродить свою идентичность и укрепить ее. Семейная память зачастую передается от предков к своим потомкам в качестве рассказов, историй, преданий, фотографий и реликвий [16, с. 63]. Но что делать, если материальные артефакты уничтожены, а устные предания, за редким исключением, держатся в строгом секрете? В таком случае мы наблюдаем попытки воссоздания утраченных сведений путем создания нарративов, основанных на полумифических сказаниях разного рода, которые зачастую бывает сложно подтвердить или опровергнуть. В создание таких нарративов могут внести свой вклад научная литература и публицистика, СМИ и отдельные воспоминания, сведения из которых могут интерпретироваться по-своему.
Не вызывает сомнения, что историческая память современных бурятских казаков строится на ощущении гордости за дела своих предков, участвовавших в военных операциях Российского государства и защищавших его границы. В событиях Китайского похода, Русско-японской и Первой мировой войн казаки-буряты показали себя самоотверженными и умелыми воинами, которые совершили множество подвигов во славу Отечества и заслуженно получили свои награды. Сегодня, однако, буряты-казаки могут узнать об этом в основном из литературных источников и немногочисленных легенд, сохранившихся в отдельных семьях. Так как большая часть сведений была утрачена, потомки вынуждены создавать собственную версию исторических событий – нарратив, верить ему и строить свою идентичность на его основе. Можно сказать, что именно такого рода нарратив о героическом прошлом бурятского казачества является основой их современной идентичности.
Список литературы Казаки-буддисты Бурятии: особенности исторической памяти
- Багрин Е.А. Военные аспекты заключения Нерчинского договора в 1689 г. // Известия Восточного института. 2021. № 3. С. 49–60.
- Базаржапов В.Б. Происхождение инородческого казачества // Казачество в истории России и пограничья: материалы межрегиональной научно-практической конференции (г. Улан-Удэ,
- 4 декабря 2009 г.). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. С. 7–10.
- Бултумурский дацан. Табангут – народ-воин. I Детский фестиваль казаков-буддистов. Улан-Удэ: Байкал-Гео, 2017.
- Васильев А.П. Забайкальские казаки: исторический очерк: в 3-х т. Т. 1. Чита, 1916.
- Васильев А.П. Забайкальские казаки: исторический очерк: в 3-х т. Т. 2. Чита, 1916.
- Военная энциклопедия: в 8-ми т. Т. 3. М.: Воениздат, 1995.
- Высотина Е.А. Казачество в истории России, Забайкалья и Бурятии: учебное пособие. Улан-Удэ: ЭКОС, 2011.
- Гармаев В. История казачества Бурятии: факты, документы, биографии, стихи. Улан-Удэ: Весть, 2014.
- Дабаин Б., Батуев Ц. Буряты-казаки на службе Отечеству. Улан-Удэ: НоваПринт, 2019.
- Жизнь на стыке веков. «Остросюжетная» судьба селенгинского казака Гомбо Бадмажапова // Журнал Asia Russia Daily. URL: https://asiarussia.ru/persons/16429/
- Зуев А.С. Русское казачество Забайкалья во второй четверти ХVIII – первой половине ХIХ вв. Новосибирск: НГУ, 1994.
- Материалы для истории 41-го Пехотного Селенгинского полка с 29 ноября 1796 по 29 ноября 1896 г. Луцк: Типолитография С.И. Бонка, 1896.
- Маргоева А.Р. Казаки-буддисты: трансформация традиционной культуры в современных условиях // Традиционная культура. 2022. Т. 23. № 4. С. 101–110.
- Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-память. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999.
- Попова И.Ф. Торговля России и Китая через Кяхту и Маймайчен // Mongolica. 2013. Т. 11. С. 28–36.
- Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Историческая память: формы сохранения, конструирования и презентации // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2019. № 4. С. 62–71.