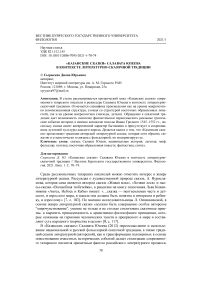«Казанские сказки» Салавата Юзеева в контексте литературно-сказочной традиции
Автор: Сырысева Диана Юрьевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается прозаический цикл «Казанские сказки» современного татарского писателя и режиссера Салавата Юзеева в контексте литературно-сказочной традиции. Отмечается специфика произведения как на уровне макропоэтики (композиционная структура, схожая со структурой восточных обрамленных повестей), так и на уровне микропоэтики (эпизоды, детали). Обращение к сказочной традиции дает возможность писателю фантастически переосмыслить реальные трагические события истории, а именно казанские походы Ивана Грозного 1545–1552 гг., поскольку сказка имеет вневременной характер бытования и присутствует в сокровищнице духовной культуры каждого народа. Делается вывод о том, что «Казанские сказки» продолжают традиции авторской литературной сказки, которая хотя образно, сюжетно и стилистически и связана с фольклорной, но модернизирует ее.
Сказка, Салават Юзеев, национальная история, легенда, миф, фольклор, поэтика, восточная обрамленная повесть, фантастика, синтез
Короткий адрес: https://sciup.org/148316947
IDR: 148316947 | УДК: 821.512.145 | DOI: 10.18101/2686-7095-2021-1-70-74
Текст научной статьи «Казанские сказки» Салавата Юзеева в контексте литературно-сказочной традиции
Сырысева Д. Ю. «Казанские сказки» Салавата Юзеева в контексте литературносказочной традиции // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 1. С. 70–74.
Среди русскоязычных татарских писателей можно отметить интерес к жанру литературной сказки. Рассуждая о художественной природе сказок, А. Нурисла-мова, которая сама является автором сказок «Живая вода», «Хозяин леса» и пьесы-сказки «Волшебная тюбетейка», в рецензии на книгу сказочника Льва Кожевникова «Авось, Небось и Кабы» пишет: «…сказка — неотъемлемая часть и детского, и взрослого мира, в идеале она должна быть понятна и интересна и ребенку, и взрослому» [7, с. 183]. По мнению исследовательницы Л. Овчинниковой, в основе жанра литературной сказки «должно быть совершенно особое авторское “мирочувствование”, умение не только и не столько стилизовать сказочные приемы, а выразить принадлежность к нравственно-философским принципам, которые основаны на гармонии человеческих чувств и прекрасного в мире и составляют суть народного творчества в целом» [8, с. 117].
В «Казанских сказках» Салавата Юзеева (2012) переосмысление и использование национальной и русской фольклорной сказочной традиции, а также традиций сказки литературной (авторской), как и трансформация положенных в основу повествования известных исторических событий делает стилизации современного татарского писателя приметным фактом российского литературного процесса.
Во вступлении к циклу автор подчеркивает вневременной характер бытования сказок в культуре разных народов, поскольку «сказки — они как вода, текут и никуда не исчезают… а если какая и исчезнет, глядишь — появилась там, где ее никто не ждал, как ручей из-под земли или как дождь с неба». Сказки передаются устно, живут в процессе рассказывания: «Эти сказки рассказывала мне моя бабушка, а ей — ее бабушка, которой тоже, наверное, кто-то их рассказывал… а я расскажу их вам, а вы еще кому-то» [11, с. 105]
Содержательная специфика сказочного цикла Юзеева — переосмысление и фантастическое преломление реальных трагических событий истории (казанские походы Ивана Грозного 1545–1552 гг.). Политические мотивы происходящего — стремление русского царя расширить государственные границы и укрепить власть — подменяются альтернативной сказочной мотивацией, связанной с действиями хозяина Волги — Сома, откусившего весла царской лодки. Все этапы казанского похода, которые отражает композиция цикла, сопровождаются в сказочных координатах волшебными эпизодами и неожиданными, преимущественно комическими бытовыми и психологическими, деталями, наслоением обстоятельств, в результате которых Казань так и остается не покоренной.
Так, перебраться через Волгу московскому царю помогает старуха-колдунья, которая с помощью волшебного камня превращает воду реки в лед, а первая атака на Казань не удается, потому что конь, на котором скачет московский царь, проносится мимо Казани, в сторону своей родной деревни Актай, в которой жила бабушка, очень вкусно готовившая татарские кушанья и угощавшая ими коня, когда он был маленьким жеребенком. Именно в момент начала атаки на Казань эта бабушка «начала печь, из деревни потянуло дымком и запахом кыстыбыя, и царский конь побежал на запах, побежал с таким норовом, что царь, сколько ни силился, так и не смог с ним совладать» [11, с. 107].
Легкий и высокий духом человек-лазутчик, которого отправляют на катапульте, на итальянской чудо-машине, через защитные стены Казани, превращается чудесным образом в птицу и улетает вместе со стаей диких гусей. Подобное превращение человека в птицу присутствует также в другом произведении Салавата Юзеева — пьесе «Улетные танцы». Попытка немца послать на деревянные стены Казани жуков-точильщиков, чтобы они превратили дерево в труху, оканчивается неудачей, поскольку один казанский дед, сведущий в тайном знании, призывает на помощь казанцам птиц, уничтоживших всех жуков. Чудесное характеризует не только военные действия и татарский мир, но и Москву, в которой есть сапоги-скороходы и скатерть-самобранка. Можно согласится со словами исследовательницы, что «хронотоп сказки имеет беспредельные возможности проявления чудес и волшебства в обоих мирах сказочного пространства» [4, с. 95].
Здесь можно видеть, как «в сказке господствует иной тип рациональности: очевидное — невероятно, а фантастическое приобретает черты особой сказочноусловной реальности (повседневности)» [1, с. 60]. Юзеев создает свою особую сказочную реальность, в которой события реального исторического времени начинают переосмысляться.
В своем повествовании С. Юзеев касается реальных деталей военного похода, осады города и сопутствующих этому обстоятельств (подкопы, приглашение иностранных специалистов, использование сложной военной инженерии и т. д.), что соответствует исторической правде. Как отмечает Р. Г. Фахрутдинов, при завоевании Казанского ханства потребовалась помощь «минеров-подрывников крепостных стен и башен, а также перебежчиков из Казани, хорошо знавших тонкости обороны своего города» [10, с. 134]. Однако писатель обыгрывает конкретноисторические реалии в соответствии с законами сказочного жанра, а также подключает отсылки к целому корпусу литературных текстов, создающих игровое поле цикла. Так, во время осады Казани подкупленный «московитами» предатель перекидывает московским дружинникам через городские стены ключ от ворот города, но ключ уносит ворона. Московский царь, пытаясь выманить у вороны ключ, требует от своих советников найти приманку для нее — особенный сыр из Швейцарии. Ироничная отсылка к басне И. А. Крылова «Ворона и Лисица» и одновременно к современным гастрономическим реалиям предопределяет радикальное изменение хрестоматийного басенного финала: в «Казанских сказках» ключ не достается никому, а тонет в реке Казанке.
Обыгрывается в тексте и реальный факт использования при осаде города итальянской военной инженерии, и другие реалии, подвергшиеся игровой трансформации в условно-сказочном пространстве цикла. Результат этих трансформаций — сказочный конец: «Царь московский жил долго и счастливо — как говорится, жил не тужил, в баню ходил, на коньках катался, с горем не знался. Царица же казанская тоже не тужила, хоровод водила, в Казанке купалась, хвори не давалась» [11, с. 11]. Подобное соединение исторически точных деталей и фантастического элемента дает писателю возможность «выйти за пределы современности — к внеисторическим общечеловеческим и этническим универсалиям» [3, с. 57].
По словам Е. Г. Тихомировой, «сказочные время и пространство, сливаясь, создают отражение уникальных опорных точек — доминант развития культуры, на которых строится вся социокультурная “территория” с присущими ей “там” и “тогда” феноменами, явлениями, методами по творению бытия» [9, с. 5]. Естественно, что в сказках татарского писателя именно история взятия Казани становится таким культурным феноменом, который осмысляется с привлечением волшебных сил природы и сказочных помощников. Представляется ожидаемой и предложенная современным «сказочником» далекая от действительности счастливая для казанцев развязка событий, что делает возможным рассмотрение ори- гинального цикла С. Юзеева как литературы, созданной в русле альтернативной истории, как текста, в котором посредством сказочной фантастики вытесняется реальная национальная трагедия. По мнению исследователей татарской фольклорной сказки А. А. и П. А. Гагаевых, сказка «моделирует страх татарского этноса перед русским несправедливым государством» и потому нередко обращается к названным событиям истории [2, с. 6]. Как видим, Юзеев предлагает авторский вариант изживания этого чувства.
Композиционная структура цикла включает вступление, в котором автор пишет о любви взрослых и детей к сказкам и их роли в культуре, собственно семь сказок, содержательно и сюжетно связанных друг с другом, и небольшое заключение, закольцовывающее повествование. Каждая последующая сказка связана с предыдущей сюжетно, комментирует и продолжает ее, и это позволяет говорить о связи текста Юзеева с традициями восточных сказочных циклов, тем более что в других произведениях писателя (например, повести «Сквозняк тишины», романе «Не перебивай мертвых») эти восточные повествовательные стратегии проявляются весьма отчетливо. Жанр обрамленной повести также требует «наличия в нем ( жанре . — Д. С.) рассказчика и слушателя», что и соблюдает в «Казанских сказках» Юзеев, рассказывая сказки читателям [6, с. 291].
С другой стороны, фольклорные (в том числе и сказочные) стилизации присутствуют во многих мировых литературах, в том числе и русской, на которую также ориентируется русскоязычный по преимуществу прозаик С. Юзеев, о чем свидетельствует уверенно поддерживаемая в цикле сказовая манера, использование традиционных для русской сказки языковых конструкций и элементов ритмизации, узнаваемых формул зачинов и концовок. По верному замечанию исследователя, в основе литературной сказки можно видеть присутствие «неразложимых элементов жанрового архетипа народной волшебной сказки, ее “памяти жанра”» [5, с. 154]. Фольклорно-историческая основа текстов, как уже говорилось, дополняется ироническими авторскими вкраплениями с отсылками к чужим текстам, шутливой этимологией некоторых слов и выражений (например, выражение «идите в баню» становится сочувственной репликой казанцев, обращенной к замерзшим после неудачной попытки выловить из реки Казанки ключ, оброненный вороной, советникам Московского царя), комическими анахронизмами.
«Казанские сказки» продолжают традиции авторской литературной сказки, которая образно, сюжетно и стилистически связана с фольклорной, но модернизирует ее. Как нам кажется, по отношению к циклу С. Юзеева убедительно звучат слова исследователей о том, что «сказка — это возвращение человека к своему этносу и себе подлинному, творческому человеку» [2, с. 9].
Список литературы «Казанские сказки» Салавата Юзеева в контексте литературно-сказочной традиции
- Владимирова Н. Г. Интертекстуальность. Интермедиальность. Интердискурсивность. Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 170 с. Текст: непосредственный.
- Гагаев А. А., Гагаев П. А. Философия татарской сказки: учебное пособие. Саранск; Пенза, 2017. 190 с. Текст: непосредственный.
- Загидуллина Д. Ф. Татарская поэзия и проза рубежа ХХ–ХХI веков: эстетические ориентиры и художественные поиски. Казань: Татар. кн. изд-во, 2018. 287 с. Текст: непосредственный.
- Зворыгина О. И. Русская литературная сказка: жанр, язык, стиль. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2009. 264 с. Текст: непосредственный.
- Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки (на материале русской литературы 1920–1980-х годов). Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992. 184 с. Текст: непосредственный.
- Миннегулов Х. Татарская литература и восточная классика: вопросы взаимосвязей и поэтики. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 1993. 381 с. Текст: непосредственный.
- Нурисламова А. Книжная полка. «Что за прелесть эти сказки» // Казанский альманах. Агат. 2016. С.183–185. Текст: непосредственный.
- Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка ХХ века: история, классификация, поэтика. Москва: Флинта, Наука, 2003. 312 с. Текст: непосредственный.
- Тихомирова Е.Г. Динамика сказочной традиции в истории мировой культуры. Ростов-на-Дону, 2017. 193 с. Текст: непосредственный.
- Фахрутдинов Р. Г., Фахрутдинов Р. Р. История татарского народа. Казань: Татар. кн. изд-во, 2015. 407 с. Текст: непосредственный.
- Юзеев С. Казанские сказки // Казань. 2012. № 10. С. 105–111. Текст: непосредственный.