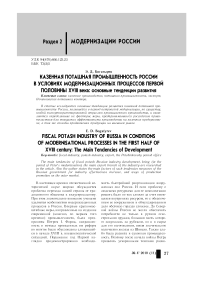Казенная поташная промышленность России в условиях модернизационных процессов первой половины XVIII века: основные тенденции развития
Автор: Богатырев Эдуард Дмитриевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модернизация России
Статья в выпуске: 4 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются основные тенденции развития казенной поташной промышленности России, являвшейся в период петровской модернизации, по существу, особой экспортоориентированной отраслью промышленного производства, и выявляются определявшие их факторы; меры, предпринимавшиеся российским правительством для повышения эффективности производства на казенных предприятиях, а так же способы продвижения продукции на внешнем рынке.
Казенное производство, поташная промышленность, экспорт, починковская поташная контора
Короткий адрес: https://sciup.org/14723554
IDR: 14723554 | УДК: 94(470):666.123.23
Текст научной статьи Казенная поташная промышленность России в условиях модернизационных процессов первой половины XVIII века: основные тенденции развития
The main tendencies of fiscal potash Russian industry development, being (in the period of Petef s modernisation) the main export branch of the industry are researched in the article. Also the author states the main factors of such tendencies measures of the Russian government for industry effectiveness increase, and ways of production promotion on the outer market.
В настоящее время в отечественной исторической науке широко обсуждается проблема перехода нашей страны от традиционного общества к индустриальному. При этом значительное внимание учеными уделяется особенностям модернизационных процессов в России. Впервые крупномасштабные меры, направленные на создание современной (конечно, по меркам того времени) промышленности, были предприняты Петром I. Форма, направленность и методы проведенных им реформ во многом были обусловлены сложившейся в начале XVIII в. внешнеполитической ситуацией. Поражение под Нарвой наглядно продемонстрировало необходи мость быстрейшей реорганизации вооруженных сил России. И если проблему с людскими ресурсами для ее комплектации решить было не так сложно за счет имеющихся внутренних ресурсов, то с обеспечением ее вооружением и обмундированием дело обстояло гораздо сложнее. До Северной войны Россия не могла обеспечить потребности не только в ручном огнестрельном оружии, большая часть которого закупалась за рубежом, но и в сырье для его изготовления, ввозя значительное количество железа из Швеции. Также слабо была развита и суконная промышленность. Поэтому после начала войны Петру пришлось ускоренными темпами разви- вать отечественное производство, что можно считать первой модернизацией российской промышленности. При этом необходимо учитывать, что, положив ей начало, он во многом определил вектор ее развития и на долгосрочную перспективу.
Отсутствие в условиях крепостного права рынка наемной рабочей силы вкупе с крайне узким внутренним потребительским рынком, обусловленным господством у подавляющей части населения натурального хозяйства, привело к формированию особой модели организации промышленного производства, которую можно назвать петровской (хотя она надолго пережила создателя). Ее характерными чертами было преимущественное развитие тех отраслей, которые были связаны с обеспечением потребностей армии и флота, их ориентация на казенные подряды, а не на рынок (в результате конкуренция между крупными производителями осуществлялась не за потребителя, а за государственный заказ, что во многом лишало их стимулов к снижению себестоимости и повышения качества продукции), использование подневольного труда на предприятиях. В то же время встает вопрос: а как развивались в условиях этой модели те отрасли промышленности, которые не ориентировались на нужды вооруженных сил?
Поскольку инициатором реорганизации промышленности являлось государство, было бы интересно рассмотреть эту проблему на примере казенного производства. В этой связи значительный интерес в качестве объекта исследования представляет казенная поташная промышленность: во-первых, в силу ряда причин исследователями не было уделено должного внимания ей и на российском уровне она оказалась практически забыта (опыт участия автора в конференциях за пределами Поволжья показывает, что большинство историков, даже занимающихся экономической историей, имеют крайне слабое представление о ней, в то время как поташные предприятия довольно долгое время приносили значительную прибыль государству и являлись одним из значимых источников пополнения российской казны, а производство поташа было предметом постоянного внимания правительства), и, изучая ее, мы расширяем наше поле знаний о промышленности России XVIII в. в целом; во-вторых, ее важной особенностью являлась то, что произведенная продукция шла исключительно на экспорт, и, таким образом, она являлась одним из значимых источников поступления валюты в казну Российского государства. В условиях дефицита финансовых средств это делало ее объектом внимания правительственных органов.
Итак, попытаемся определить основные тенденции развития казенной поташной промышленности России в контексте петровской модернизации. При этом мы не связываем хронологические рамки исследования периодом правления Петра I, доводя их до середины XVIII в., поскольку, несмотря на определенные изменения промышленной политики, заложенные направления развивались и при его преемниках.
Первыми организаторами производства поташа были бояре, имевшие в распоряжении как леса, из древесины которых изготовлялось сырье — зола и клепочные дрова, так и большое число крепостных крестьян, которые являлись основной рабочей силой. До конца 60-х гг. XVII в. российское правительство, не желая тратить средства на создание собственного казенного поташного производства, тем не менее стремилось извлечь максимум прибыли из продажи поташа за рубеж. Для этого неоднократно вводилась государственная монополия на торговлю поташом. Действовала она, например, в 1663 и 1667 гг. [1, с. 13]. К сожалению, данных о том, какую прибыль это приносило государству, в нашем распоряжении нет. В 1680 г. русское правительство предприняло новую попытку максимилизировать прибыль от продажи произведенного частными лицами поташа за границу и снова ввела монополию на торговлю им.
К этому времени наряду с частными уже действовали будные станы, принадлежавшие государству. Как правило, в период 70—80-х гг. XVII в. казенный поташ производился в основном на бывших частновладельческих гартах, отписанных в казну и переданных в ведение приказа Большой казны. Поскольку после их перевода в государственную собственность исчезла возможность привлекать для обеспечения производства золой и клепкой частновладельческих крепостных крестьян (как это делал боярин Б. И. Морозов на своих майданах), поэтому «„на оных будных станах поставкою к поташному делу золою и клепочными дровами были определенные будники да наемные разных уездов работные охочие люди» [11, л. 10].
Количество поташа, производимого в России в период с 1675 по 1690 г., было огромным, причем большая его часть производилась на частных предприятиях. В этих условиях российское правительство оказалось, видимо, в затруднении: с одной стороны, государство, конечно же, получало какую-то прибыль от производства поташа частными лицами из-за разницы между ценой, по которой он поставлялся в казну, и той, по которой он продавался за рубеж; с другой стороны, эта прибыль была не столь высока, как от продажи казенного поташа (в перерасчете на единицу продукции). К тому же огромное количество производимого поташа снижало спрос на него и затрудняло реализацию. В этих условиях, очевидно, более прибыльным представилось монополизировать не только продажу, но и производство поташа, поэтому «„с 1690 году от Рождества Христова считая поташ по указу партикулярным делам запрещен» [11, л. 10]. Это решение сопровождалось резким увеличением числа казенных гартов. Причем если ранее увеличение происходило в основном за счет перехода в казенную собственность бывших частных гартов, то сейчас был сделан упор на сооружение новых.
После введения монополии на изготовление поташа объем его производства резко сократился. Если в 80-е гг. XVII в. в Архангельск ежегодно привозилось для продажи в среднем более 6 000 бочек поташа (в 1690 г., например, 6 667 бочек), то спустя всего два года — в 1692 г. — было продано «ис Большой казны» только 1100 бочек, из них «400 бочек поташу по 13 ефимков полновесных берковец, 250 бочек по 15 ефимков, 20 бочек по 16 ефимков, 30 бочек по 15 1/2 ефимков» [12, л. 55 об.].
Первоначально сокращение поставок российского поташа на зарубежные рынки не привело к повышению цен на него— по сравнению с предыдущем временем она даже немного понизилась. Объясняется это скорее всего тем, что в тех странах, которые наиболее интенсивно импортировали поташ из России, в предшествующий период образовались определенные запасы: в России поташ закупали большими партиями купцы-оптовики, которые затем у себя на родине пускали его в розничную продажу, и у них наверняка оставались нераспроданные остатки.
Но, судя по всему, количество предлагаемого на продажу поташа вскоре перестало удовлетворять потребности импортеров, что должно было привести к повышению спроса, и, как следствие, к повышению цен на него. В свою очередь это должно было побудить российское правительство к увеличению поставок поташа и стимулировать расширение его производства. Это предположение полностью подтверждается дальнейшим ходом событий.
Так, в 1697 г. предпринимаются меры по значительному увеличению объемов производства. По решению российского правительства были заведены на «пустовых мордовских землях» новые Челмоде-евский и Корсаковский гарты [4, л. 58 об.; 6, л. 18 об.]. Кроме того, скорее всего, в том же 1697 г. воеводе Козьме Огареву было поручено провести инспекцию всех имеющихся в данном регионе гартов на возможность осуществления на них поташного производства. По ее результатам оказалось, что в Арзамасском, Алатыр-ском, Кадомском, Шацком, Нижеломов-ском и Барминском уездах вместе с новыми имелось 20 пригодных для этого майданов. В 1698 г. последовало распоряжение изготавливать поташ на всех этих гартах, предварительно починив и обустроив заброшенные. Для более эффективного управления они были разделены на две группы. Одна из них была отдана под управление воеводы Огарева, другая — дьяка Ивана Салтанова [12, л. 85].
Впервые после заведения казенных гартов, в этом же году была предпринята попытка хоть немного унифицировать их работу. Специальной инструкцией предписывалось иметь на каждом гарте одного поливача, одного бочкаря, одного колесника, одного казака, десять будников, пятнадцать воштарей, шестьдесят наемных рабочих, тридцать лошадей и волов (для этого надлежало завести еще сто пятьдесят лошадей). Всем поливачам было дано указание для более экономного расходования золы поливать горящую клепку («огни») не только першаками, но и другачами. Для удобства учета произведенного поташа предписывалось «в бочку набивать поташа накрепко по 3 берковца, дерева в бочке должно быть по 3 пуда». Для выдачи хлебного жалования на каждом гарте должны были выбрать двух целовальников, причем ежегодно их надлежало менять [12, л. 86].
В процессе расширения сети поташных станов выявилось, видимо, что годные на производство поташа леса достаточно интенсивно вырубаются различными людьми на свои нужды, из-за чего ставится под вопрос функционирование части гартов. Поэтому в 1700 г. рубка поташных лесов на непроизводственные цели была запрещена и для их инспекции сюда были посланы из приказа Большой казны дьяк с помощником. В 1707 г. для повышения эффективности работы поташной промышленности в России была проведена реорганизация системы ее управления. Поскольку производство поташа было связано с массовой вырубкой лесов, чтобы не нанести в дальнейшем урон корабельным лесам, все будные станы, на которых оно осуществлялось, были переданы из ведения приказа Большой казны под управление приказа Адмиралтейских дел [5, л. 4].
Для лучшего управления деятельностью гартов и предотвращения порубки годных на поташное дело лесов на другие цели была создана специальная структура — контора поташного правления. Ее разместили в с. Починки — административном центре одноименной дворцовой во лости. Решение о размещении конторы именно в этом месте объяснялось тем, что эта волость располагалась на стыке ряда уездов — Саранского, Темниковского, Арзамасского, Алатырского и Краснослободского, в которых находились многие гарты и в непосредственной близости от остальных будных майданов. Таким образом, Починковская волость являлась географическим центром российской казенной поташной промышленности. Кроме того, все лесные ресурсы и население волости, состоявшее из дворцовых крестьян, находились в полном распоряжении правительства и могли по мере необходимости использоваться для производства поташа.
В условиях произошедшего к этому времени из-за вырубки лесов значительного сокращения количества действующих гартов было решено увеличить изготовление поташа за счет интенсификации производства. Так, предписывалось увеличить ежегодное количество ломок на каждом гарте с двенадцати (как это делалось до этого) до четырнадцати и в каждую ломку делать не менее девяти бочек поташа (до этого это число колебалось от семи до десяти). Таким образом планировалось довести объем годового производства до 1 000 бочек [5, л. 60].
Действительно, после создания поташной конторы расход припасов на производство единицы продукции (бочки поташа) по сравнению с началом века существенно сократился. В то же время у нас нет данных, говорящих о том, что это явилось следствием каких-либо целенаправленных мероприятий Починковской поташной конторы, поскольку наблюдается определенная унификация не производственного процесса (так как в ломки продолжали расходовать разное количество материалов), а умения поливачей (в результате увеличения опыта в процессе работ и, вероятно, обмена им), позволявшая добиваться примерно одинакового выхода продукции из одного количества материалов.
После создания в 1707 г. Починковской поташной конторы подход к обеспечению казенной поташной промышленности припасами был кардинально изменен. Первоначально (в конце XVII в.) правительство решало задачу обеспечения ка- зенных поташных предприятий припасами за счет найма работных людей для их заготовки и покупки золы и клепки у окрестного населения, все работы на гартах производились так же наемными работниками [11, л. 107]. Из них сформировались особые категории мастеровых — будники и воштари, главные обязанности которых заключались соответственно в нажигании золы и рубке клепочных дров (будники) и доставке их из леса на гарт (воштари). Все они получали определенное жалованье деньгами и хлебом. (Для снижения зависимости стоимости хлебного жалования от цен на зерно с 1697 г. было велено употреблять «на жалование заводским служителям и мастеровым, тако ж на содержание заводских лошадей и волов» хлеб, выращенный на Дармале-евской десятинной пашне [13, л. 90]. После осмотра майданов присланный из приказа Адмиралтейских дел стольник Григорий Племянников принял решение отставить от их заготовки будников и вошта-рей и перевести их в дворцовые крестьяне, обязав платить наравне с другими подворный налог [5, л. 30 об.]. Он считал, что гораздо выгоднее на собранные таким образом средства покупать золу и клепку у желающих поставить ее крестьян. Исключение было сделано только для Учуевского майдана. Вызвано это было тем, что на нем в то время не было ни пашни, ни сенных покосов, поэтому его жители не могли прокормиться крестьянской работой [11, л. 33 об.].
Около десяти лет установленная Племянниковым система снабжения гартов припасами действовала вполне исправно «для того что поташные леса были в те годы круг будных майданов в близости, и майданские и посторонние всяких чинов люди золу и дрова выдавали за деньги свободно» [5, л. 30 об.]. В первые годы основную часть припасов поставляли жители майданов, которые таким образом погашали часть положенного на них оклада вместо выплаты его деньгами. Поступавших от подворного обложения майданов денег было явно недостаточно для полного обеспечения Починковской поташной конторы финансами, а так как остальные села и деревни Починковской во лости продолжали находиться в ведении Приказа Большой казны, то в случае нехватки средств, скорее всего, приходилось каждый раз запрашивать их из Приказа Адмиралтейских дел. В условиях, когда объем годового производства менялся очень резко, как происходило в первых десятилетиях XVIII в., это было особенно неудобно, так как очень трудно заранее определить, сколько средств потребуется на закупку поташных припасов и возможную починку гартов. Видимо, именно это потребовало пересмотра системы финансирования поташной промышленности, и в 1716 г. в распоряжение Починковской поташной конторы уже поступили все деньги, собираемые с крестьян и майданских жителей Починковской, Вадской и Сер-гацкой волостей [11, л. 51].
Во второй половине второго десятилетия XVIII в. стали возникать сложности с заготовкой поташных припасов в требующихся количествах подобным способом в связи с ростом трудозатрат. В челобитной управителя поташной конторы Василия Аничкова, поданной им в 1720 г., сообщалось, что «ныне у оных майданов леса чрез многие годы вырублены на поташное дело, а которые и есть, и те от гартов верст по пятнадцати и по двадцати, и за такою дальностию поташною золу™ (поставлять. — Э. Б.) сторонних охочих людей никого нет» [5, л. 30 об.]. В качестве выхода Аничков предлагал вернуться к старому способу обеспечения поташной промышленности материалами, когда «на тех гартах были будники и воштари жалованные, и всякое майданское отправление отправляли так же, как ныне на саранском Учуевском майдане» [5, л. 31].
Однако в Починковской поташной конторе, видимо, считали, что управиться силами одних будников и воштарей будет невозможно, так как не позднее 1720 г. цена на бирковую золу была увеличена с 4 до 5 коп. за четверть [4, л. 18]. Несомненно, эта мера была призвана стимулировать именно ее поставку. Спустя два года основной упор был сделан на закупку припасов. Об этом свидетельствует то, что в 1722—1723 гг. произошло новое, гораздо более значительное увеличение цен на припасы: за четверть золы стали платить по 10 коп., за сажень дубовых и липовых дров — по 50 и 30 коп. соответственно (до этого — 15 и 12 коп.). Это привело к повышению себестоимости продукции, и как следствие, снижению получаемой прибыли. Точных данных о времени повышения цен на припасы в нашем распоряжении нет, первые сведения о новых ценах относятся к 1728 г. [11, л. 63]. Но по резкому увеличению себестоимости поташа эта дата устанавливается достаточно уверенно.
В сложившейся ситуации правительство России инициировало принятие новых мер, направленных на интенсификацию производства. В частности, в 1720 г. были разработаны своего рода краткие инструкции для поливачей гартов. В них устанавливался порядок подготовки щелока, выпариванием которого и получался поташ [7, л. 4]. Подобным образом правительство пыталось снизить расход материалов на производство единицы продукции, за счет этого — и ее себестоимость. Новое повышение закупочных цен на поташные припасы и снижение цен на поташ на европейском рынке вызвали принятие дальнейших мер в этом направлении — в 1729 г. были составлены новые инструкции, достаточно полно унифицировавшие и регламентировавшие производственный процесс с определением максимально допустимой себестоимостью продукции [7, л. 3—3 об.]. Кроме того, на каждом гарте надлежало сделать специальную меру для приема клепки, причем дрова должны были приниматься только установленного размера и без коры [7, л. 2]. Поскольку в это время обостряются проблемы с реализацией поташа, изменяется и ведомственная принадлежность поташной конторы, которая в 1723 г. была передана под управление Коммерц-коллегии.
В середине 20-х гг. XVIII в. в связи с заменой в России подворного налога подушным вновь была несколько изменена система финансирования Починковской поташной конторы. 9 августа 1725 г. указом Коммерц-коллегии было приказано собирать «с оставших в Починковской волости крестьян вместо дворцового доходу по сороку копеек з души и употреблять те деньги на поташное дело, а кроме оных денег по прежде присланному указу з двора по сороку алтын, а с избы по тридцати алтын не збирать» [10, л. 1]. Всего к поташной конторе было приписано в этом году для платежа четырехгривенного налога 16 950 душ. Из этого количества часть приписных крестьян, наиболее близко живущих к майданам, была обязана поставить в счет оброка определенное количество золы, с остальных оброк собирался деньгами для закупки недостающего количества припасов. Так как ни в одном году желающих добровольно поставить их не находилось, требуемое количество золы распределялось на всех крестьян.
Поскольку, как уже было сказано ранее, казенный поташ шел исключительно на экспорт, недостаточно было только произвести поташ с наименьшими затратами, необходимо было обеспечить его наиболее выгодную реализацию. При этом проблема сбыта поташа была приоритетной по отношению к производству.
С 1712 г. указом Петра I была установлена норма производства поташа — 1 000 бочек в год. Это решение царь аргументировал тем, что на такое количество поташа имеется устойчивый спрос на внешнем рынке и производство его возможно без ухудшения качества производимого поташа [8, л. 91 об.]. Задача своевременной продажи всего произведенного поташа актуализировалась и тем, что при хранении качество его быстро ухудшалось. В целом же в первой трети XVIII в. правительство России при продаже поташа за границу стремилось осуществлять ее по максимально высоким ценам, предпочитая при снижении спроса сокращать объем поставок поташа на внешний рынок, нежели снижать стоимость (так, в 1717 и 1718 гг. его производилось всего по 500 бочек [8, л. 91 об.]).
При продаже первоначально предпочтение отдавалось заключению контрактов с купцами об отдаче им в течение определенного времени (как правило, трех лет) определенного количества поташа по заранее оговоренным ценам [2, с. 821; 8, л. 69]. Но в конце второго десятилетия XVIII в., в связи с тем, что при заключении подобных контрактов купцы стали настаивать на снижении цены, предпочтение стало отдаваться продаже с торгов [9, л. 70]. Для облегчения этого предварительно проводились специальные своего рода рекламные акции, заключавшиеся в публикациях в газетах в крупнейших городах России и за рубежом и устных оповещениях иностранных купцов о месте и времени продаж. Помимо того что продажа с торгов позволяла заключать контракты на наиболее выгодных условиях, Доммерц-коллегия также получала на них представление об общем спросе на поташ и исходя из этого могла заранее определять примерный объем производства поташа на следующий год.
Возникшие затруднения со сбытом поташа побудили российское правительство исследовать ситуацию на английском рынке, потреблявшем его львиную долю. При этом выяснилось, что проблемы с его сбытом во многом связаны с возросшим предложением поташа из других стран хотя, и худшего качества, но по менее высоким ценам [9, л. 247 об.]. Дроме того, было обращено внимание на деятельность частных производителей поташа в России. При исследовании данного вопроса оказалось, что поташ продавался частными лицами в больших количествах [9, л. 184 об.—186]. Поэтому в 1719 г. было принято решение о подтверждении монополии на экспорт поташа — «поташу и смольчугу быть казенными товарами, бережения лесов ради» [8, л. 91 об.], а в апреле 1721 г. последовал указ Петра I об установлении монопольного производства поташа на гартах Починковской поташной конторы — «а кроме того нигде отнюдь поташа не делать и никому не продавать под страхом ссылки в вечную каторжную работу» [14, с. 46]. Изготовленный до указа поташ разрешалось продавать только на мануфактуры внутри России [9, л. 1, 13 об.]. Таким образом российское правительство решило устранить внутренних конкурентов и в большей степени контролировать предложение.
Исправить положение не удалось, и в конце 20-х гг. XVIII в. возникает ситуация, когда не находилось купцов, готовых приобретать поташ по устраивавшим Доммерц-коллегию ценам, и в этих усло виях она была вынуждена перейти к отдаче поташа в комиссию. Так, в 1730 г. в комиссию английскому консулу Варду было отдано 1 500 бочек поташа, для перевоза которого в Англию ему предоставлялись 6 кораблей и право беспошлинного вывоза. От продажи поташа Варду причиталось 8 % от вырученной суммы, причем ответственность за сохранность товара лежала на нем [8, л. 115—118]. При всем старании английского корреспондента Голдена, привлеченного к продаже этого поташа, в течение двух лет были проданы всего 1 253 бочки по достаточно низкой цене 11,5 ефимков за берковец (с 1712 по 1728 г. включительно российский поташ продавался «за морем» по цене от 14,5 до 16,0 ефимков за берковец).
В сложившихся обстоятельствах Дом-мерц-коллегией и Сенатом для повышения спроса на поташ рассматривался вопрос о временной приостановке либо значительном сокращении его производства. Голден предложил другой вариант решения проблемы. По его мнению, снижение поставок поташа в Англию вызовет увеличение поставок его из Польши и Эстляндии; чтобы не допустить этого, он предлагал резко увеличить экспорт на английский рынок российского поташа, предлагая его по существенно сниженным ценам. Это должно было вытеснить с рынка конкурентов и привести к свертыванию производства поташа в этих странах; установленная таким образом монополия на внешнем рынке должна была компенсировать понесенные убытки за счет значительного повышения цены на российский поташ в будущем [8, л. 132—132 об.]. Сенат выразил сомнение в плане Голдена, но из-за потребности в средствах было принято решение, что «на большую партию, ежели и дешевле про-даетца, только прибыли больше получа-етца» [8, л. 135—136].
Но английские купцы, во всяком случае часть их, видимо, отнеслись к плану Голдена с большим доверием, так как в 1732 г. сразу несколько купцов предлагают Доммерц-коллегии заключить долговременные монопольные контракты на приобретение российского поташа.
Контракт был заключен с английскими купцами Шифнером и Вульфом, согласившихся приобретать в течение пяти лет по 2 000 бочек поташа по 12 ефимков за берковец [8, л. 125 об. — 127]. Для достижения необходимого объема производства предпринимались шаги в двух направлениях: 1) дальнейшая рационализация производственного процесса на основе уже проведенной его унификации; 2) увеличение числа действующих майданов.
Необходимость увеличения количества ежегодно изготавливаемого поташа более чем в два раза, вызванная условиями заключенного контракта, потребовала нового решения проблемы с поставкой припасов, в первую очередь золы, так как заготовить потребное количество уже имеющихся в распоряжении поташной конторы силами было невозможно. Нельзя было решить ее и увеличением денежного финансирования из Комерц-коллегии, поскольку в течение, по крайней мере, пяти последних лет не находилось желающих добровольно поставить золу по указанной цене. Это объяснялось не только вырубкой лесов вблизи майданов, но и низкой для данного времени платой. (Из заявления крестьянина д. Стрелки Кузьмы Ананьина, утверждавшего, что ему в Санкт-Петербурге был дан указ, в котором, помимо всего прочего, поставка золы на Вольский майдан была зачтена крестьянам Вадской волости «по покупной цене по 10 алтын четверть», следует вывод, что средняя стоимость покупаемой другими потребителями четверти золы в этих местах равнялась 30 коп.; в то же время Починковская поташная контора за поставляемую на гарты золу платила в три раза меньше — всего 10 коп. за четверть [3, л. 150, 150 об.]. Выход был найден в приписке к поташным заводам дополнительного числа крестьян. Поэтому в 1733 г. в подчинение Починковской поташной конторе было передано еще более 80 сел и деревень, в которых числилось около 10 тыс. душ мужского пола.
С этого времени для обеспечения поташного производства сырьем и осуществления ремонтных работ к каждому гарту прикреплялись села и деревни с примерно одинаковым общим количе ством душ, которые были обязаны таким образом погашать подушную подать. Главным мотивом выбора такого пути решения проблемы являлось стремление не допустить повышения себестоимости продукции, поскольку труд приписных крестьян правительство могло оплачивать по гораздо более низким расценкам, чем вольнонаемных рабочих (соответственно, по гораздо более низким ценам осуществлялась и поставка сырья).
Увеличение производства поташа приводило к усилению эксплуатации приписных к Починковской поташной конторе крестьян. Этот процесс еще более обострялся сокращением количества реальных рабочих рук. Так, по доношению в Коммерц-коллегию середины 40-х гг. XVIII в., «для вышеозначенной поташной работы числятся по генералитетской переписи крестьян 27 394 души из 150 сел и деревень. На самом деле в некоторых осталось уже менее половины, а в других и 10 доли. Многие мордовские крестьяне крестились и на 3 года освобождены от поташного дела» [8, л. 31—31 об.].
Положение усугублялось тем, что купцы Шифнер и Вульф, пользуясь долгосрочностью заключенного с ними контракта, стали браковать очень большое количество поташа, ранее считавшегося нормальным. Из-за этого первый контракт не был выполнен в срок, поэтому потребовалось принятие новых мер для еще большего увеличения объемов производства. Они позволили выполнить взятые по второму заключенному в 1739 г. с ними же подобному контракту Коммерц-коллегией обязательства по поставке поташа в оговоренные сроки, но при этом сопровождались ухудшением качества поташа и истощением как лесных, так и людских ресурсов Починковсковской поташной конторы.
Еще одним негативным последствием поставки на рынок огромного количества поташа явилось резкое падение спроса на него, что сделало продажу российского поташа за границу по прежним ценам в течение нескольких лет практически невозможной. Все это привело в середине 40-х гг. XVIII в. к прекращению крупномасштабного производства поташа, которое в полной мере так и не будет возобновлено.
Таким образом, рассмотрев деятельность казенной поташной промышленности, можно сделать следующие выводы.
В конце XVII — начале XVIII в. российское правительство, убедившись в выгодности поташной промышленности, стремилось получить максимальную прибыль от торговли поташом не за счет количества продаваемого за рубеж поташа, а путем поддержания стабильных высоких цен на него. Поташная промышленность России гибко реагировала на изменение спроса, и количество производимого в этот период поташа определялось преимущественно конъюнктурой европейского рынка.
Были предприняты меры по сокращению расходов на производство: 1) в определенной степени было унифицировано обеспечение гартов рабочей силой и тягловым скотом; 2) для уменьшения стоимости хлебного жалования и на корм тяглового скота было решено использовать зерно, собираемое на десятинной пашне. В то же время сам процесс производства оставался вне зоны внимания государственных органов и полностью зависел от опыта и умения каждого поливача, что наверняка приводило у большинства к перерасходу припасов.
Происходит поиск оптимальной системы управления производством. Поскольку управление поташными предприятиями из Москвы было крайне затруднено, в непосредственной близости от них создается специальная структура — Почин-ковская поташная контора, которая становится координирующим и контролирующим производственный процесс органом. При этом если первоначально контора являлась лишь одним из подразделений воеводской канцелярии, то затем она получает полную самостоятельность. Так же с целью оптимизации управления меняется ведомственная принадлежность конторы — она передается из ведения приказа Большой казны в приказ Адмиралтейских дел, а затем — в подчинение Коммерц-коллегии. В то же время можно констатировать, что изменение ведомственной принадлежности решало тактические задачи, представлявшие наибольшую важность на текущий момент.
Еще одна ярко прослеживающаяся тенденция в работе казенной поташной промышленности — стремление не допустить повышения себестоимости продукции. Так, для удешевления заготовки припасов была запрещена порубка годных для производства поташа лесов на другие цели.
Так же стремление к удешевлению (или предотвращению подорожания) производства являлось главным фактором, который обусловливал выбор того или иного подхода к решению проблемы с обеспечением казенной поташной промышленности рабочей силой (наем рабочих, закупка сырья, использование принудительного труда приписных крестьян). Судя по тем проектам, которые будут рассматриваться Сенатом в 60-х гг. XVIII в., повышение цен на золу и клепочные дрова до рыночного уровня могло исправить ситуацию, но в таком случае неминуемо произошло бы резкое увеличение себестоимости поташа, а, следовательно, сократилась бы прибыль, по-ступаемая в казну от его продажи на внешнем рынке. При этом, впрочем, можно выделить еще один фактор, который способствовал переходу к использованию принудительного труда. Дело в том, что после сведения близлежащих лесов проблема поиска рабочих рук стала достаточно часто вставать перед российским правительством, и предпринимаемые каждый раз меры позволяли решить ее лишь на непродолжительное время. Такое же решение проблемы должно было снять этот вопрос с повестки дня на долгий срок.
В первой трети XVIII в. правительство России при продаже поташа за границу стремилось осуществлять ее по максимально высоким ценам, предпочитая при снижении спроса сокращать объем поставок поташа на внешний рынок, нежели снижать стоимость. В целом эта политика привела к снижению спроса на него и, как следствие, к сокращению поступавшей в казну от торговли им выручки. Поэтому в 1732 г. был взят курс на продажу большого количества поташа по несколько меньшим ценам, что должно было увеличить объем общей выручки.
В целом предпринятая правительством Анны Иоанновны попытка получения максимальной прибыли за счет предельно возможного увеличения объемов производства и продажи поташа породила системный кризис казенной поташной промышленности, заключавшийся в следующем: 1) были практически полностью уничтожены леса в окрестностях гартов, что сделало их работу невозможной и требовало переноса на новые места; 2) из-за чрезмерной эксплуатации была подорвана феодально-крепостническая система снабжения гартов припасами и рабочей силой, приписные крестьяне уже не могли справляться с возложенными на них обязанностями; 3) поставка на европейский рынок огромного количества поташа катастрофически снизила спрос на него и сделала невозможным его сбыт в ближайшем будущем.
Можно говорить о том, что в условиях модернизации XVIII в., безусловно, происходит быстрое развитие поташной промышленности: совершенствуется управление ею; путем регламентации производственного процесса осуществляется его интенсификация; ведется поиск путей оптимизации продажи продукции; апробируются различные подходы к обеспечению поташных предприятий рабочей силой. В то же время, как правило, все принимавшиеся меры являлись следствием реагирования правительства на уже не просто возникающие, а обострившиеся проблемы, вызвавшие снижение рентабельности поташной промышленности, и были направлены преимущественно только на ее восстановление. Созданный механизм управления не отличался гибкостью и не позволял эффективно и своевременно учитывать негативные явления на стадии их зарождения и вносить коррективы в организацию производства и сбыта продукции. Приоритет, отданный поддержанию максимальной доходности, в результате ее снижения привел к утрате интереса со стороны правительства к казенной поташной промышленности. В дальнейшем это привело к потере своего сектора на европейском рынке, который был занят иностранными производителями.
Список литературы Казенная поташная промышленность России в условиях модернизационных процессов первой половины XVIII века: основные тенденции развития
- Лукьянов, П. М. История химических промыслов и химической промышленности России до конца XIX века: в 6 т./П. М. Лукьянов. -Т. 2. -М.; Л.: Наука, 1949. -546 с.
- Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. IV. 888 с.
- РГАДА, ф. 1091, оп. 1, д. 50.
- РГАДА, ф. 1091, оп. 3, д. 17.
- РГАДА, ф. 1091, оп. 3, д. 18.
- РГАДА, ф. 1091, оп. 3, д. 19.
- РГАДА, ф. 1091, оп. 3, д. 30.
- РГАДА, ф. 19, д. 225
- РГАДА, ф. 276, оп. 1, ч. 1, д. 1065.
- РГАДА, ф. 276, оп. 1, ч. 1, д. 1070.
- РГАДА, ф. 276, оп. 1, ч. 1, д. 1084.
- РГАДА, ф. 276, оп. 1, ч. 1, д. 1115.
- РГАДА, ф. 276, оп. 1, ч. 1, д. 1117.
- Руткевич, Н. П. Починковские поташные заводы XVIII в./Н. П. Руткевич//Записки МНИИЯЛИЭ. -Саранск, 1946. -Вып. 6. -С. 45 -53.