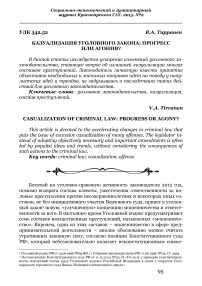Казуализация уголовного закона: прогресс или агония?
Автор: Тирранен В.А.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: Право и социальные отношения
Статья в выпуске: 2 (2), 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной статье исследуется ускорение изменений уголовного за-конодательства, ставящее вопрос об излишней казуализации многих составов преступлений. Законодатель зачастую вместо принятия объективно необходимых и значимых поправок идет на поводу у попу-листских идей и трендов, не задумываясь о последствиях таких дей-ствий для уголовного законодательства.
Уголовное законодательство, казуализация, состав преступлений
Короткий адрес: https://sciup.org/140205665
IDR: 140205665 | УДК: 342.52
Текст научной статьи Казуализация уголовного закона: прогресс или агония?
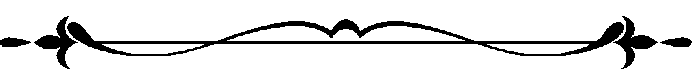
Богатый на уголовно-правовую активность законодателя 2012 год, помимо возврата состава клеветы, ужесточения ответственности за половые преступления против несовершеннолетних и некоторых иных составов, не без инициативного участия Верховного суда, принес в уголовный закон1 новую, «улучшенную» концепцию мошенничества и ответственности за него. В настоящее время Уголовный кодекс предусматривает семь составов имущественных преступлений, называемых «мошенничество». Впрочем, один из этих составов – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – вполне обоснованно можно считать утратившим законную силу, согласно позиции Конституционного суда РФ2, который небезосновательно полагает неконституционным сниже- ние ответственности за мошенничество только по причине совершения оного субъектом предпринимательских отношений, что несколько дискредитирует права и законные интересы лиц, в такую деятельность не вовлеченных, при этом являясь прекрасным способом снижения ответственности при необходимости. При этом суд дал возможность законодателю привести кодекс в соответствие с требованиями Конституции в толковании данного органа власти, однако, по состоянию на 15 июня 2015 года, данной корректировки не произошло. Согласно абз. 2 п. 3 резолютивной части упомянутого Постановления, если по истечении шестимесячного срока со дня его провозглашения федеральный законодатель не внесет в Уголовный кодекс Российской Федерации надлежащие изменения, статья 159.4 данного Кодекса утрачивает силу. Таким образом, даже внесение изменений в статью в более поздний период не вернет её к жизни.
При всём этом цель изначального введения состава статьи 159.4 указывалась еще в пояснительной записке к законопроекту, которым были приняты упомянутые составы мошенничества. Отмечалось, что изменения закона были вызваны необходимостью дифференцировать меры уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших мошеннические действия, в зависимости от сферы совершения указанных действий, с чем в итоге оказался не согласен суд Конституционный.
В то же время Верховный суд, мотивируя внесение нового состава в УК РФ, не удосужился уточнить, почему именно мошенничество в сфере предпринимательской деятельности обладает настолько сниженной общественной опасностью, что максимальный срок наказания за особо квалифицированный состав этой статьи не превышает 5 лет. Таким образом, законодатель как будто продвигает преступников на стезю преступной предпринимательской деятельности, смягчая ответственность за преступления, связанные с ней. Обеспечение роста предпринимательской деятельности в ущерб охраняемым уголовным законом интересам других лиц, а также общества и государства явно недопустимо, в том числе и для целей экономии уголовной репрессии.
Существует масса проблем, связанных с квалификацией рассматриваемых разновидностей мошенничества. Например, статья 17 УК РФ содержит указание только на правила конкуренции общего и специального состава, достаточно сомнительной в данном случае, однако в УК не содержится указания на конкуренцию между специальными нормами, в равной степени характеризующими совершенное деяние. Так, легко представить себе мошенничество в сфере кредитования, одновременно являющееся мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности. При анализе статей представляется, что квалификация в данном случае должна идти по ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) как более полно описывающей состав указанного деяния, при этом ст. 159.1 в ч.1 не предусматривает наказания в виде лишения свободы, а ст. 159.4 – предусматривает лишение свободы сроком на 1 год, в то время как особо квалифицированный состав ст. 159.1 в случае совершения преступления в особо крупном размере предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, тогда как за аналогичный размер хищения по ст. 159.4 предусмотрено наказание лишь в 5 лет лишения свободы. В этой связи непонятным остается основание неравенства декларируемой общественной опасности деяний в основном и особо квалифицированном составах по сравнению друг с другом.
Данные статьи вызывают и конкретные вопросы к составам преступлений. В частности, возникает вопрос, будет ли состав ст. 159.6 специальным по отношению к краже, если она совершается в сфере компьютерной информации описанными в статье способами? Можно ли его рассматривать как разновидность мошенничества, если для совершения данного деяния не требуется какого-либо обмана либо злоупотребления доверием потерпевшего?
Самый главный вопрос, появляющийся в ходе анализа указанных составов, состоит в непонимании смысла совершенных в таком виде изменений. Например, в целях усиления ответственности за мошенничество с жильем в ч. 4 ст. 159 УК был внесен дополнительный признак, устанавливающий повышенную ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права потерпевшего на жилое помещение.
За последние три года УК РФ пополнился еще некоторыми составами, к которым можно отнести статьи: 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»; 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»; 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»; 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»; 217.2 «Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности»; 235.1 «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий»; 238.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»; 240.1 «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего»; 243.1 «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия»; 243.2 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания»; 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»; 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности»; 284.1 «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»; 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»; 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента»; 354.1 «Реабилитация нацизма». Данные составы (кроме незаконного производства лекарств, ранее подпадавшего под действие статьи 171 УК, и) не криминализировались согласно нормам УК РФ.
В то же время ряд новых составов является не более чем избыточной казуализацией известных и наказуемых деяний. Так, статья 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» отдельным составом выделяет частный случай приготовления к совершению террористического акта, очевидно, снимая с правоохранительных органов задачу выявлять, для совершения какого именно акта проходит обучение потенциальный террорист.
Статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», выделенные из состава статей 222 и 223 соответственно, с несколько повышенной ответственностью, также являются примером излишней казуализации уголовного закона.
Интересным примером казуализации также можно назвать появившуюся в 2015 году статью 234.1 «Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ», закрепляющую за лицом обязанность оценивать наличие или отсутствие потенциальной опасности оборота веществ, по поводу которых государство еще не сформировало экспертного мнения.
Помимо прочего, был выделен частный случай незаконной охоты – статья 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», по существу отличающийся только формальным признаком – включением предмета охоты в Красную книгу РФ.
Апогеем неспособности правоприменителей использовать уголовный закон как инструмент уголовной ответственности можно назвать появление состава статьи 325.1 «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства», со всей очевидностью являющийся специальным случаем хищения и реально не требовавший бы криминализации, если бы не нежелание правоохранительных органов бороться с данным явлением в рамках нормальной уголовно-правовой деятельности.
Итого за реальных 2 года и 6 месяцев в особенную часть уголовного закона было введено 28 (!) новых статей (и более 32 новых составов, включая составы, введенные в существовавшие ранее статьи), т.е. больше 10 % от общего количества составов, которые изначально существовали в УК РФ. Постоянное изменение основного уголовного закона страны, внедрение неприемлемой для уголовного закона казуистичности, попытки создать видимость активной законотворческой деятельности, дающей плюсы исключительно в статистическом подсчете совершаемых преступлений, но не в борьбе с ними, можно расценивать не иначе как агонию Уголовного кодекса РФ, и если конкретных мер к принятию реально работающего уголовного закона предпринято не будет, такой процесс повлечет рост недоверия к уголовно-правовой системе и её скорую кончину.