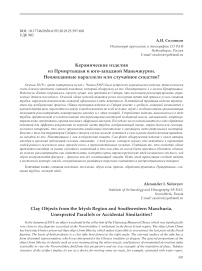Керамические изделия из Прииртышья и Юго-Западной Маньчжурии. Неожиданные параллели или случайное сходство?
Автор: Соловьев А.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.
Бесплатный доступ
Осенью 2019 г. среди материалов музея г. Чаоян (КНР) было встречено керамическое изделие, типологически очень близкое предмету глиняной пластики, который обнаружен на пос. Новотроицкое-1 в лесном Прииртышье. Изделие из Китая сохранилось гораздо лучше, чем предмет из Сибири, что позволяет реконструировать утраченные детали последнего. Основой обоих изделий является резко изогнутая почти под прямым углом глиняная трубка, наружная поверхность которой оформлена в виде животного. В китайской традиции изделие трактуется как изображение дракона. Общие пропорции изделия из Сибири вместе с гребнем, который начинается в верхней трети шеи, переходит на морду и продолжается по всей ее длине, вкупе с особенностями орнаментации позволяют рассматривать новотроицкую находку и с этих позиций. Устройство изделия, выполненного в виде трубки, предполагает его использование для перемещения некоторой воздушной массы, насыщенной, например, парами воды, продуктами горения или даже эфирными маслами. Последнее могло использоваться в ходе обрядовых действий для эффекта извержения из верхней части трубки, изображающей пасть, струи дыма или галлюциногенных испарений, что могло произвести наибольшее впечатление в зрелищном акте ритуальных мистерий. Вместе с тем для территории Сибири в данном случае может остаться в силе и ранее предложенная трактовка находки из пос. Новотроицкое-1 как изображения лошади. Сам факт обнаружения изделия у очага авторы находки и прежних публикаций склонны связывать с той ролью, которую играло это животное в верованиях людей раннего железного века, прежде всего, в производственных культах. Учитывая то, что сходство обоих предметов выходит за рамки случайных совпадений и что они едва ли могли быть простым объектом обмена, их можно рассматривать как свидетельство экспорта серии мировоззренческих идей независимо от того, чей образ воспроизводят фигурки - дракона или же огнедышащей лошади. Пути этой трансляции следует видеть в восточном векторе связей, опосредованном развитием торговых контактов и распространением товаров.
Глиняная пластика, поселение, образ коня, дракон, обрядовая практика, прииртышье, глиняная трубка, экспорт идей
Короткий адрес: https://sciup.org/145145075
IDR: 145145075 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.597-601
Текст научной статьи Керамические изделия из Прииртышья и Юго-Западной Маньчжурии. Неожиданные параллели или случайное сходство?
В сентябре 2019 г. во время работы на территории Северо-Западной Маньчжурии среди материалов небольшого археологического музея в г. Чаоян (Китайская Народная Республика) был встречен любопытный предмет, параллели которому уводят нас далеко за границы бывшей Поднебесной империи, в глубины чужого «варварского» мира.
Привозные предметы, найденные на памятниках населения эпохи раннего железного века и Средневековья в лесостепи и таежной полосе Западной Сибири, на Алтае и Минусинской котловине, – явление далеко не уникальное. Среди прочих древностей, доставленных сюда с территорий родственных скотоводческих кул ьтур Приуралья, Поволжья, Средней и Центральной Азии, известны изделия мастеров из совсем отдаленных регионов, в т.ч. и тех, где располагались очаги древнейших цивилизаций – Египта, Рима, Китая. Среди прочих изделия мастеров Поднебесной наиболее многочисленны и представлены бронзовыми зеркалами, монетами, единичными предметами вооружения, в частности, железными мечами с бронзовым перекрестием, воронкообразным навершием, лаковыми изделиями, включая ножны. Завозились сюда и экзотические фрукты, ко сточки которых обнаруживаются на поселениях. Их материалы позволяют говорить о том, что сюда, в предтаежье, приводились целые караваны вьючных верблюдов, которые в ряде случаев даже зимовали под защитой стен укрепленных городищ [Чернецов, Машинская, Талицкая, 1953; Лубо-Лесниченко, 1975; Троицкая, 1979; Полосьмак, 1987; Матвеева, 1993; Кубарев, 2005; Новосибирская археологическая экспедиция…, 2010; Тишкин, Серегин, 2011].
Что касается упомянутых находок, есть основания считать, что вместе с экспортом предметов материальной культуры должен был идти и экспорт идей. Однако, все эти материалы, способные заметно повысить благосостояние местной элиты и маркировать социальный статус ее представителей, пока не дают возможности говорить о заметных коррективах в мироощущении рядовой массы аборигенного населения. Способность утилитарных металлических изделий «мигрировать» как вместе со своими творцами, так и без них – уже давно 598
общепризнанный факт. Равно как и то обстоятельство, что наиболее надежным индикатором, отражающим направления межкультурных и межэтнических контактов (из тех, что доступны в настоящее время исследователям), являются керамические изделия. И это не только сосуды, форма и декор которых отражают разные технологические и мировоззренческие традиции, но и предметы мелкой пластики, дающие исследователю аналогичные, зачастую не менее яркие посылы. Правда, в силу своей единичности, особенно заметной на фоне массового материала, единичности, их, если так можно сказать, хор звучит не столь громко и слаженно, как в свое время и как это следовало бы от него ожидать. Но все же…
На правом берегу Иртыша в 40 км к северу от г. Омска в ходе исследования котлована жилища переходного от позднего бронзового века к эпохе раннего железа поселения краснозерской культуры Новотроицкое I А.Я. Труфановым в 1981 г. было найдено любопытное керамическое изделие. Целенаправленному анализу этого предмета посвящена специальная статья А.П. Бородовского и А.Я. Труфанова, в которой дается доскональное его описание, приводятся варианты интерпретации, отыскивается аналог среди комплекса находок поселения Стрелковское-2 в Нижнем Приангарье, а ряду элементов находится объяснение на материалах изобразительной традиции античного мира и Месопотамии [2019]. Изделие, о котором идет речь, представляет собой Г-образно загнутую керамическую трубку, длинная часть которой до сгиба воспроизводит шею живого существа, а короткая – его морду. Оба конца изделия повреждены, что не позволяло до сегодняшнего дня восстановить его прежний вид. Авторы рассматривают находку как протому лошади – изображение передней части ее тела. Они отмечают, что часть фигурки, воспроизводящая шею, утончается к приподнятой вверх «голове», которая «выполнена подчеркнуто короткой и массивной». Небольшие уши рельефно выделены, в ушной раковине имеются сквозные отверстия. Такими же отверстиями переданы и глаза. Обращает на себя внимание шея, несоразмерно длинная относительно пропорций тела реального животного. Бросается в глаза странно короткая зубчатая «грива»,

Рис. 1. Керамическая протома головы лошади из пос. Новотроицкое I (по: [Бородовский, Труфанов, 2019]).
расположенная только на верхней трети ее длины. Она выходит на «морду», где продолжается до линии излома, более всего напоминая гребень. Поверхность изделия покрыта небольшими треугольными вдавлениями, в расположении которых угадывается некоторая рядность (рис. 1). Авторы публикации усматривают в мотивах орнаментации новотроицкой фигурки элементы, связанные с воспроизведением упряжи верхового животного. В целом предложенная трактовка изображения не вызывала особых возражений. Правда, несколько смущал довольно непривычный вид животного – грива, пропорции, избранный скульптором стиль орнаментации.
Минувшей осенью во время научной командировки в Китайскую народную республику нам удалось познакомиться с материалами археологического музея в г. Чаоян на территории юго-западной Маньчжурии, среди которых обнаружилось одно крайне любопытное и почти уже знакомое нам полое изделие, выполненное в виде Г-образной асимметричной керамической трубки. В верхней ее части так же сформирован зубчатый гребень. С двух сторон от него небольшими глиняными налепами воспроизведены стоячие уши. Одна, длинная, часть трубки до сгиба, также воспроизводит шею, другая, короткая, – приподнятую вверх морду живого существа. Важным моментом явилось то, что у изделия сохранились отсутствующие у новотроицкой находки торцевые участки, которые являют нам законченный образ. В нижней части у самого основания изделия заметен небольшой валик, который придает фигурке устойчивость и позволяет легко устанавливать ее на ровной поверхности. Передняя, короткая часть трубки никогда не была «слепой».

Рис. 2. Керамическая голова дракона из археологического музея г. Чаоян (КНР).
Ее края на торце хорошо заглажены. И оставленное здесь открытым сквозное отверстие передает распахнутый рот или разинутую пасть (рис. 2).
Сходство на уровне идеи меж двумя фигурками удивительно, но на уровне исполнения не тождественно. Различия видны в пропорциях шеи – более тонкой и цилиндрической у китайского экземпляра; длине гребня-гривы – она короче у новотроицкого; в отсутствии сквозных отверстий в ушных раковинах и на месте глаз у чаоянского, орнаментации на его поверхности. Вместе с тем перед нами, несомненно, один и тот же образ или два крайне схожих. Близость изделий выходит за рамки случайных совпадений и предполагает воспроизведение некой общей зооморфной ипостаси, имеющей в основе сходные, если не общие, мифологические корни. В китайской версии это дракон.
Вполне допустимо, что такой персонаж был и в сознании древнего мастера из Новотроицкого поселения, когда его руки разминали глину и лепили из нее то изделие, что было найдено в наши дни в заброшенном жилище на берегу Иртыша. Глиняные предметы такого рода в силу своей простоты, явной сакральной значимости и хрупкости, едва ли могли служить предметом целенаправленного товарного обмена. Поэтому можно уверенно полагать, что один из предметов выполнен мастером краснозерской культуры Омского Прииртышья, другой – гончаром Поднебесной.
Если взять эту трактовку за основу, исчезает целый ряд несоответствий, которые сознательно гасит наше воображение при взгляде на сибирский экземпляр. Это и непропорциональная длина шеи, и зубчатый, обрывающийся в верхней ее трети (если даже не четверти) и доходящий почти до конца морды гребень, и орнаментация, кажется, более всего похожая на чешую, и высоко посаженные маленькие глаза, и сама небольшая сужающаяся морда. Было бы глупо отрицать, что некоторые такие черты не могут быть присущи и лошади. Но в целом, комбинация этих деталей вызывает в памяти образ гигантского чудовища Годзиллы, созданного японскими аниматорами, в т.ч. и с учетом порождений мифологического сознания. Возможно, будь окончание морды рассматриваемой фигурки иным, иным был бы и навеваемый ею образ. Однако зияющее отверстие рта и весь облик поделки ведет в ином направлении. Можно, конечно, возразить, что конец головы изображения обломан. Но и предмет из Чаояна, и тот факт, что новотроицкое изделие полое и фактически представляет собой трубу, на наш взгляд, говорит в пользу того, что его окончания аналогичным образом заканчивалось сквозными отверстиями. Ведь обычное небольшое скульптурное изображение какого-либо животного быстрее и проще вылепить монолитом из сплошного куска глины, что мы и видим на примере мобильной сибирской пластики. Изготовление же трубчатого тонкостенного предмета, особенно резко изогнутой Г-образной формы, – достаточно сложный и трудоемкий технологический процесс, на который мастер пойдет, если ему нужна именно сквозная составляющая изделия.
Собственно, с этих позиций и надо подходить к определению смыслового и функционального назначения предмета, для которого важнейшим со ставляющим элементом является внутренний проводящий канал, который мог использоваться для «прокачки» некоторой воздушной массы, насыщенной, например, парами воды, продуктами 600
горения или даже эфирными маслами или галлюциногенами. В этом случае исходящие изо рта скульптурки клубы дыма, пара или даже небольшие язычки пламени, что технически достижимо даже при весьма ограниченных возможностях, могли производить неизгладимое впечатление при исполнении зрелищной части ритуальной мистерии, доводя ассоциативный ряд у зрителей до предела.
Мы не будем обсуждать здесь техническую сторону вопроса. Для этого пока слишком мало материала при известном числе возможных решений. Оставим данный тезис в качестве предположения, иначе несложно завязнуть в массиве малодоказуемых версий и полуфантастических гипотез.
Данный предмет мог использоваться и в качестве элемента курильницы. В то же время явная сакральная составляющая Г-образных предметов выводит их числа средств заурядной ингаляции, за исключением, пожалуй, тех случаев «опьянения» дымами наркотических трав, о которых сообщал для скифов Геродот.
К сожалению, нам пока недоступна информация об обстоятельствах обнаружения чаоянского предмета, которая могла бы пролить свет на характер его использования и, соответственно, подсказать направления дальнейшего поиска. Однако, известно, что новотроицкая керамическая прото-ма была найдена на полу, у стенки жилища, ближе к его углу, между кострищем и крупным вкопанным в землю сосудом [Бородовский, Труфанов, 2019]. И это весьма показательно, ибо напрашивается намек на связь с огненной стихией, подкрепляемый и следами металлообработки, которые обнаружены на поселении [Там же]. Что касается образа лошади, то исключать его из списка персонажей творчества неизвестного мастера до новых находок аналогичного материала пока не целесообразно. Тем более, что в мировых мифологических анналах образы огнедышащих животных, в т.ч. и лошадей вместе с драконами, достаточно распространены. А сакральный характер этого почитаемого животного в мировой культуре хорошо известен.
Откуда же мог взяться загадочный дракон на берегах Иртыша? Формирование этого образа, столь чуждого для Западной Сибири, на наш взгляд, можно рассматривать как результат трансформации картины мира, имевшей место в регионе в один из переломных моментов истории под влиянием импульсов, пришедших сюда по северным ответвлениям маршрутов Шелкового пути. И в данном случае мы, возможно, имеем пример экспорта идей, который шел вслед за распространением товаров, повышавших благосостояние местной элиты и привносивших свои коррективы в мироощущение рядовой массы аборигенного населения. И не важно, идет ли в данном случае речь о драконе или все-таки об огненной лошади.
Список литературы Керамические изделия из Прииртышья и Юго-Западной Маньчжурии. Неожиданные параллели или случайное сходство?
- Бородовский А.П., Труфанов А.Я. Керамические протомы лошадей эпохи палеометалла из южнотаежной зоны Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - Т. 47, № 4. - С. 36-45
- Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 400 с
- Лубо-Лесниченко Е.И. Привозные зеркала Минусинской котловины. К вопросу о внешних связях древнего населения Южной Сибири. - М., 1975. - 170 с. + 109
- Матвеева Н.П. Саргатская культура на среднем Тоболе / отв. ред. Н.В. Полосьмак. - М.: Наука, 1993. -174 с
- Новосибирская археологическая экспедиция (1957-1995). - Новосибирск: Издательство ИАЭТ СО РАН, 2010. - 152 с
- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. -Новосибирск: Наука, 1987. - 126 с
- Тишкин А. А., Серегин Н.Н. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета). - Барнаул: Азбука, 2011. - 144 с.
- Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. - Новосибирск: Наука, 1979. - 124 с
- Чернецов В.Н., Мошинская В.И., Талицкая И.А. Древняя история Нижнего Приобья. - М.: Изд-во АН СССР, 1953. - С. 121-178. - (МИА; № 35)