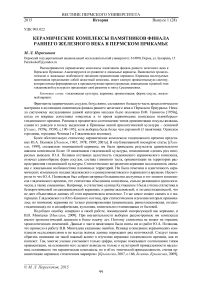Керамические комплексы памятников финала раннего железного века в Пермском Прикамье
Автор: Перескоков М.Л.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются керамические комплексы памятников финала раннего железного века в Пермском Прикамье. Анализируются их развитие и локальные варианты. Выявляются хронологические и локальные особенности эволюции орнаментации керамики. Керамика исследуемых памятников представляет собой целостный комплекс, имеет единую орнаментальную систему, которая начала формироваться в предшествующее время (ерзовская, ананьинская и ранний этап гляденовской культуры) и продолжает своё развитие в эпоху Средневековья.
Гляденовская культура, керамика, орнаментация, форма сосуда, локальный вариант
Короткий адрес: https://sciup.org/147203620
IDR: 147203620 | УДК: 903.022
Текст научной статьи Керамические комплексы памятников финала раннего железного века в Пермском Прикамье
Фрагменты керамических сосудов, безусловно, составляют большую часть археологического материала в коллекциях памятников финала раннего железного века в Пермском Приуралье. Начало системному исследованию данной категории находок было положено В.Ф. Генингом [1959а], когда он впервые сопоставил известные в то время керамические комплексы пьяноборско-гляденовского времени. Разница в процентном соотношении типов орнаментации посуды являлась одним из доводов в пользу выделения в Прикамье новой археологической культуры – осинской [ Генинг , 1959а; 1959б, с.190–195], хотя выборка была более чем скромной (3 памятника: Осинское городище, городище Чеганда I и Гляденовское костище).
Более обстоятельную статистику керамических комплексов гляденовского времени представил Ю.А. Поляков [ Поляков , 1967; 1978; 1999; 2001а]. В опубликованной посмертно статье [ Поляков , 1999], специально посвященной керамике, им были приведены результаты сравнительного анализа комплексов более 10 памятников гляденовской культуры, позволившие сделать ряд интересных выводов. Ю.А. Поляков отстаивал целостность гляденовского керамического комплекса, отмечал единообразие форм сосудов, состава глиняного теста, орнаментации на территории распространения гляденовской культуры. Статистические же различия керамики исследователь связывал с локальными особенностями племенных территорий. Им была отмечена и идентичность керамических комплексов позднегляденовского и раннеломоватовского (харинского) времени. Несмотря на то что Ю.А. Поляковым был собран материал большинства доступных в тот момент комплексов гляденовского времени, его статистика объединила комплексы, сильно разнящиеся хронологически, а также смешанные. Например, в статистике селища Култаевское I была учтена статистика и безворотничковой позднеананьинской керамики, и раннегляденовской, и позднегляденовской, что не дает объективных данных об этом керамическом комплексе. То же самое можно сказать и о материалах Гляденовского и Юго-Камского костищ, при статистическом изучении которых принималось во внимание керамика не только разновременная (ананьинская, раннегляденовская, поздне-гляденовская), но и специфическая, культовая, значительно отличающаяся от бытовой.
Подобную ошибку совершил в своей работе, посвещенной интересующей нас керамике, и В.В. Мингалев [ Мингалев , 2009]. При внушительности выборки рассмотренные им комплексы имеют хронологический диапазон в более тысячу лет. Поэтому статистика не может не отразить хронологических изменений. Данные о части памятников были взяты им из работ Ю.А. Полякова, что принесло в работу В.В. Мингалева указанные ошибки. Разница в описаниях керамических комплексов исследователями и не всегда полные данные порождают ряд неточностей. Следует также обратить внимание на такой важный аспект в изучении керамики гляденовского времени, как ее контекст. Так, многие ученые учитывают только цифры, которые показывают соотношение типов орнаментации, на основании чего делают выводы не только о культурной принадлежности населения, оставившего эти керамические комплексы, но и об их этнической принадлежности, считая орнаментацию керамики «этническим маркером» [ Крыласова , 2007, с.166; Белавин , Крыласова , 2009],
с чем вряд ли можно согласится [ Коренюк, Мельничук, Перескоков, 2009] 1 . Статистическое изучение керамики с учетом таких специфических памятников как костища не только способствует неоднозначности выводов, но и позволяет ставить под сомнение их объективность в целом. Тем не менее выводы В.В. Мингалева в общих чертах повторяют выводы Ю.А. Полякова.
Нами была проанализирована керамика 25 памятников, относящихся к различным типам и племенным территориям, но охватывающих более короткий хронологический период. В выборку были включены только чистые комплексы, и из нее исключены все многослойные памятники. Культовая и бытовая керамика костищ рассматривалась отдельно. В итоге у нас появилась возможность сравнить не только керамику разных племенных территорий, но и комплексы единовременных памятников разных типов одной территории, а также сопоставить керамику с материалами памятников указанных территорий предшествующего времени. При сопоставлении выборки были использованы подсчеты автора (могильник Верхний Ирьяк, селища Заюрчимское VI, Косогоры I и Нижняя Курья 1Б, Бутырское городище), остальные данные были взяты из публикаций и научных отчетов. Следует отметить, что объем использованных данных в работах разных ученых сильно разнится, в связи с чем в таблице есть пробелы. Тем не менее данные по орнаментации керамики приведены авторами в полном объеме .
В целом представленный комплекс достаточно однороден. Это выражается в единстве как форм сосудов (рис. 1, 1 ), состава теста, так и орнаментации. При одинаковом наборе не только техники орнаментации, но и основных узоров локальные различия заключаются только в соотношении этих узоров, выполненных в разной технике. Поэтому выявляется закономерность: чем ближе памятники к соседнему локальному варианту гляденовской культуры (или племенной территории), тем больше в их керамике типов орнаментации, преобладающих у соседей (своеобразный орнаментальный континуум). Комплексы памятников разных типов, происходящих с одной племенной территории, очень близки. Различие же их состоит в том, что керамика погребальных комплексов может несколько отличатся от поселенческой, в первую очередь по степени орнаментации венчика и шейки. Причем на могильниках она зачастую выше, особенно на керамике поздних этапов; например, на керамике гайнинской группы харинских могильников, по В.Ф. Генингу и Р.Д. Голдиной, по венчику орнаментировано 83%, а по шейке – 88%, что является наивысшим индексом в данной выборке. Поселенческая керамика близка к бытовой керамике с костищ, но значительно отличается от культовой (рис. 1,2) как формами сосудов (в культовой керамике подавляющее большинство сосудов III типа), так и степенью орнаментации, причем в отличие от индекса керамики могильников индекс орнаментации ее крайне низок (Ильинское костище – 7,7% по венчику, 1,3% по шейке; Гаревское – соответственно 14 и 3,2%; Усть-Туйское – 24,5 и 2,2%; Слепушка – 5 и 5%). Техника орнаментации же и основные узоры бытовой, культовой, погребальной и поселенческой посуды идентичны.
При сравнении рассматриваемых керамических комплексов с керамикой предшествующего времени, обнаруженной на тех же племенных территориях, прослеживается формирование её специфики в определенных локальных группах. Так, керамика сылвенской и чусовской территорий (рис. 9, 10 – 20 ) отличается высоким процентом резной орнаментации (бытовая керамика костища Слепушка – 85% резного орнамента по венчику и 80% резного орнамента по стенкам), что может считаться ее локальной спецификой, появившейся под влиянием резных керамических комплексов, найденных в бассейнах рек Чусовой и Сылвы и относящихся к ананьинскому (Усть-Сылвенское городище, Усть-Телесское поселение) и раннегляденовскому (Турбинское селище – 78% орнаментации по венчику и 77% по шейке) времени.
Комплексы Мулянской территории (рис. 8), а также территории осинского локального варианта (рис. 4–5; 6, 1–15 ) формировались на основе гребенчато-шнуровой и ямочной керамики позд-неананьинского времени. Причем условная граница преобладания ямочной и гребенчато-шнуровой орнаментации ананьинской керамики проходила чуть южнее Мулянской территории, о чем свидетельствует высокий процент ямочной орнаментации на Юго-Камском костище (4,5% по венчику и 52% по шейке). В гляденовское же время она постепенно отступила на юг и стала пролегать по территории распространения тулвинско-частинского варианта гляденовской культуры. Мулянская территория является наиболее синкретичной в плане орнаментации керамики, что вполне может объясняться ее очень плотной заселенностью, а также наличием крупнейшего святилища – Гляде-новского костища, которое использовалось жителями всех племенных территорий.
В связи с этим несколько особняком стоит керамика тулвинско-частинского локального варианта (рис. 6, 16 – 27 ; 7). Можно говорить лишь о влиянии на ее формирование мазунинской культуры, но относить к ней эту керамику не совсем корректно 2 . Керамические комплексы данной территории начиная с ананьинского времени отличались от более северных (конецгорский тип) как раз преобладанием ямочной орнаментации (ананьинские памятники очерского, еловского и частинского Прикамья). Это, безусловно, было связано с сильными южными связями населения еловской группы ананьинской культуры (по А.Д. Вечтомову), на основе которой и сформировался своеобразный вариант гляденовской культуры. Причем граница между тулвинско-частинским и осинским вариантами гляденовской культуры является достаточно условной и определяется в основном различием керамических комплексов. Отсутствие же на территории распространения тулвинско-частинского варианта памятников со значительным преобладанием орнаментации более северных вариантов, вероятно, связано с отсутствием в этом направлении активной внутренней миграции осинских и мулянских племен, которые фиксируются в северном направлении. Небольшой процент шнуровой и гребенчатой орнаментации (2% шнуровой на Калиновском городище; 41,6% гребенчатой и 16,6% шнуровой на Верхне-Ирьякском могильнике) только подтверждает верность данного объяснения. При этом орнаментация керамики Махонинского и Калиновского городищ может быть связана с хронологией, а керамика является несколько более ранней по отношению к другим комплексам, хотя хорошо датированных вещей на обоих памятниках не найдено.
Керамика верхнекамского варианта (рис. 2,3), отличающаяся высоким процентом защипной орнаментации (Опутятское городище, Коновалятское селище, Бутырское городище), является несколько более поздней, чем керамика пермского варианта, и процент защипной орнаментации служит несомненным хронологическим признаком. В целом же стоит согласиться с мнением Ю.А. Полякова о том, что эта керамика принадлежит гляденовскому населению, которое с I в. постепенно сдвигалось на север, занимая свободные пастбищные поймы р. Камы. Происхождение защипов по венчику в это время можно связать с эволюцией гребенчатого орнамента по венчику, что хорошо видно на керамике Бутырского городища, в орнаментации которой используется крупного размера мелкозубчатый штамп (возможно, зуб животного), оттиски которого практически неотличимы от защипов. Процент гребенчатого орнамента по венчику керамики на этой территории в целом выше, а резного – ниже (Зародятское селище – 78% гребенчатого и 12% резного; Бутырское городище – 64,8% гребенчатого и 9,9% резного; Бурковский могильник – 83% гребенчатого). Интересно сравнение бытовой керамики Гаревского и Усть-Туйского костищ, орнаментация венчиков которых имеет противоположные индексы (Гаревское – 29% гребенчатой и 71% резной; Усть-Туйское – 72% гребенчатой и 24% резной). Усть-Туйское костище (I-II – IV вв.) является более ранним, чем Гаревское (II–VII вв.), но последнее имеет более широкую хронологию [ Лепихин , 2007, с.109–111]. В целом же набор орнаментов остается единым.
С внутренними миграционными процессами можно связать и появление гребенчатых комплексов в Чусовском и Сылвенском бассейнах, но появление керамики с преобладанием гребенчато-шнуровой орнаментации отмечено не ранее III–IV вв. (керамика селища Пеньки и Бродовского могильника). Эти процессы послужили началом активной колонизации указанных территорий выходцами с территории осинского (пермского?) локального варианта гляденовской культуры. Смешанное сылвенско-чусовское и осинское (пермское?) население стало основой формирования населения неволинской культуры и чусовской группы ломоватовской культуры. Характерные же для указанной территории резные орнаментальные традиции получили развитие в керамике неволин-ской культуры.
В ходе культурного и «этнического» определения населения, осуществляемого некоторыми исследователями исходя из орнаментации керамики, всегда сравниваются орнаментированные сосуды. Так, А.М. Белавин и Н.Б. Крыласова, считая шнуровой орнамент в Прикамье «этническим маркером», объясняя высоким процентом его использования преобладание здесь угорского населения, упускают из виду один факт. Индекс шнуровой орнаментации шеек сосудов, достигающий в ряде случаев 40%, определяется исходя из числа орнаментированных по стенке сосудов, доля которых в исследуемых памятниках не превышает 10-19% от общего числа выделенных сосудов. Так, в керамике Коновалятского селища, где шнуровая орнаментация составляет 37%, доля сосудов, орнаментированных по шейке, достигает 11%. Таким образом, из 138 найденных на памятнике сосудов только 6 имеют шнуровой орнамент.
Еще более специфическими являются керамические материалы костищ. Так, в комплексе Ильинского костища (найден только один фрагмент бытовой посуды), насчитывающем 233 сосуда, шнуровой орнамент по стенкам составляет 66,6%. В действительности шнуровой орнамент присутствует на 2 сосудах (из 3 орнаментированных по шейке). Шнуровая орнаментация культовой посуды Усть-Туйского костища составляет 100%, из 45 сосудов орнаментирован по шейке только 1. Не менее интересная ситуация с керамикой Махонинского городища: из 415 сосудов только 4 имеют ямочный орнамент или различные вдавления, т.е. ямочная орнаментация керамики городища достигает 100%. Исходя из приведенных примеров представляется некорректным исходя из керамики относить малые костища к ломоватовской культуре [ Мингалев , 2009, с.130].
Вся описанная керамика, безусловно, имеет местное происхождение. Но на ряде памятников найдена керамика, которую нельзя связать с гляденовской керамической традицией. В первую очередь это могильники, где выявлены погребения, которые можно отнести к пришлому воинскому населению. Количество предметов этой керамики по сравнению с местной невелико – не более двух десятков сосудов и их фрагментов. Плоскодонный кувшин с ручками был найден в Бродовском могильнике (курган 45, канавка) [ Голдина , 1986, табл. 17, 34). Такая форма сосудов, плоское дно характерны для памятников позднесарматского круга (обнаружены, например, в Салиховском могильнике в Башкирии [ Васюткин , 1986, с.190]. Единичные находки ручек сосудов (рис. 3, 14 ) отмечены на памятниках Пермского Прикамья (Горюхалихинское, Бутырское городища, костища Слепушка, Гляденовское). Плоскодонный сосуд без орнамента найден В.Ф. Генингом в Тураевских курганах [ Генинг , 1976]. Плоские донышки с большой примесью песка в тесте присутствуют в погребениях могильника Верхний Ирьяк (рис. 7, 22 ) и материалах Гляденовского костища. Из Верх-не-Ирьякского могильника происходит обломок небольшой плоскодонной чашечки (рис. 7, 15 ), а также чашечки с «ножкой» (рис. 7, 10 ), аналогов которым найти нам не удалось. Возможно, данные типы сосудов являются своеобразными «вариациями» изделий местных керамических мастеров в подражание импортным образцам. Вероятно, к ним можно отнести сосуд с ручками и круглым дном из Кудашевского могильника (рис. 7, 5 ) [ Казанцева , 2004].
Важно также отметить отсутствие на рассматриваемых памятниках зауральской керамики. Находки её в целом единичны и связаны с северными районами Пермского Прикамья (Березовский микрорайон), куда могли проникать небольшие группы зауральских охотников и собирателей, что связано с хозяйственно-культурным типом, основанным на присваивающей экономике. Аналогичные процессы прослеживаются и в материалах республики Коми [ Мельничук, Перескоков , 2013].
Кроме того, необходимо отметить появление в керамике острорёберных сосудов и орнамента из шнура в виде «подковок». В.Ф. Генинг соотносил это явление с харинскими керамическими комплексами и связывал с пришлыми группами населения [ Генинг , 1959а, с.184–187]. Его гипотеза была в дальнейшем развита сторонниками «угорской концепции» вплоть до выделения «этнического маркера» [ Казаков , 2007; Крыласова , 2007; Белавин, Иванов, Крыласова , 2009]. Данная точка зрения, на наш взгляд, совершенно не обоснованна. Появление данных элементов в керамическом комплексе можно связать с возвращением на них «моды», так как сочетание этих элементов отмечено в керамических комплексах Пермского Прикамья в развитое ананьинское (селище Еловское II) и позднеананьинское время (Гремячанское святилище), где они соседствуют с воротничком [ Ко-ренюк, Мельничук, Перескоков, 2009].
Анализ керамики во многом подтверждает выводы Ю.А. Полякова, сделанные им на небольшом материале, большей частью интуитивно. В первую очередь это касается единства гляде-новского керамического комплекса, отличающегося едиными формами сосудов, составом теста, орнаментацией. Важным общим признаком указанного комплекса является низкая степень орнаментации сосудов, особенно по шейке (не более 19%).
Гляденовская керамика имеет локальные вариации, основанные на традициях предков – ана-ньинского и раннегляденовского населения конкретных племенных территорий. Невозможность разделить керамику позднегляденовского и харинского времени подтверждается мнением Ю.А. Полякова о том, что ее оставило одно население, а выявленные хронологические признаки лишь отражают развитие керамических комплексов во времени. Выделение же рядом исследователей на основе орнаментации керамики новых археологических культур (осинской, гаревской) и использование ее как «этнического маркера» в археологии раннего железного века и Средневековья Пермского Приуралья представляется некорректным и методологически неверным.
Список литературы Керамические комплексы памятников финала раннего железного века в Пермском Прикамье
- Белавин A.M., Иванов В.А., Крыласова Н.Б. Угры Предуралья в древности и средние века. Уфа, 2009. 285 с
- Белавин A.M., Крыласова Н.Б. О финском компоненте в древностях Пермского Предуралья X-XI вв.//Культурные связи Европейского Северо-Востока в древности и средневековье: матер, по археологии Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 2013. Вып.18. С.99-105
- Белавин A.M., Крыласова Н.Б. Шнуровой орнамент -этнический маркер в культурах Предуралья эпохи железа//Труды КАЭЭ. Пермь, 2009. Вып. 6. С.118-125
- Белых С.К. Этнос и археологические «этномаркеры» (полемические заметки)//Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2013. Вып.1. С.100-105
- Васильева А.В., Перескоков М.Л. Керамический комплекс поселения Косогоры 1: предварительное сообщение//Труды КАЭЭ. Пермь, 2008. Вып.5. С.130-133
- Васюткин С.М. Салиховский курганный могильник конца IV-V вв. в Башкирии//Сов. археология. 1986. №2. С. 180-197
- Генинг В.Ф. Могильник Качка//Отчеты К(В)АЭ. М., 1959а. Вып.1. С. 196-209
- Генинг В.Ф. Опутятское городище -металлургический центр харинского времени в Прикамье//Памятники эпохи средневековья в Верхнем Прикамье. Ижевск, 1980. С.92-135
- Генинг В.Ф. Осинское городище//Отчеты К(В)АЭ. М., 19596. Вып.1. С.164-195
- Генинг В.Ф. Очерк этнических культур Прикамья в эпоху железа//Тр. Казан, филиала АН СССР. Сер. гума-нит. наук. Казань, 1959в. Вып.2. С. 157-219
- Генинг В.Ф. Тураевский могильник V в. (захоронение военачальников)//Из археологии Волго-Камья. Казань, 1976. С.55-109
- Голдина Р.Д. Исследование курганной части Бродовского могильника//Приуралье в древности и средние века. Устинов, 1986. С.47-98
- Голдина Р.Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск, 1985. 280 с
- Казаков Е.Л. Об этнокультурной ситуации в Урало-Поволжье эпохи средневековья//Пермские финны: археологические культуры и этносы. Сыктывкар, 2007. С. 140-144
- Казанцева О.А. Каталог археологических памятников Бардымского района Пермской области. Ижевск, 2004. 176 с
- Казанцева О.А. Красноярский могильник//Новые археологические памятники Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1988. С.43-64
- Казанцева О.А. Некоторые итоги изучения керамики Кудашевского могильника (IV-V вв.)//XVII Урал, археол. совещание: матер, науч. конф. (Екатеринбург, 19-22 ноября 2007 г.). Екатеринбург, 2007. С.253-256
- Коренюк С.Н., Мельничук А.Ф., Перескоков М.Л. Гляденовская культура и «угорская концепция» в археологии раннего железного века Пермского Приуралья//Историко-культурное наследие -ресурс формирования социально-исторической памяти гражданского общества (XIV Бадеровские чтения): матер, всерос. науч.-практ. конф. Ижевск, 2013. С.85-89
- Коренюк С.П., Мельничук А.Ф., Перескоков М.Л. Шнуровой орнамент как этнический индикатор в культурах раннего железного века Среднего Приуралья//Пермские финны и угры Урала в эпоху железа: Тр. КАЭЭ. Пермь, 2009. Вып.6. С. 109-117
- Коренюк С.П., Перескоков М.Л. К вопросу об этнокультурной ситуации в Прикамье в середине I тыс. н.э.//Исследования по средневековой археологии Евразии. Казань, 2012. С.133-141
- Коренюк С.П., Перескоков М.Л. Позднегляденовский комплекс Заюрчимского VI поселения//Регионы России: экономика, культура, история (матер, междунар. науч.-практ. конф.). Березники, 2009. С.419-426
- Крыласова Н.Б. Маркирующие элементы материальной культуры угров эпохи средневековья//Пермские финны: археологические культуры и этносы. Сыктывкар, 2007. С. 166-172
- Лепихин А.Н. Костища гляденовской культуры в Среднем и Верхнем Прикамье. Березники, 2007. 224 с
- Лепихин А.Н., Мельничук А.Ф. Костище Слепушка на р. Сылве -жертвенное место поздней стадии развития гляденовской культуры//Исследования по археологии и истории Урала. Пермь, 1998
- Мельничук А.Ф., Корчагин П.А., Перескоков М.Л. Исследования селища Нижняя Курья-1б в Кировском районе г. Перми//Регионы России: экономика, культура, история (матер, междунар. науч.-практ. конф. Березники, 2009. С.409-418
- Мельничук А.Ф., Перескоков М.Л. Средневековая керамика нижнеобского облика на памятниках Северного Прикамья//Вестник Томского государственного университета. Сер.: История. 2013. №3(23). С.249-253
- Мельничук А.Ф., Соболева Н.В. Селище Пеньки -памятник харинского времени на р. Чусовой//Приуралье в древности и средние века. Устинов, 1986. С.99-109
- Мингалев В.В. Керамика Чазевского I могильника//Пермские финны и угры Урала в эпоху железа: Тр. КАЭЭ. Пермь, 2009. Вып.6. С.125-133
- Норицын А.А. Керамический комплекс Мокинского могильника//Обл. студ. науч. конф. Пермь, 1992. С. 15-17
- Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного века (первая половина -середина I тыс. н.э.): автореф. дис.... канд. ист. наук. Казань, 2013
- Перескоков М.Л. Территория и локальные варианты позднего этапа гляденовской культуры в Пермском Прикамье//Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2013. Вып. 1 (21). С.58-66
- Перескоков М.Л., Павлова А.О. Посуда Бутырского городища в контексте керамических комплексов финала раннего железного века Пермского Прикамья//Археол. наследие как отражение ист. опыта взаимодействия человека, природы, общества (XII Бадеровские чтения). Ижевск, 2010. С.224-229
- Поляков Ю.А. Гляденовская культура//Археология и этнография Среднего Приуралья. Березники, 2001а. Вып.1. С. 10-19
- Поляков Ю.А. Гляденовская культура в Верхнем и Среднем Прикамье (III в. до н.э. -середина VI в. н.э.): дис.... канд. ист. наук. Пермь, 1978//Архив КАЭ Перм. гос. ун-та
- Поляков Ю.А. Итоги изучения памятников гляденовской культуры в Верхнем и Среднем Прикамье//Учен, зап. Перм. гос. ун-та. Вып. 148. 1967. С.197-215
- Поляков Ю.А. Керамика гляденовской культуры//Finno-Ugrica. 1999. №1. С.4-10
- Поляков Ю.А. Коновалятское селище//Учен. зап. Перм. гос. ун-та. 1960. Т. 12, вып.1. С.207-218
- Поляков Ю.А. Махонинское городище//Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1962. Вып.2. С.90-94
- Поляков Ю.А. Пещерское городище//Археология и этнография Среднего Приуралья. Березники, 20016. Вып.1. С.20-36
- Соколова П.Е. Керамика Мокинского поселения и могильника//Обл. отчет, студ. науч. конф. Пермь, 1989. С. 19-20
- Чурилов Э.В. Комплекс керамики типа Федотовского городища на поселении Половинное I//Обл. студ. науч. конф. Пермь, 1992