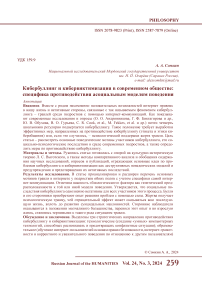Кибербуллинг и кибервиктимизация в современном обществе: специфика противодействия асоциальным моделям поведения
Автор: Сомкин А.А.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Вместе с рядом несомненно положительных возможностей интернет привнес в нашу жизнь и негативные стороны, связанные с так называемым феноменом кибербуллинга - травлей среди подростков с помощью интернет-коммуникаций. Как показывают современные исследования и опросы (О. О. Андронникова, Г. Ф. Биктагирова и др., Ю. В. Обухова, В. О. Гурьева, C. R. Cook, et al., M. Fekkes, et al. и др.) почти четверть школьников регулярно подвергается кибербуллингу. Такое положение требует выработки эффективных мер, направленных на противодействие кибербуллингу (этикета и этики киберобщения) или, если это случилось, - психологической поддержки жертв травли. Цель статьи - рассмотреть основные поведенческие мотивы участников кибербуллинга, его социально-психологические последствия в среде современных подростков, а также определить меры по противодействию кибербуллингу.
Кибербуллинг, кибервиктимизация, подростки, школа, общество, интернет-коммуникация, безопасность, жертва, психологическая травма
Короткий адрес: https://sciup.org/147244430
IDR: 147244430 | УДК: 159.9
Текст научной статьи Кибербуллинг и кибервиктимизация в современном обществе: специфика противодействия асоциальным моделям поведения
В настоящее время проблема онлайн-преступлений и агрессивно-деструктивного поведения набирает обороты и в отдельные моменты, связанные с кризисными явлениями в социуме, просто захлестывает интернет-сообщество. В предыдущей своей статье [7] мы давали подробный обзор научной литературы по данной проблеме, останавливались на важности осознания участниками интернет-коммуникации всех рисков, проистекающих из-за отсутствия конфиденциальности и открытого доступа к персональным данным, предоставляющих широкие возможности для разного рода злоупотреблений открытой информацией как взрослыми, так и подростками (последние из-за юного возраста и отсутствия достаточного опыта входят в отдельную группу риска).
Результаты научно-исследовательской и реабилитационной работы с подростками, интервью и опросы [данные приводятся по: 4, с. 275] вполне убедительно подтверждают тезис о том, что кибербуллинг превратился во вполне приемлемый способ межличностной коммуникации среди молодежи. Таким образом, при повсеместном использовании в настоящее время интернета и постоянно возрастающей социальной активности в виртуальном пространстве остро встает проблема регулирования информационных потоков Сети и обеспечения безопасности пользователей, создания этики цифровой среды (netiquette и nethics) и киберобщения, формирования толерантных моделей поведения.
Методологические основы исследования Методологической основой исследования послужила культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Основная идея его теории заключается в том, что высшие психические функции у ребенка формируются в процессе его активного включения в систему социальных связей. Он полагал, что ключевая ошибка общепринятых подходов к интерпретации наблюдаемых фактов о проявлениях человеческой психики состоит «в неумении взглянуть на эти факты как на факты исторического развития, в одностороннем рассматривании их как натуральных процессов и образований, в смешении и неразличении природного и культурного, естественного и исторического, биологического и социального в психическом развитии ребенка, короче - в неправильном принципиальном понимании природы изучаемых явлений» [3, с. 3] (курсив наш. – А. С .). Л. С. Выготский показал, что личность - это уникальная совокупность психических функций индивида, составляющих его сознание. Он относил их к высшему уровню психических функций, отсутствующих в животном мире и формирующихся исключительно в ходе социального взаимодействия, проходя периоды кризисов и стабильности.
В практической части работа опирается на результаты широкомасштабных исследований (опросов и анкетирований) проведенных в работах как отечественных, так и зарубежных авторов и их теоретический анализ [1; 2; 4; 11; 14 и др.].
Обсуждение
Индивидуально-психологические особенности участников кибербуллинга, социальный контекст и последствия
Предварительно еще раз остановимся на терминологической стороне вопроса. Ранее мы определили кибербуллинг как «вид травли, основанный на преднамеренных, психологически агрессивных и систематически повторяющихся действиях, как правило, анонимно осуществляемых индивидом (булли) или группой (булли и его сторонниками) с использованием информационно-коммуникационных технологий и направленных на достижение значимых негативных социально-психологических последствий для жертвы. Техническая сторона кибербуллинга включает использование всего спектра ИКТ: от ММС- и СМС-сообщений, e-mail и веб-страниц до социальных сетей, видео-хостингов, блогов, форумов и чатов и даже онлайн-игр» [7, с. 85].
Парной категорией кибербуллинга выступает понятие виктимизации, обобщенно трактуемой как «событие насилия или опыт переживания насилия, а также как процесс превращения лица в жертву преступного посягательства, и как результат функционального воздействия преступности в целом на жертв, членов их семей, социальные группы и общности» [подробнее см.: 2, с. 10].
Виктимность может быть рассмотрена как атрибут психологической организации социальной группы и трактоваться следующим образом: 1) неотъемлемое диспо-зиционное свойство каждого индивида; 2) устойчивый комплекс индивидуальных поведенческих паттернов; 3) способ конструирования межличностного взаимодействия; 4) как социально-культурная модель поведения.
Поскольку формирование представлений о социальном окружении и роли и статусе своего Я строится на основе цен- ностных установок, виктимная личность конструирует социальные связи с позиции предопределенной враждебности внешнего мира и собственной слабости и неспособности этому противостоять [1].
«Виктимное поведение в Глобальной сети Интернет – это системное и динамичное свойство личности, проявляющееся в форме ее социального, биологического, психологического и морального деформационного отклонения, закрепленного в неосторожных, импульсивных, провоцирующих формах поведения, не соответствующего нормам безопасности и обусловливающего потенциальную или реальную предрасположенность субъекта становиться жертвой преступлений в Глобальной сети Интернет» [2, с. 26].
Среди основных лейтмотивов травли и соответствующих им психологических портретов булли в интернете как у мальчиков, так и у девочек можно выделить основные, к которым относятся:
-
а) потребность в доминировании и власти (например, престиж и высокий социальный статус среди сверстников и т. д.);
-
б) материальное вознаграждение (например, отъем силой у жертвы денег, сигарет, личных вещей/имущества и т. д.);
-
в) психологическое удовольствие от причинения страданий или вреда другим людям (этакий маленький «Доктор Зло») [15, p. 69].
Кроме доминирования и проявления превосходства, часто встречаются и такие мотивы:
-
а) развлечение, когда мотив как таковой отсутствует, а подросток занимается кибербуллингом «просто так», ради развлечения или из-за вредного характера («дрянной ребенок»);
-
б) месть (как правило, ответная, т. е. справедливая, за то, что сам попал в ситуацию травли («мстящий ангел»);
ГУМАНИТАРИЙ : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования
-
в) непреднамеренный кибербуллинг (когда вовлечение в буллинг происходит по инерции вслед за ключевыми участниками травли по принципу «делай как все» в своей группе) [14, p. 61].
Данный базовый перечень может быть расширен за счет специфики интернет-коммуникации. Сюда можно отнести следующие дополнительные мотивы, способствующие инициации данного процесса и усиливающие эффект травли:
-
а) осознание обидчиком анонимности и, как следствие, безнаказанности распространения любой (в том числе негативной) информации;
-
б) осознание обидчиком возможности спровоцировать гипертрофированную аффективную реакцию жертвы посредством вовлечения множества свидетелей из референтного для жертвы сообщества.
Таким образом, главной целью кибербуллинга является ухудшение эмоционального состояния жертвы, подавление и/или разрушение ее социальных отношений.
Кроме того, немаловажную роль играет и «биологический» фактор. К сожалению, гены в значительной мере определяют склонность подростка к буллингу. Так, С. М. Спэйн, П. Хармс и Дж. М. Лебретон [16] указывают на так называемую темную триаду – особенные черты личности (психопатия, макиавеллизм и нарциссизм), которые лежат в основе агрессивного поведения. Согласно современным исследованиям, в каждом ребенке есть некая генетическая предрасположенность к тому или иному типу поведения, т. е. готовность стать булли или, наоборот, его жертвой [9]. При этом, безусловно, недопустимо абсолютизировать данный аспект. Генетическая предрасположенность вовсе не означает, что индивид «обречен» лишь на заданные генетически модели социального поведения и на нем можно «ставить крест». От- нюдь нет. Скорее, учет данного фактора может помочь понять, что генетические задатки способны влиять на формирование индивидуальных особенностей каждого ребенка и определять степень вероятности его попадания в категорию «булли» или «жертв».
Как правило, жертвами кибербуллинга становятся те же дети, которых отвергают и травят в жизни:
-
а) подростки с ограниченными физическими способностями (из-за слабого здоровья, отличий во внешности, страдающие нарушениями веса, диабетом, эпилепсией, другими хроническими заболеваниями и т. п.) [12];
-
б) подростки с индивидуально-психологическими особенностями (как правило, сюда можно отнести такие личностные и поведенческие характеристики, как повышенная сензитивность, тревожность, низкая самооценка, замкнутость и низкая социальная коммуникабельность (как следствие, мало друзей с предпочтением круга взрослых), синдром дефицита внимания, гиперактивность, различные расстройства аутистического спектра, излишние «феминность» и «маскулинность» в поведении и внешнем виде соответственно мальчиков и девочек, связанные с переходным возрастом [11] и т. д.
Часть из этих особенностей могут быть и следствием травмы, и ее предпосылками, сигнализирующими другим детям о том, что данного ребенка можно выбрать своей целью [13].
Помимо индивидуально-личностных характеристик участников травли, большое значение в возникновении ситуации кибербуллинга имеет социальный контекст. В своей работе исследователи К. И. Юрова и И. А. Юров приходят к выводу, что в формировании виктимных поведенческих паттернов значимую роль играют «факторы семейного и школьного воспитания, такие как:
-
1) высокий уровень требований и ожиданий семьи и школы к ребенку; 2) перенапряжение ребенка (многофункциональная нагрузка (школа, музыка, спорт, студии, языки)); 3) воспитание ребенка как “сверхценности” (“ты должен достичь того, чего достигли или хотели достичь мы”); 4) воспитание по типу гиперсоциализации (ребенок сам по себе – полная свобода) или гипосоциализации (ребенок полностью огражден от реалий современной жизни)» [8, c. 23].
В научной литературе предложены пять типов адаптации подростков к буллингу: «активное сопротивление (ориентация на поддержку и постоянные попытки самостоятельно договориться с булли), пассивное сопротивление (от плача и истерики с попытками самозащиты в случае физического насилия до реакций усиления заикания, невротических тиков и т. д.), отказ от сопротивления (восприятие ситуации как «потенциально неразрешимой» – такие подростки имеют низкую самооценку, не видят свои сильные стороны личности, пессимистично воспринимают окружающую действительность, переживают чувство беспомощности или же отрицание факта жестокого обращения); бегство от жестокого обращения (избегание любых контактов и мест, связанных с буллингом), псевдоактивное сопротивление (провоцирование новых ситуаций буллинга, излишние конфликтность и агрессивность)» [Цит. по: 5, с. 122].
Последствия для всех участников ситуации (жертвы, обидчика, свидетелей) негативны. Поскольку интернет для подростков выступает одновременно пространством и для коммуникации, и для социализации, ситуация травли может восприниматься как непреодолимый барьер для выстраивания отношений, личностного развития и самореализации.
Кроме того, школьники, подвергшиеся буллингу, испытывают сложности и с успеваемостью, и со здоровьем. В среднем у них в 3 раза чаще по сравнению со сверстниками диагностируются симптомы тревожно-депрессивных расстройств, повышение эмоциональной неустойчивости, апатия, головные боли и даже суицидальные наклонности. Их представления об окружающем мире наполнены избыточной тревожностью и опасениями, а себя они видят в нем беспомощными и неспособными изменить ход вещей.
У булли отмечается стремление к доминированию и психологическая готовность применять насилие. Они с трудом способны следовать общепринятым нормам поведения, легко испытывают фрустрацию, часто проявляют полное отсутствие к чужим страданиям, грубы и агрессивны в общении со взрослыми; готовы провоцировать агрессию и отвечать на агрессивное поведение по отношению к себе [10]. Со стороны может показаться, что такие подростки – одиночки с дефицитом социальных навыков. Тем не менее это далеко не так. Они менее склонны к депрессивным состояниям, редко испытывают чувство одиночества и тревоги по сравнению со сверстниками и часто занимают высокое положение в детской статусной иерархии. Они хорошо умеют распознавать психоэмоциональные состояния других людей и имеют хотя бы маленькую группу сторонников, которой, как правило, успешно манипулируют [17]. Это, кстати, хорошо продемонстрировано в голливудских молодежных фильмах о подростках и школьной жизни.
Заключение
Стратегии противодействия кибербуллингу
Современные стратегии противодействия кибербуллингу развиваются в двух ключевых направлениях:
-
а) техническом – развитие технических средств и программного обеспечения, цен-
- зурирующих интернет-коммуникацию посредством различных фильтров, настроек конфиденциальности персональных аккаунтов и т. д.;
-
б) образовательном – обучение основам безопасности и интернет-грамотности пользователей через создание и продвижение специализированных веб-сайтов: NetSmartz, i-SAFE Inc., iKeepSafe Internet Safety, и др.; в России – такие сайты, как Kids online ( http://detionline.com/helpline/ rules/parents), Friendly Runet Foundation ( http://www.friendlyrunet.ru/safety/66/index . phtml) и др.
Однако все эти рекомендации сосредоточены главным образом на технических аспектах проблемы. Социально-психологическая же сторона кибербуллинга – внутренние переживания, душевные травмы жертвы, поведение агрессора, практика и профилактика работы с ними – в таких рекомендациях попросту не раскрывается.
Анализируя кибербуллинг в качестве общественно негативного феномена в ситуации отсутствия «реальных» отношений между обидчиком и жертвой, необходимо выделить два магистральных направления профилактической работы:
-
а) на индивидуальном уровне главной целью социально-психологической работы со школьниками должны становиться умения отстаивать личные границы;
-
б) на социальном уровне требуется изменение качества отношений внутри интер-нет-сообщества – отказ от насилия и агрессии и формирование ценности взаимного уважения, сотрудничества и подлинного диалога [6, p. 9].
Поэтому, на наш взгляд, важнейшая сторона вопроса по предотвращению кибербуллинга (впрочем, как и его традиционных форм) – степень сформированности социальных связей. И это уже камень в огород взрослых. Насколько взрослое окружение (главным образом, родители и учителя)
участвует в жизни подростков, насколько между ними доверительные (дружеские) отношения. Важную роль здесь играет и общественное отношение к данному явлению, общественное порицание или, наоборот, замалчивание и попытки не замечать проблему в надежде, что все разрешится само собой.
Очевидно, что успешное противодействие подобным формам негативного социального поведения предполагают объединение усилий на уровне малых и больших социальных групп, совместно формирующих безопасную среду как в школе, так и вне ее.
Что касается подростков, важно, чтобы они как минимум усвоили, что отправлять сообщения и электронные письма можно только с тем содержанием, которые можно сказать при личном общении. С точки зрения общепринятых цивилизованных норм недопустимо, а с точки зрения закона – наказуемо пользоваться анонимностью для того, чтобы использовать интернет-пло-щадки как средство нападок или обмана других людей.
Всем важно помнить, что, столкнувшись с агрессивным поведением в свой адрес в Сети, лучший способ избежать эскалации конфликта – просто прекратить общение или даже покинуть данный ресурс. Чтобы отбить у киберагрессора желание заниматься травлей, нужно ответить ему полным игнорированием. Не стоит обращать внимание на оскорбительные сообщения от неизвестных и пытаться доказать свою правоту. Ведь главная цель таких посланий – вызвать ответную агрессивную реакцию и спровоцировать конфликт.
Кроме того, нужно помнить, что закон на стороне потерпевшего и что виртуальная сфера также подпадает под его регулирование. Поэтому не нужно бояться обращаться в соответствующие инстанции для своей защиты. Агрессивные действия могут быть уголовно наказуемы, а обращение в правоохранительные органы развеет у любите лей кибербуллинга иллюзию безнаказанности своих действий в сети Интернет.
Список литературы Кибербуллинг и кибервиктимизация в современном обществе: специфика противодействия асоциальным моделям поведения
- Андронникова О. О. Виктимное поведение подростков: факторы возникновения и профилактика: моногр. Новосибирск: Изд-во НГИ, 2005. 300 с.
- Биктагирова Г. Ф., Валеева Р. А., Дроздикова-Зарипова А. Р., Кулацкая Н. Н., Костюнина Н. Ю. Профилактика и коррекция виктимного поведения студенческой молодежи в Глобальной сети Интернет: теория, практика. Казань: Отечество, 2019. 320 с.
- Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений: в 6 т. М., 2012. Т. 3. 369 с.
- Дейнека О. С., Духанина Л. Н., Максименко А. А. Кибербуллинг и виктимизация: обзор зарубежных публикаций // Перспективы науки и образования. 2020. № 5. С. 273–292. DOI: 10.32744/pse.2020.5.19.
- Обухова Ю. В., Гурьева В. О. Образ сверстника – жертвы буллинга у школьников с разной выраженностью виктимного поведения // Российский психологический журнал. 2017. Т. 14, № 2. С. 118–134.
- Сомкин А. А. Личностно ориентированный подход в системе современного гуманитарного образования: от монологизма к диалогической модели обучения // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 3. С. 9–28. DOI: 10.17853/1994-5639-2019-3-9-28.
- Сомкин А. А. Кибербуллинг в современном обществе: основные признаки и разновидности // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2024. Т. 24, № 1. С. 80–90. DOI: 10.15507/2078-9823.065.024.202401.080-090.
- Юрова К. И., Юров И. А. Психология виктимного поведения молодежи // Виктимология. 2017. 1. С. 23–26.
- Ball H., Arseneault L., Taylor A., Maughan B., Caspi A., Moffit T. E. Genetic and environmental influences on victims, bullies and bully-victims in childhood // Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 2008. Vol. 49, issue 1. P. 104–112.
- Camodeca M., Goossens F. A. Aggression, social cognitions, anger and sadness in bullies and victims // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2005. Vol. 46. P. 186–197.
- Cook C. R., Williams K. R., Guerra N. G., Kim T. E., Sadek S. Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence: A meta-analytic investigation // School Psychology Quarterly. 2010. Vol. 25. P. 65–83.
- Dawkins J. L. Bullying, physical disability, and the pediatric patient // Developmental Medicine and Child Neurology. 1996. Vol. 38. P. 603–612.
- Fekkes M., Pijpers F. I. M., Fredriks A. M., Vogels T., Verloove-VanHorick S. P. Do bullied children get ill, or do ill children get bullied? A prospective cohort study on the relationship between bullying and gealthrelated symptoms // Pediatrics. 2006. Vol. 117. P. 1568–1574.
- Kowalski R. M., Limber S. P., Agatston P. W. Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2008. 218 p.
- Lopes B., Yu H. Who do you troll and Why: An investigation into the relationship between the Dark Triad Personalities and online trolling behaviours towards popular and less popular Facebook profiles // Computers in Human Behavior. 2017. Vol. 77. P. 69–76.
- Spain S. M., Harms P., Lebreton J. M. The dark side of personality at work // Journal of Organizational Behavior. 2014. Vol. 35. P. 41–60.
- Sutton J., Smith P. K., Swettenham J. Social cognition and bullying: Social inadequacy or skilled manipulation? // British Journal of Developmental Psychology. 1999. Vol. 17. P. 435–450.