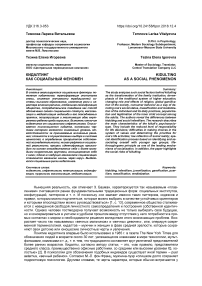Кидалтинг как социальный феномен
Автор: Темнова Лариса Витальевна, Тезина Елена Игоревна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются социальные факторы появления кидалтинга: трансформация института семьи, снижение значимости традиционной системы высшего образования, изменение роли и характера влияния религии, глобальная геймификация общества, потребительское поведение как способ обозначения своего социального статуса, массовизация и медиатизация индивида и его повседневных практик, популяризация и легитимация идеи внутреннего ребенка среди взрослых. Выявлены отличия кидалтинга от социального инфантилизма. Описывается психосоциотип кидалта, основными чертами которого являются сниженный уровень ответственности за принимаемые жизненные решения; сложности в осуществлении выбора в системе ценностей, в определении приоритетов собственной жизнедеятельности; низкая рефлексия социальной реальности; процесс идентификации происходит на основе отождествления себя с более молодыми возрастными группами, ассоциирования себя с ними; одним из ведущих механизмов социализации становится механизм «жизнь через игру». Выделяются социальные риски кидалтинга.
Кидалтинг, инфантилизм, ювенилизация, геймификация, пуэрилизм, массовизация, медиатизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149132718
IDR: 149132718 | УДК: 316.3-053 | DOI: 10.24158/tipor.2018.12.4
Текст научной статьи Кидалтинг как социальный феномен
Нынешняя реальность, как отмечает З. Бауман, характеризуется так называемым «плавлением» считавшихся ранее фундаментальными традиционных форм: социальных институтов, конфигураций, паттернов и т. п. И поскольку «не хватает именно таких паттернов, кодексов и правил, которым можно подчиняться, которые можно выбрать в качестве устойчивых ориентиров и которыми впоследствии можно руководствоваться» [1, с. 13], современное общество сталкивается с невиданной свободой личностного самоопределения и построения собственной идентичности. Однако человек постмодерна получает возможность не только выбирать свое будущее, но и консервироваться в уютном и удобном прошлом ввиду отсутствия у него потребности в прямых контактах с миром и необходимости решения вследствие этого возникающих проблем. Возрастает число так называемых «вечных мальчиков» и «вечных девочек», или, оперируя современной терминологией, кидалтов – мужчин и женщин в фазе средней зрелости, которые сохраняют свои детские или юношеские личностные черты и увлечения.
Понятие кидалтинга впервые было использовано в 1985 г. в газете The New York Times для обозначения людей в возрасте около 30 лет, увлекающихся новинками в мире технологии, мультфильмами, комиксами и т. д., т. е. тем, что традиционно составляет круг увлечений представителей более ранних возрастов. Кидалты, согласно автору статьи, – это, «как правило, представители среднего класса, преимущественно офисные работники, со средним или высоким уровнем IQ, холостые» [2]. В психологии для обозначения подобных индивидов существует иной термин – puer aeternus, «вечный ребенок». Согласно М.-Л. фон Франц, мужчина-пуэр «слишком долго сохраняет подростковую психологию. Другими словами, те черты характера, которые обычно встречаются у
17–18-летних юношей, наблюдаются и у взрослого пуэра» [3, с. 7–8]. Такие люди также могут обнаруживать несколько высокомерное отношение в адрес других людей, что обусловливается определенным чувством собственной неполноценности, тягу к экстремальным видам спорта и несколько иллюзорное отношение к собственной жизни и будущему, которое реализуется посредством установки «мое время еще не пришло». Вместе с тем они легко идут на контакт с другими; «многим из них присуще очарование молодости и волнующая притягательность, действующая на людей подобно глотку шампанского» [4].
Тем не менее необходимо подчеркнуть, что, в отличие от инфантилизма, кидалтинг представляет собой не отклоняющееся поведение, но, скорее, стиль жизни, идеологию, добровольно выбираемую человеком. По мнению В.А. Хриптовича, крайне сложно с первого взгляда понять, что человек является кидалтом. Для многих подобных индивидов юношеские и детские увлечения являются своего рода психологической разрядкой. Одновременно с этим человек может вполне адекватно реализовывать роль взрослого и принимать на себя всю сопутствующую ответственность. Как пишет автор, до тех пор «пока он не тратит последние деньги на фигурку Железного Человека вместо того, чтобы заплатить за квартиру, беспокоиться не о чем» [5, с. 209].
Впрочем, среди кидалтов есть и такие, которые предпочитают жить сегодняшним днем, менять работу и увлечения в погоне за новыми, острыми ощущениями и не связывать себя никакими обязательствами, в том числе по недвижимости. Несмотря на отсутствие острого желания в приобретении собственного жилья, в качестве одной из значимых для кидалта ценностей стоит назвать наличие индивидуальной территории и личного пространства. По словам М.А. Манокина, кидалт, ввиду ощущения тревоги при столкновении с внешним миром, нуждается в собственном убежище, месте, где он может оставаться собой, не будучи осужденным обществом. Именно поэтому «новые взрослые» стремятся после какого-то времени вернуться в отчий дом не потому, что родителям нужна помощь, но, скорее, потому, что семья представляет собой безопасную в эмоциональном плане нишу. «Постепенное вымывание ориентиров взрослой идентичности разочаровывает молодых в их стремлении перейти на следующую жизненную ступень» [6].
Однако роль подобной «крепости» необязательно играет родительский дом или собственная квартира: эту функцию может исполнять клуб по интересам или дом друга. Наличие и отстаивание суверенности территории позволяет кидалту реализовывать еще одну важную ценность – ценность свободы и индивидуализма, которая «заключается также в защите собственного статуса и наименования» и «проявляется в негативных или ироничных реакциях на оценку своих действий» [7].
При этом необходимо отметить, что распространение кидалтинга также обусловлено образами, активно насаждаемыми со стороны массмедиа. Как пишет Дж. Бернардини [8], современные взрослые выбирают путь так называемой осознанной незрелости, т. е. осознанного ухода от полагающейся ответственности, анахронической модели жизни. Взрослость как категория превращается из модели поведения в недостижимый идеал, а новые поведенческие паттерны не только поддерживаются «взрослыми детьми», но и принимаются социальными институтами. Феномен ювенилизации прослеживается в нарастающей популярности мультипликационных фильмов и книг, изначально ориентированных на детскую и подростковую аудиторию (например, серия книг о Гарри Поттере, «Сумерки», сага «Властелин колец»), в увеличивающемся сбыте омолаживающей косметики, росте популярности процедур ботокс-инъекций и т. п.
Кидалт-потребитель встраивается в новую систему взаимоотношений с людьми и продуктами потребления. По мнению Дж. Бернардини, такой человек имеет тенденцию одеваться неформально, работать без дисциплины, заниматься любовью без цели к продолжению рода, покупать что-либо без определенной цели, жить без ответственности, мудрости или скромности. Современное общество дает человеку небывалую свободу выбора в определении собственной идентичности, однако при этом обременяет индивида идеей о том, что только он ответственен за ход своей собственной жизни. Такая свобода означает, что рано или поздно человеку придется отчитываться перед самим собой и обществом о своих успехах и выполненных делах. Это приводит к возрастающей тревоге, что, в свою очередь, толкает человека на «психологический побег» в юношество и детство, поскольку эти категории обладают более широким спектром возможностей самореализации, но в то же время не осложнены большой ответственностью.
Канадский социолог Дж. Коте подчеркивает, что грань между категориями взрослости и юношества в современном мире размыта, и проблемы, с которыми сталкивается современный взрослый человек, коренятся в отсутствии внешних направляющих, ранее способствовавших более четкому переходу из состояния юности в состояние взрослости. В связи с индустриализацией и индивидуализацией, размывшими критерии, по которым могла бы определяться степень взрослости индивида, социально зрелые личности не видят культурных паттернов, ограничивающих их выбор и управляющих их жизнями.
Социальные институты, равно как и общественные взаимоотношения, включая гендерные установки, межпоколенческие и межэтнические связи, подверглись значительной перестройке. К тому же семья и религия потеряли ту значимость в определении жизненного пути и поведения индивида, какую имели еще в начале прошлого столетия. Сегодня взрослый сталкивается с необходимостью принимать жизненно важные решения без какой-либо опоры и безотносительно к наличию или отсутствию внутренних ресурсов и возможностей для этого, что превращает современное поколение в поколение «растянутой юности» или «поколение, стоящее на паузе». Все это вкупе с отсутствием каких-либо ориентиров побуждает индивида к продлению собственной юности, увеличению периода невхождения в экономические или семейные связи и отрицанию взросления как такового, что определяется Дж. Коте как arrested adulthood – «скованная зрелость» [9].
Рассмотрим факторы формирования кидалтинга как социального явления. Первый фактор – трансформация института семьи. По словам В.П. Борисенкова и О.В. Гукаленко, сегодня семья «значительно отличается от традиционной семьи своей структурой: возросло число неполных семей, сократилось количество многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей» [10]. К тому же семья ввиду достаточно резкой смены моральных установок и ценностей, а также «утраты исторического самосознания, патриотизма, …смены духовных и нравственных интересов на материальные» [11] потеряла ведущую роль в процессе социализации. В результате этот социальный институт постепенно утрачивает регулятивные функции, а современные взрослые не спешат с узакониванием отношений и (или) не планируют детей, не желая брать на себя ответственность за свою семью.
Изменение роли и влияния религии в современном обществе также следует выделить как одну из причин развития феномена кидалтинга. По словам М.Х. Хаджарова, «глобализация по западным стандартам приводит к постепенному ослабеванию прежде прочных традиций жизни православных христиан и мусульман» [12, с. 146], поскольку в настоящее время довольно жесткие религиозные традиционные ценности вынуждены уживаться с более свободной организацией общества, которому сложно представить строгое подчинение ранее непререкаемым догматам.
Еще один фактор – снижение значимости традиционной системы высшего образования, одной из причин которого выступает процесс информатизации, позволяющий получить образование (новую профессию), не выходя из дома, с помощью онлайн-курсов, e-learning, системы открытого образования. Как отмечает А.М. Новиков, «образование просто не справилось с постоянно нарастающим потоком информации, оно лишилось базы в виде универсальной философии, позволяющей гармонизировать специализированные науки» [13, с. 116]. Человек все менее нуждается в авторитете, проводнике в мире информации и потому предпочитает учиться вне нормативной системы образования.
Следующий фактор – глобальная геймификация общества. Игра приобретает все новые функции в современном мире. Посредством игровой деятельности человек может получить новые знания, завести новые знакомства, развить социальные навыки, получить эмоциональную разрядку, чтобы впоследствии перенести достигнутые результаты в жизнь.
Однако у вышерассмотренного процесса есть и оборотная сторона. Социокультурные реалии современности, по мнению С.А. Соломатина, ввиду игрового характера постмодернизма, где развлечение возведено массовой культурой в самоцель, «требуют их рассмотрения через призму игровой концепции культуры» [14, с. 66] и вновь задаться вопросом о соотношении игры и серьезности в современном обществе. Пресыщение игрой как таковой, а также активное развитие новых технологий превратили общество постмодерна в избалованного ребенка.
Согласно представлениям Й. Хёйзинги, игра – неотъемлемый элемент развития человеческой цивилизации в целом, поскольку «живое существо, играя, следует врожденному инстинкту подражания. Или удовлетворяет потребность в разрядке. Или нуждается в упражнениях на пороге серьезной деятельности, которой потребует от него жизнь» [15, с. 21]. Игровой элемент проявляется практически во всех сферах человеческой деятельности: в культуре, спорте, общении. Однако необходимо помнить, что игра, в отличие от реальности, обособляется от внешнего мира тремя критериями: местом («протекает в заранее обозначенном игровом пространстве, материальном или мыслимом, преднамеренном или само собой разумеющемся»), временной протяженностью, замкнутостью, т. е. «ее течение и смысл заключены в ней самой» [16, с. 28]. В месте, где совершается игра, действуют свои особые правила, таким образом, получается, что игра сама устанавливает порядок, «она сама есть порядок» [17]. Такое свойство игры упорядочивать несуществующую реальность ведет к тому, что современные взрослые видят в игре более надежную опору, чем в иных, стремительно меняющихся социальных институтах. Они доверяются правилам игры, в которую превращают всю свою жизнь, попутно придумывая их и самоактуализируясь посредством такой деятельности. Игра выступает гарантом устойчивости, поскольку она будет всегда и именно она вызывает в людях больше доверия.
Абсолютизация роли развлечений приводит к пуэрилизму – патологической ребячливости общества, «состоянию духа, свойственному подростку, не обузданному воспитанием, привычными формами и традицией» [18, с. 194], проявляющемуся в двух тенденциях. «С одной стороны, происходит инфантилизация взрослых; с другой – на фоне утраты ценностей и лишившихся доверия авторитетов четко обозначается ориентированность общества на молодое поколение, более того, своего рода заискивание перед ним» [19, с. 67].
Описанное перекликается со следующим фактором – популяризацией и легитимацией идеи внутреннего ребенка среди взрослых, а также социальными проектами, направленными на защиту и поддержку детства. Современное общество стирает границы и уже не предполагает такого жесткого категориального разделения понятий «детство» и «взрослость», в результате чего можно уже говорить либо о «взрослом детстве», либо о «раннем взрослении».
Потребительское поведение как способ обозначения своего социального статуса можно определить как следующий фактор кидалтинга. Кидалты, как правило, экономически независимы, их доход позволяет обеспечивать себя и удовлетворять свои досуговые потребности, связанные с потреблением детских продуктов: покупкой видеоигр, мультипликационных фильмов, аниме, манги, комиксов и игрушек. Подобную ювенилизацию общества можно рассматривать с позиции символического потребления, и тогда потребительское поведение кидалта становится не просто случайным удовлетворением возникших потребностей, но попыткой обозначить свой статус и свою принадлежность к группе, «кроме того, потребляемые предметы могут быть средством конкуренции между ювенилизированными индивидами» [20, с. 79].
Массовое производство подхватывает идею популяризации юношества и молодости и формирует новые образы, привлекательные для взрослых людей во всех аспектах: манере поведения, манере одеваться, общем телесном облике. Медиакоммуникации, и в частности реклама, развивают так называемую форму коллективной регрессии, которая обозначает необходимость сиюминутного удовлетворения возникающих потребностей и призывает людей брать от жизни, или, скорее, общества потребления, все, что они обещают дать. Таким образом, юность из возрастной категории превращается в объект, который всегда можно приобрести [21].
Эту же идею подчеркивает А.Р. Кожаринова, обозначая в качестве идеологической функции масскульта способность к созданию новых образцов поведения и постепенному вытеснению традиционных практик с помощью активного насаждения извне [22]. «Массовая культура является своеобразной сублимацией желаний, инстинктов, стремлений. …Индивид как бы перемещается в мир, предложенный ему массовым проектом, и лишь здесь он чувствует себя комфортно и безопасно, действительность же начинает восприниматься по законам массового зрелища» [23]. Таким образом, можно сказать, что происходят определенная массовизация и вместе с тем медиатизация не только самого индивида, но и его повседневных практик.
Помимо этого, медиапространство определенным образом опосредует процесс коммуникации между людьми. Происходит смещение акцента с реального, живого общения на виртуальное, лишающее агентов коммуникации необходимости реагировать здесь и сейчас, дающее человеку возможность сконструировать виртуальный образ-посредник, который будет служить своеобразным щитом.
Итак, новый социальный феномен – кидалтинг – отличается от социального инфантилизма тем, что кидалты самостоятельно избирают следование поведенческим паттернам предыдущих возрастных периодов (юношества и ранней зрелости) в качестве механизма социализации, новых социальных практик. Они не выключены из общественной жизни, однако отличаются иным, в силу собственной специфики и специфики изменившегося мира, способом актуализации личностных подструктур. Современная среда формирует новый психосоциотип, имеющий следующие характерные черты.
– Кидалты испытывают трудности в осуществлении жизнедеятельности внутри традиционных социальных институтов: семья предстает как нечто мешающее мобильности и гибкости, обременяющее ненужной ответственностью, религия также утрачивает значимость и фундаментальность, работа перестает быть ведущим видом деятельности. В итоге ранее действовавшие в обществе механизмы социализации оказываются неприменимы к кидалтам, невостребованны, не являются для них актуальными, жизнеспособными.
-
– Одним из ведущих механизмов социализации становится механизм «жизнь через игру».
-
– Процесс идентификации кидалтов происходит на основе отождествления себя с более молодыми возрастными группами и ассоциирования себя с ними с использованием практик са-мопрезентации и организации жизненного мира, характерных для этих возрастных групп.
-
– Постоянное пребывание в фантомном мире, позволяющее игнорировать существующие в реальности правила и нормы, нарушает формирование четких представлений об объективных причинно-следственных связях в социуме и о себе в социуме.
-
– Замыкаясь на себе самом, кидалт имеет низкую рефлексию социальной реальности, своих поступков, не стремится завязывать прочные и доверительные отношения с другими людьми.
-
– Кидалт испытывает сложности в осуществлении выбора в системе ценностей, в определении приоритетов собственной жизнедеятельности.
-
– У кидалта сниженный уровень ответственности за принимаемые жизненные решения.
Социальными рисками такого социального феномена, как кидалтинг, можно назвать юве-нилизацию общества, размывание границ между социальными группами юности и взрослости; возникновение довольно обширной прослойки людей, не желающих брать на себя ответственность, традиционно возлагаемую на граждан социальными институтами и обществом, что ведет к определенной стагнации в развитии социума; появление так называемого «ценностного зазора» ввиду неприятия кидалтами традиционных норм и ценностей взрослого человека и неспособностью предложить иные векторы и ориентиры развития.
Ссылки:
-
1. Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 240 с.
-
2. Хриптович В.А. Поколение инфантильных: обзор проблемы // Научные труды Республиканского института высшей школы. Минск, 2015. С. 206–213.
-
3. Франц М.-Л. Вечный юноша. Puer aeternus. М., 2009. 384 с.
-
4. Там же.
-
5. Хриптович В.А. Указ. соч. С. 209.
-
6. Ярская-Смирнова Е.Р., Карпова Г.Г., Ворона М.А. «Веселые, непонимающие и бессердечные?» О феномене Питера Пэна [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2008. № 6 (62). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2008/6/ia14-pr.html (дата обращения: 06.12.2018).
-
7. Манокин М.А. Ценности городской культуры «возвратившихся в детство» // Вестник Пермского государственного института искусства и культуры. 2012. № 13–14. С. 69–76.
-
8. Bernardini J. The Role of Marketing in the Infantilization of the Postmodern Adult [Электронный ресурс] // Fast Capitalism. 2013. URL: https://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/10_1/bernardini10_1.html (дата обращения: 06.12.2018).
-
9. Côté J.E. Arrested Adulthood: The Changing Nature of Maturity and Identity. N. Y., 2000. P. 30–35.
-
10. Борисенков В.П., Гукаленко О.В. Институт семьи и семейная политика в современной России: проблемы, тенденции
и перспективы [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 5 (24). URL: https://nau-kovedenie.ru/PDF/130PVN514.pdf (дата обращения: 06.12.2018).
-
11. Там же.
-
12. Хаджаров М.Х. Социология конфессионально-культурных отношений: толерантность как основа диалога религиозных сознаний // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 7 (126). С. 144–151.
-
13. Новиков А.М. Постиндустриальное общество – общество знаний // Высшее образование в России. 2008. № 3. С. 108–118.
-
14. Соломатин С.А. Игра и серьезность: к проблеме пуэрилизма современной культуры // Гуманитарные ведомости Томского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 2012. № 2. С. 66–69.
-
15. Хёйзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997. 416 с.
-
16. Там же. С. 28.
-
17. Там же.
-
18. Там же. С. 194.
-
19. Соломатин С.А. Указ. соч.
-
20. Манокин М.А. Ювенилизация современного общества: культурологические аспекты // Общество. Среда. Развитие. Terra Humana. 2012. № 3 (24). С. 77–81.
-
21. Bernardini J. Op. cit.
-
22. Кожаринова А.Р. Анализ социального потенциала современной массовой культуры [Электронный ресурс] // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2014. № 10. С. 31–43. URL:
-
23. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. стер. М., 2016. 352 с.
(дата обращения: 06.12.2018).
Список литературы Кидалтинг как социальный феномен
- Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 240 с.
- Хриптович В.А. Поколение инфантильных: обзор проблемы // Научные труды Республиканского института высшей школы. Минск, 2015. С. 206-213.
- Франц М.-Л. Вечный юноша. Puer aeternus. М., 2009. 384 с.
- Ярская-Смирнова Е.Р., Карпова Г.Г., Ворона М.А. «Веселые, непонимающие и бессердечные?» О феномене Питера Пэна [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2008. № 6 (62). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2008/6/ia14-pr.html (дата обращения: 06.12.2018).
- Манокин М.А. Ценности городской культуры «возвратившихся в детство» // Вестник Пермского государственного института искусства и культуры. 2012. № 13-14. С. 69-76.
- Bernardini J. The Role of Marketing in the Infantilization of the Postmodern Adult [Электронный ресурс] // Fast Capitalism. 2013. URL: https://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/10_1/bernardini10_1.html (дата обращения: 06.12.2018).
- Côté J.E. Arrested Adulthood: The Changing Nature of Maturity and Identity. N. Y., 2000. P. 30-35.
- Борисенков В.П., Гукаленко О.В. Институт семьи и семейная политика в современной России: проблемы, тенденции и перспективы [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 5 (24). URL: https://naukovedenie.ru/PDF/130PVN514.pdf (дата обращения: 06.12.2018).
- Хаджаров М.Х. Социология конфессионально-культурных отношений: толерантность как основа диалога религиозных сознаний // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 7 (126). С. 144-151.
- Новиков А.М. Постиндустриальное общество - общество знаний // Высшее образование в России. 2008. № 3. С. 108-118.
- Соломатин С.А. Игра и серьезность: к проблеме пуэрилизма современной культуры // Гуманитарные ведомости Томского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 2012. № 2. С. 66-69.
- Хёйзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997. 416 с.
- Манокин М.А. Ювенилизация современного общества: культурологические аспекты // Общество. Среда. Развитие. Terra Humana. 2012. № 3 (24). С. 77-81.
- Кожаринова А.Р. Анализ социального потенциала современной массовой культуры [Электронный ресурс] // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2014. № 10. С. 31-43. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/nauch_trudy/2014/Scholarly-works-10-2014.pdf#page=31 (дата обращения: 06.12.2018).
- Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. стер. М., 2016. 352 с.