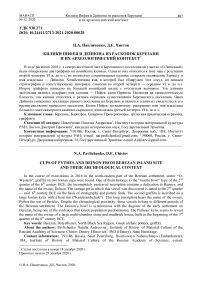Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст
Автор: Павличенко Н.А., Чистов Д.Е.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Эпиграфика
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В ходе раскопок 2016 г. в северо-восточной части Березанского поселения на участке «О-Западный» были обнаружены два граффити на ионийских киликах. Один из них относится к типу чаш с розетками второй четверти VI в. до н.э.; не полностью сохранившаяся надпись содержит посвящение Гермесу и имя владельца - Дейнона. Хозяйственная яма, в которой был обнаружен этот сосуд, по данным стратиграфии и сопутствующему материалу отнесена ко второй четверти - середине VI в. до н.э. Второе граффито нанесено на большой ионийский килик с отогнутым венчиком. Эта длинная застольная надпись содержит имя хозяина - Пифея, сына Перикла. Несмотря на хронологическую близость, эти килики относятся к разным периодам существования Березанского поселения. Чаша Дейнона синхронна землянкам раннего поселения на Березани и является одним из свидетельств его преимущественно греческого населения. Килик Пифея, по-видимому, раскрывает нам имя владельца большого многокамерного каменно-сырцового дома начала третьей четверти VI в. до н.э.
Березань, борисфен, северное причерноморье, греческая архаическая керамика, граффити
Короткий адрес: https://sciup.org/14118263
IDR: 14118263 | УДК: 930.271 | DOI: 10.24411/2713-2021-2020-00028
Текст научной статьи Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст
В ходе раскопок 2016 г. в северо-восточной части Березанского поселения на участке «О-Западный» были обнаружены два граффити на ионийских киликах (рис. 1). Сразу же после полевого сезона С.Р. Тохтасьев планировал посвятить этим находкам отдельную публикацию, но, к сожалению, успел сделать только доклад1 (далее — Тохтасьев 2017). После того как фотографии граффити были опубликованы в петербургском журнале «Hyperboreus» (Chistov 2019: 102—103), они привлекли внимание исследователей. В.П. Яйленко включил их в статью о стихотворных граффити Северного Причерноморья (Яйленко 2020: 483—486); другой вариант чтения предложил Б. Браво (Bravo 2021: 14—15). Задачей нашей статьи является комплексная публикация этих эпиграфических памятников вместе с археологическим контекстом, без которого их значение для исследования Березанского поселения не может быть понято в должной мере.
Фрагментированные чаши с надписями происходят из заполнения двух хозяйственных ям (№ 234 и 238), расположенных всего в 4,4 м друг от друга (рис. 2—4). Несмотря на пространственную и хронологическую близость этих комплексов, они, по-видимому, относятся к разным стратиграфическим периодам существования архаического Борисфена. Территория, на которой находились ямы № 234 и 238 (рис. 2), с начала третьей четверти VI в. до н.э. принадлежала участку большого многокамерного домовладения — дома I-1 (МК-3). Яма № 234 находится на территории помещения № 25 этого дома, а яма № 238 — северо-восточнее, на территории его внутреннего двора. Дом Ι-1 был расположен в квартале «I» Березанского поселения и имел вход с запада, с улицы У-7.2 Первые городские жилые дома Борисфена отнесены к стратиграфической фазе II-A, начало которой предположительно датируется 540-ми гг. до н.э. (Чистов и др. 2012: 41—73; 2020: 61—90). Их появление вместе с развитием системы кварталов и уличной сети связывается с прибытием новой большой группы ионийских колонистов. До середины VI в. до н.э. эта же территория была занята многочисленными полуземлянками и хозяйственными ямами раннего, Ι периода.
Выделение отдельных фаз в рамках I периода существования Березанского поселения затруднено из-за отсутствия выраженного культурного слоя этого времени. Стратиграфическую последовательность ранних землянок и хозяйственных ям оказывается возможным определить только в случаях взаимных прорезов. Вместе с тем на участке «О-Западный» удалось раскрыть ряд объектов, непосредственно предшествующих наиболее ранним наземным каменно-сырцовым домам II периода, построенным на той же территории, или сосуществовавшим с наиболее ранними из них. Эти комплексы, датирующиеся около середины VI в. до н.э., условно выделяются в «переходную» (между I и II периодами) фазу IB (Чистов и др. 2012: 15—18; 2020: 49—56). Пять больших прямоугольных полуземлянок этой фазы расположены в районе слияния меридиональных улиц У6 и У7, что позволило предположить синхронность их возникновения времени первичной разбивки уличной сети на территории Березанского поселения (Чистов 2017a: 133—137; 2017b: 139;); две из них (СК 67, 73) находятся на территории дома Ι-1 с западной стороны улицы У-7.
МАИАСП № 12. 2020
Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст
Хозяйственная яма № 234 относится к первому, «догородскому» периоду существования Борисфена, и была выкопана до возведения построек дома Ι-1, включая и помещение № 25, в границах которого она раскрыта. Эта яма связана с группой из трех овальных полуземлянок второй четверти — середины VI в. до н.э. (СК 39, 40, 68): с севера она прорезает полуземлянку СК 68, но, в свою очередь, оказалась прорезана с юга полуземлянкой СК 39, т.е. является по отношению к первой — поздней, а ко второй — более ранней. Время существования всех этих комплексов близко к середине VI в. до н.э.3: таким образом, их также можно отнести к «переходной» фазе Ι-Β, предшествующей началу массового каменносырцового строительства на Березани.
В разрезе яма № 234 имела грушевидную форму, стенки расширялись от горловины к низу. Диаметр на уровне устья составлял 1,15—1,30 м, на уровне дна — 1,65 м, глубина от уровня погребенной почвы — 1,52 м. Помимо фрагментированной ионийской чаши с владельческой надписью, речь о которой пойдет далее, заполнение ямы № 234 содержало представительный керамический комплекс, датируемый около середины VI в. до н.э. Эта дата базируется, прежде всего, на находках транспортных амфор, включающую как целые сосуды, так и крупные фрагменты керамической тары.
Целая и фрагментированная амфоры (рис. 5: 1—2 ; Чистов и др. 2012: 13, рис. 3: 5—6 ) принадлежат наиболее ранней серии т.н. «протофасосских» амфор на сложнопрофилированных ножках (Иония β /Иония I), которую отличает пифоидная форма тулова и плавный переход от горла к плечикам. Производство таких сосудов связывают с неустановленными центрами Северной Эгеиды (Dupont 1999: 153; Монахов 2003: 37) или Восточной Греции (Bîrzesku 2012: 124; Sezgin 2012: 259—271, 325). Эти находки вместе с крупными фрагментами таких же амфор из находившейся неподалеку большой прямоугольной полуземлянки СК 73 (Chistov 2018: 86—87, fig. 1: 1—4 ; Чистов, Монахов, Кузнецова 2019: 14) позволили аргументированно подтвердить их принадлежность к наиболее ранней серии данного типа (ср.: Монахов 2003: 39, табл. 23: 1—2 ). Близость датировок ямы № 234 и СК 74 подтверждает и наличие в обоих комплексах амфор редкого типа Пабуч Бурну/Истрия 1388/Созополь 477, также датируемых около середины VI в. до н.э. (рис. 5: 6 ; Chistov 2018: 89—90, fig. 3: 2—3 ; Чистов, Монахов, Кузнецова 2019: 14, рис. 2: 8—13 ).
Фрагментированная амфора с туловом характерной «репковидной» формы (рис. 5: 3 ; Chistov 2018: fig. 2: 5 ; Чистов, Монахов, Кузнецова 2019: 12, рис. 2: 3 ) относится к т.н. группе сосудов типа амфоры из некрополя Лебеди V (Монахов 2003: 51—52), в настоящее время предположительно относимых к продукции Теоса (Sezgin 2017). Пропорции амфоры из ямы № 234 позволяют отнести её к наиболее позднему варианту амфор этой группы (Chistov 2018: 88—89). Если их атрибуция к продукции Теоса верна, можно предполагать, что она не могла быть произведена позже 546 г. до н.э., т.е. даты захвата этого города Гарпагом и исхода его жителей в Абдеры (Herod., 1, 168). Тулово хиосской амфоры «созопольского» варианта с белой обмазкой (рис. 5: 5 ; Чистов, Монахов, Кузнецова 2019: рис. 4: 1 ) также представляет тип керамической тары, производство которого прекратилось около середины VI в. до н.э.
МАИАСП № 12. 2020
(Монахов 2012: 15).
Столовая расписная керамика из заполнения ямы № 234 дает более широкую дату — в рамках первой половины VI в. до н.э. Здесь мы не находим ни поздних групп ионийской керамики (стиля «фикеллура», клазоменских или приписываемых Клазоменам групп чернофигурных сосудов, самые ранние образцы которых датируются от 560 гг. до н.э.), ни аттических столовых сосудов. Таким образом, находки расписной керамики свидетельствуют о засыпке ямы не позже середины VI в. до н. э.
Североионийские колонные кратеры стиля LWG (NiA) 580—560-х гг. до н.э. представлены фрагментами сосудов с чернофигурным изображением оленя (рис. 6: 1 ) и резервным — козлов (рис. 6: 2 ). Подобные кратеры, расписывавшиеся в смешанной технике, характерны для слоёв Березанского поселения первой половины VI в. до н.э.; центрами их производства могли быть Клазомены и Теос (Копейкина 1970: 104; Борисфен-Березань 2005, кат. 34—38; Posamentir, Soloviov 2006: 119, Abb. 19—20, 27; 2007: Abb. 1b, 16—18; Чистов и др. 2012, табл. 20: 4 , 41: 3 ; 2020: 37—38, табл. 14: 1—6 ). Фрагменты таких сосудов широко встречаются в архаических слоях Ольвии и различных памятников Северного и СевероЗападного Причерноморья (Буйских 2013: 44—45).
Несколькими фрагментами представлены небольшие ольпы на плоском дне с орнаментом полосами (рис. 6: 3—4 ; ср.: Boardman 1967: 144). Фрагмент дна ионийской тарелки на кольцевом поддоне (рис. 6: 7 ; БЭ 2016.12/69) датируется 580—560 гг. до н.э. (Boardman Hayes 1966: 41—42, 44). В числе находок ионийских киликов — профильные фрагменты с отогнутым венчиком варианта 9,1.С. по классификации У. Шлотцауэра4 (рис. 6: 5 ). Ионийские чаши полусферической формы представлены нижней частью сосуда с орнаментом лучами и поясками (рис. 6: 6 ), а также фрагментированной чашей rosette bowl с граффити — посвятительной надписью Дейнона на внешней стороне (рис. 1: 2 ). Первый фрагмент, определенно, относится к более раннему варианту чаш с розеттами, на что указывает большая толщина стенок и особенности внутреннего декора — наличие белого обрамления концентрических полос пурпурной краски. По-видимому, этот сосуд относится к первой четверти VI в. до н.э. Чаша Дейнона орнаментирована по внешней стороне двумя широкими полосами бурого лака (на уровне подставки и в центральной части тулова), группами из пяти вертикальных штрихов по обеим сторонам ручек и розеттой из семи точек, размещенной по центру резервной зоны между группами штрихов. Внутренняя поверхность вместилища покрыта бурым лаком, по которому пурпуром нанесены четыре концентрических круга. Исходя из современных представлений о развитии декора этих чаш (Буйских 2013: 107—108), находка может быть датирована не ранее второй четверти VI в. до н.э. Тем же временем датируются чаши с аналогичной схемой орнаментации из некрополя Ассоса (Utili 1999: 149, Abb. 2, Kat. 17). Вопрос о верхней границе периода производства полусферических чаш с розеттами детально не проработан. Ранее предполагалось, что они не производились позднее середины VI в. до н.э. (Boardman 1967: 170). Однако время их бытования все же заходит во вторую половину столетия (Cook, Dupont 1998: 26); к последней трети VI в. до н.э. их полностью вытесняют чаши той же формы с более простым декором полосами (Буйских 2013: 108). Это наблюдение в полной мере подтверждается материалами Березанского поселения фазы II-A (Чистов и др. 2012: табл. 65: 6—10 , 66: 1—3 ; 2020: табл. 48: 7—12 , табл. 49: 12—14 ).
Благодаря нейтронно-активационным анализам глин основной центр производства чаш с птицами и пришедших им на смену в конце VII в. до н.э. чаш с розетками в настоящее время
МАИАСП № 12. 2020
Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст локализуются в Теосе. Этот город стал в VIII—VI вв. до н.э. важнейшим центром гончарного производства в Северной Ионии, наладившим массовое стандартизованное производство столовой керамики (Mommsen et al. 2006: 70; Kadıoğlu et al. 2019: 349—353).
По внешней стороне килика Дейнона прочерчена надпись:
Ἑρμ<έ>ω ἐμὶ ϙόλιξ: ENПO[- ca. 10–15 -]ΡΑΟ ἔγραφε δέ με Δένων
— «Я килик Гермеса5 ….. Писал же меня Дейнон6».
Высота букв: 0,5—0,8 см.
Отличительные черты шрифта этого граффито ( альфа с косой перекладиной, эпсилон с длинными слегка наклонными гастами, хвостатая ро ) находят аналогии в березанских граффити VI в. до н.э.7 — например, на венчике чернолаковой амфоры 575—550 г. до н.э. (рис. 9: 1) , на светильнике первой половины — середины VI в. до н.э. и в застольном граффито на венчике ионийского килика [--] μαίνεσθα[ι] καὶ ἐρᾶν[--] второй — начала третьей четвертей VI в. до н.э. (Яйленко 1979: 57, рис. 2: а—г ; Борисфен-Березань 2005: 136, 141, № 257, 267, 268). Близкой аналогией (с учетом меньшей тщательности выполнения граффито хозяйственного характера) является запись о торговой операции с зерном или выпечным хлебом на cтенке ионийской чаши первой половины VI в. до н.э.8 (Dubois 1996: 77, no. 36; Яйленко 2017: 339—340) (рис. 9: 2 ).
Обращают на себя внимание форма йоты в ἐμί, которая будто бы имеет скругленный изгиб влево, а гамма в ἔγραφε похожа на лунарную сигму. Йота в ϙόλιξ обычная, поэтому нельзя исключить, что такое изменение формы вызвано тем, что буквы процарапывались по выгнутой поверхности.
ЛИ Δένων уже встречалось в Ольвии9 — в ольвийском заклятии IV в. до н.э. и на остраконе (Dubois 1996: 169, № 102; Белоусов 2020: 13, № 3), и, что примечательно, в такой же форме с монофтонгизацией дифтонга ει. Точно также ει передается посредством ε в ἐμί (Thumb, Scherer 1959: 252, § 311.5; примеры подобной монофтонгизации на Березани и в Ольвии см. — Dubois 1996: 184). Пропуск эпсилон в Ἑρμ<έ>ω объясняется, вероятнее всего, ошибкой резчика.
Формуляр граффито типичен для посвятительных надписей на сосудах — τοῦ θεοῦ εἰμι — «я принадлежу богу (букв. я есмь бога)» (Lazzarini 1976: 251—254, № 537—558). Следующее за этой формулой ϙόλιξ C.Р. Тохтасьев предлагал считать антропонимом (Тохтасьев 2017) по аналогии с граффито конца V — начала IV в. до н.э. Μάν[δρι]ος κόλιξ καλή из сирийской Аль-Мины, но, скорее, это все же необычная форма слова κύλιξ, как и считал его издатель Дж. Бизли (SEG. 16. 231).
МАИАСП № 12. 2020
В ϙόλιξ можно видеть переход υ в ο, что подтверждается формой ἀρύστιχος из березанского граффито на ольпе конца VIΙ — начала VI в. до н.э.10 Ипсилон в этом граффито процарапан поверх омикрон (Dubois 1996: 67, № 27; Тохтасьев 2017; ср., также, Slavova 2004: 28, § 1.6.2).
Далее, перед сколом находятся буквы ΕΝΠΟ. Вероятнее всего они принадлежат одному слову с отсутствием ассимиляции носового перед губным11 (Scherer 1934: 26, § 43). После омикрон видна нижняя часть вертикальной гасты. Это не может быть ро , и, скорее всего, это не йота , так как предшествующие йоты начинаются ниже остальных букв. Из остальных возможных вариантов с каппой , лямбдой (левая гаста лямбды в этом граффито вертикальная), ню и тау больше всего подходят слова на ΕΜΠΟΛ и ΕΜΠΟΤ. С.Р. Тохтасьев видит здесь ἔνπο[τος] — «ἔμποτος как эпитет килика — «пригодный (т.е. хороший) для питья», синоним εὔποτος» (Тохтасьев 2017).
Посвятительные надписи, в которых эпиклеза божества отделена от его имени глаголом, уже встречались в Ольвии, например, Ἀπόλλωνός ἐμι τõ Δελφινίο (конец VI в. до н.э., Русяева 2010: 28, 220, табл. 4: 6 ; ср., также Lazzarini 1976: 253, no. 556: g, h ). Так что более оправданным выглядит восстановление ΕΝΠΟ как эпиклезы Гермеса Ἐνπο[λαῖος] — «Торговый, покровительствующий торговле» (Яйленко 2020: 485; Bravo 2021: 12; см. также Bravo 1977: 36). Ранее Яйленко восстанавливал эту эпиклезу в ольвийском граффито начала V в. до н.э. — [ἄ]ξιος Ἑρμέω ἐμ[ὶ Ἐμπο]λαίο («я (килик) достойный Гермеса Торгового»)12 (Яйленко 1980: 77 № 68; SEG 30. 908).
Следовательно, до лакуны текст граффито можно читать следующим образом: Ἑρμ<έ>ω ἐμὶ ϙόλιξ: Ἐνπο[λαίο --] — «Я килик Гермеса Торгового…». Восстановление текста перед находящимися за сколом буквами ΡΑΟ затруднительно, т.к. лакуна достаточно велика (на утраченном фрагменте стенки могло находиться примерно 10—15 букв)13.
Завершающая часть граффито («Писал же меня Дейнон») находит аналогии в сигнатурах мастеров, являвшихся одновременно дедикантами. Как правило, это формула ἐποίησε καὶ ἀνέθηκε («сделал и посвятил»). Но имеется и другой вариант: Νέαρχος μ' ἔγραφσεν κἀ[νέθεκεν] («Неарх меня написал и посвятил», Афины, сер. VI в. до н.э.), Μιλονίδας ἔγραψε κἀνέθεκε («Милонид ( меня ) написал и посвятил», Пендескуфия, VI в. до н.э.) (Lazzarini 1976: 293, no. 815, 816; Тохтасьев 2017).
Точное определение типа граффито Дейнона выглядит затруднительным. Наличие названия сосуда в формуляре, обычное для застольных надписей, возможное восстановление ΕΝΠΟ как ἔνπο[τος] и завершение надписи «писал же меня такой-то», использовавшееся в несомненно застольном граффито Пифея, сына Перикла, из ямы № 238, указывает на то, что это может быть застольная надпись. С другой стороны, не менее вероятным представляется восстановление Ἐνπο[λαίο --]. Кроме того, Гермес не являлся покровителем симпосиумов.
В качестве возможного варианта можно предложить следующее чтение этого граффито:
МАИАСП № 12. 2020
Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст
Ἑρμ<έ>ω ἐμὶ ϙόλιξ: Ἐνπο[λαίο? --]ΡΑΟ ἔγραφε δέ με Δένων
— «Я килик Гермеса Торгового (?)… Писал же меня ( то есть надпись ) Дейнон».
В начале третьей четверти VI в. до н.э. все ранние полуземлянки и хозяйственные ямы были засыпаны, и на той же территории возводятся многокамерные дома, сблокированные в городской квартал. Дом I-1 ( МК-3)14 вероятно, входил в число первых сырцово-каменных наземных домов, построенных на Березанском поселении в 540-х гг. до н. э. Несколькими десятилетиями позже, в последней четверти того же столетия, он был разрушен пожаром, а затем отстроен заново.
В третьей четверти VI в. до н. э. домохозяйство состояло, по-видимому, из пяти помещений (рис. 2: 5, 6, 7, 25, 26 , 10). Три из них представляли собой изолированные постройки, расположенные в северной, восточной и юго-восточной частях дома, и примыкавшие к его внешним стенам. Наибольших размеров достигало помещение № 5 (49 кв. м) с прямоугольным очагом, в котором находились две переносные цилиндрические печки. Соседнее помещение № 6, почти квадратное в плане и с заглубленным на 0,2—0,3 м полом, имело меньшие размеры (38 кв. м). Не исключено, что вдоль южной границы надела — ойкопедона, между помещениями № 5 и 25 на раннем этапе существования дома существовала еще одна небольшая постройка — от нее сохранился лишь отрезок сырцовой стены, не имевшей в основании каменного цоколя. Нельзя исключить и того, что эта стена представляла собой один из строительных периодов южной ограды домовладения.
Два других помещения (№ 7 и 26) были расположены в северо-западной части дома. Помещение № 7 представляло собой полуподвал, заглубленный в грунт на 0,85 м. Его стены были сложены из сырцовых кирпичей без каменных цоколей в основании. Помещение № 26 имело интересную особенность — оно выступало за западную границу дома в сторону городской улицы примерно на половину своего объема. Это небольшое помещение с каменно-сырцовыми стенами предположительно имело хозяйственное назначение — в нем найдены остатки двух печей. Помещения № 7 и 26 разделял узкий тупиковый проход; тем не менее, не исключено, что на раннем этапе существования дома они были частями одной постройки. Наличие вымостки позволяет допустить, что вход в помещение № 6 был расположен с востока. Вместе с тем дверные проемы не были достоверно зафиксированы ни в одной из построек этого домовладения, поэтому их расположение можно реконструировать лишь гипотетически. Вход в дом Ι-1, по-видимому, находился с запада, между помещениями № 25 и 26, и вел во двор с улицы У7. Здесь же на улицу выходил водосток, отводивший осадочные и сточные воды с территории внутреннего двора.
«Дом Пифея» имел исключительно большие размеры: его общая площадь приближается к 380 кв. м, около 50% из которых приходится на долю жилых и хозяйственных сооружений. В границах этого домовладения одновременно располагались четыре—пять небольших изолированных построек, группировавшихся с трех сторон от центрального двора. По всей видимости, внутренняя территория этого участка осваивалась его владельцами постепенно, новые постройки возводились по мере надобности. Расположение некоторых из этих строений выглядит почти хаотичным: так, например, полуподвальное помещение № 7 и помещение № 6 практически сходятся внешними углами. Не вполне ясно как использовалась территория к северу от помещения № 7 на протяжении ранней строительной фазы, и как к
МАИАСП № 12. 2020
ней осуществлялся доступ. Можно лишь предположить, что северо-западная часть комплекса (помещение № 26 и незастроенная территория к северу от помещения № 7) представляла собой особую хозяйственную единицу — лавку, или место проживания какой-то обособленной части семьи. Нельзя полностью исключить и того, что это помещение всё же относится к соседнему с севера дому I-3. Его строительные остатки сохранились очень фрагментарно15. Вместе с тем установлено, что древняя дневная поверхность к северу от помещений № 4, 6, 8 дома Ι-1 имела значительный уклон в направлении современного берега острова, из-за чего здесь грунт был подрезан уступом или небольшой террасой высотой до 0,5 м: эта особенность рукотворного рельефа позволяет определить северную границу домовладения и предполагать, что помещение № 26 всё же находилось в его границах.
На территории дома I-1 раскрыто несколько хозяйственных ям, синхронных различным строительным фазам его существования, а также два колодца: один из них (№ 222) был расположен в центральной части двора, а другой (№ 89) — в северо-восточном углу надела, между помещениями № 5 и 6. Яма № 238, в которой был обнаружен килик с граффито Пифея, находилась в юго-западной части внутреннего двора дома Ι-1, у северо-восточного угла помещения № 25. Стратиграфические наблюдения не позволяют связать ее с определенным периодом или фазой столь же точно, как и в случае с ямой № 234. Яма № 238 не прорезалась другими заглубленными объектами, а ее устье было выявлено с уровня погребенной почвы, практически идентичного и уровню подошв стен соседней постройки № 25 фазы II-A. Эта сравнительно небольшая хозяйственная яма в разрезе имела характерную форму с расширяющимися книзу стенками. Ее диаметр на уровне устья составляет 0,86—0,90 м., глубина — 1,15 м, ширина на уровне дна — 1,17 м.
Фрагменты амфорной тары, составлявшие большую часть находок в заполнении, малоинформативны, и могут датироваться в рамках VI в. до н.э. В их числе — отдельные профильные части сосудов Клазомен, Милета, лесбосских красноглиняных и сероглиняных амфор. Находки керамики других групп немногочисленны — 50 фрагментов, 36 из которых принадлежат сосудам ионийских центров. Аттическая керамика в заполнении этой ямы (в отличие от ямы № 238) присутствовала, но лишь в виде шести невыразительных фрагментов, принадлежащих киликам и закрытым сосудам.
Крупный фрагмент тарелки на ножке с росписью — разорванным меандром, поясками и лучами (рис. 7: 3 ) как и край тарелки на кольцевом поддоне со сходной системой росписи (рис. 7: 1 ) относятся к формам североионийской керамики стиля LWG (NiA), изготавливавшимся в основном во второй четверти VI в. до н.э. и, возможно, немного позднее середины столетия (Boardman, Hayes 1966: 44; Cook, Dupont 1998: 53, fig. 8, 18; Буйских 2013: 65). Подобные тарелки являются массовым материалом для ранних слоев Ольвии (ср.: Буйских 2013: 294—295, 296, кат. 3.240—3.264, 267—276) и Березани (Борисфен-Березань 2005: 50—51, кат. 62—63), где они, наряду с тарелками южноионийского и эолийского производства, характерны в основном для комплексов Ι периода (Чистов и др. 2012: табл. 19, 27, 41: 1—3 , 44: 5—7 ; 2020: 35, табл. 11—12). Однако, подобные изделия с простой схемой орнаментации (разорванный меандр, концентрические круги и лучи) встречаются и в слоях фазы ΙΙ-A, что заставляет предполагать некоторое пересечение их хронологии с предполагаемыми хронологическими рамками этой фазы — от 540-х гг. до н.э. (Чистов и др. 2012: табл. 67: 7, 12 ; 2020b: 99—100, табл. 53—54). Анализы показали близость
МАИАСП № 12. 2020
Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст химического состава глины таких тарелок группе Β, предположительно связываемой с продукцией Теоса (Posamentir, Soloviov 2006: 119—121, Abb. 22).
Из заполнения ямы также происходит фрагмент ручки—пластины североионийского колонного кратера первой половины VI в. до н.э. с характерной росписью на верхней поверхности — меандром и лучами (рис. 7: 2 ).
Для определения датировки ямы № 238 наиболее интересны находки орнаментированных полосами ионийских киликов с отогнутым краем. Помимо большого килика с граффито Пифея в этом же комплексе найдены крупные фрагменты еще трех подобных киликов (рис. 8: 1—3 ). Все они имеют существенно меньший, в сравнении с чашей Пифея, диаметр (ок. 13—14 см), однако их профилировка и орнаментальная схема несколько различаются.
Основываясь на последней и наиболее детальной типологии этих сосудов, выполненной на основе стратифицированных комплексов Милета (Schlotzhauer 2001), все они относятся к типу 9 — самой массовой форме ионийских киликов на протяжении всего VI в. до н.э. Два килика (рис. 8: 2—3 ) имеют сходные пропорции вместилища и практически одинаковую систему орнаментации внешней стороны тулова. Внутренняя сторона одного из них (рис. 8: 3 ) полностью залита лаком, у другого же — орнаментирована концентрическими полосами различной ширины. В классификации У. Шлотцауэра такие сосуды отнесены к варианту 9,1.С. Килики схожей профилировки найдены в Милете в контекстах второй—третьей четвертей VI в. до н.э. и датируются довольно широко — 590/80—550/40 гг. до н.э. (Schlotzhauer 2001: 518, Taf. 32, Kat. N 183, 184). Еще один фрагментированный килик (рис. 8: 1 ) имеет иную, существенно более округлую и мелкую форму вместилища. Его, скорее, можно отнести к варианту 9,2.С того же типа. Этот вариант является несколько более поздним — время его бытования укладывается в рамки второй—третьей четвертей VI в. до н.э. (580/70—530/20 гг.) (Schlotzhauer 2001: 519, Taf. 33, Kat. N 187—188). Кроме того, пропорции сосуда из ямы № 238 близки килику из раскопок участка «О-Восточный» В.В. Лапина, который А.В. Буйских относит к еще более позднему варианту 9,3.С, дата которого распространяется на вторую половину столетия (Буйских 2016: 35—36, рис. 4: 5 ). Однако наш килик не имеет орнаментации полосами пурпура, а профилировка его венчика не соответствует особенностям этого варианта (ср. Schlotzhauer 2001: Taf. 33).
Приведенные выше датировки вариантов форм киликов типа 9 увязываются с развитием в Милете стиля росписи «фикеллюра», и, по-видимому, не в малой степени обусловлены ранней датой появления этого стиля (после 590-х гг. до н.э.), принимаемой У. Шлотцауэром (Schlotzhauer 2001: 109). Килики типа 9 известны большим количеством находок в центрах Северо-Западного Причерноморья, и, в первую очередь, на Березани (Буйских 2016: 33). Следует заметить, что находки крупных профильных фрагментов киликов вариантов 9,1.С и 9,2.С на Березани широко встречаются в контекстах как Ι, «догородского» периода (Чистов и др. 2012: табл. 17: 2 , 25: 3 , 26: 2 , 38: 2 ; 2020b: табл. 9: 1—3 ), так и фазы II-A, соответствующей времени появления уличной сети и первых многокамерных каменносырцовых домов (Чистов 2006: 68—69, рис. 17: 48 , илл. 31: 2 ; Чистов и др. 2020: табл. 50: 6— 8 ; табл. 51: 1—3 ). В одном из «рубежных» комплексов фазы Ι-Β середины VI в. до н.э. вместе зафиксированы профильные фрагменты киликов вариантов 9,1.С и 9,3.С (Чистов и др. 2012: табл. 141: 5—7 ). В комплексах и слоях позднеархаической фазы ΙΙ-Β крупные профильные фрагменты полосатых ионийских киликов 9-го типа встречаются намного реже (Чистов и др. 2020: табл. 87: 1 ), являясь случайными примесями из ранних напластований.
МАИАСП № 12. 2020
В целом приведенные наблюдения могут соответствовать верхним хронологическим границам, предложенным для этих вариантов У. Шлотцауэром, если верно наше предположение о смене Ι периода стратиграфической фазой ΙΙ-А в 540-х гг. до н.э.
Таким образом, исходя из современных представлений о хронологии ионийских импортов, керамический комплекс ямы № 238 сложно датировать точнее, чем вторая — начало третьей четвертей VI в. до н.э. — т.е. его датировка очень близка описанной выше яме № 234 и границе первого и второго стратиграфических периодов в существовании памятника. Вместе с тем, в отличие от последней, мы не имеем веских оснований отнести яму № 238 к Ι периоду архаического Борисфена. Исходя из косвенных данных (небольшая примесь фрагментов аттической керамики, расположение на территории двора дома I-1) и возможных дат группы находок киликов с отогнутым венчиком, оправданно, всё же, допускать её связь с жилым комплексом фазы ΙΙ-A, а имя владельца килика предположительно связать с хозяином этого исключительно большого домовладения.
Обратимся теперь к килику с застольной надписью Пифея, сына Перикла16 (рис. 1: 1 ). Его профилировка и орнаментация также близки варианту 9,1.С, однако он имел почти вдвое больший диаметр (24,6 см). Такие исключительно большие чаши с отогнутым венчиком и орнаментом полосами известны в материалах Милета, где выделены в особый тип 12. Однако все они найдены лишь во фрагментах; из-за недостатка данных предложена лишь широкая дата, охватывающая три последних четверти VI в. до н.э. (580/570 до 500/490 гг. до н.э.) (Schlotzhauer 2001: 265—266). Находка килика этой формы таких размеров является чрезвычайно редкой и для Березанского поселения, но не единичной. Фрагмент венчика килика еще большего диаметра (до 30 см) имеется в коллекции из раскопок В.В. Лапина. А.В. Буйских по визуальным характеристикам предполагает его производство в каком-то из центров Северной Ионии (Буйских 2016: 33, 34, рис. 3: 9 ), то же можно сказать и о килике Пифея17. Вдоль внутренней стороны закраины этого килика была нанесена однострочная надпись:
ΠΥΘΕΩΕΙΜΙΤΟΠΕΡΙΚΛΕΟΣΧΕΧΑΡΩΔΕΜΟΝΟΜΑΚΩΣΑΝΜΕΚΠΙΗΙΧΑΙΕΡΗΣΕΙΕΓΡΑ ΘΕΔΕΜΕΠΥΘΗΣ.
Высота букв: 0,5—1 см.
Шрифт этого граффито в целом имеет те же черты, что шрифт граффито Дейнона, за исключением того, что ро имеет более выраженную вертикальную «ножку», а наклонная перекладина альфы достигает конца правой гасты.
Несмотря на то, что надпись прочерчена твердой рукой, она не свободна от ошибок. Пифей пропустил эпсилон между двумя хи и поместил его чуть ниже, под первой хи . К числу явных описок можно отнести тхету вместо фи в ἔγρα<φ>ε. По-видимому, случайный характер имеет и эпсилон после йоты в χαι{ε}ρήσει18.
Чтение и интерпретация начала и конца этой надписи не вызывают серьезных разночтений — Πυθέω εἰμὶ τõ Περικλέος … ἔγρα<φ>ε δέ με Πυθῆς («Я ( килик ) Пифея, сына Перикла. … Писал же меня ( то есть эту надпись ) Пифей»).
МАИАСП № 12. 2020
Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст
ЛИ Πυθῆς и Περικλῆς до сих пор не были засвидетельствованы ни в Ольвии, ни на Березани (LGPN. IV, s.v.), но Πυθῆς было употребительно и в Милете (391—387 гг. до н.э., Syll.3 134; конец III в. до н.э., Milet. VI. 2. 470), и в других ионийских полисах, например, в Эрифрах (ок. 270/260 г. до н.э., OGIS 223=SEG 37. 924; LGPN VA, s.v.). В то время, как Б. Браво и В. П. Яйленко предлагают акцентуацию Πύθης, С.Р. Тохтасьев справедливо полагал, что Πυθῆς — ионийская форма с характерным для этого диалекта переходом —έᾱς > -ῆς (Buck 1928: 39, § 42. 2).
Форма ионийского генитива на -εω этого ЛИ вполне обычна и находит многочисленные аналогии как в милетских, так и в ольвийских и березанских надписях классического и эллинистического времени (Scherer 1934: 28 § 45; Dubois 1996: 189; см., например, Ἡρακλείδεω в ольвийском письме Апатурия, сына Леонакта (конуц VI в. до н.э., Dana 2007: 75), τὀρμέω (Березань, ок. 500 г. до н.э., Dubois 1996: 125 № 76)).
Самые ранние примеры ЛИ Περικλῆς — V в. до н.э. — происходят из Аттики (LGPN II, s.v.), малоазийские примеры относятся ко времени не раньше IV в. до н.э. (LGPN VA, s.v.). Генитив Περικλέος имеет форму на -εος, обычную для имен собственных с основой на сигму в ионийских надписях VI—V вв. до н.э. (Scherer 1934: 54). Подобный генитив находит аналогии в Ольвии (см., например, Τύχων ὁκατοκλέος — ок. 500 г. до н.э. (Dubois 1996: 113, № 62); Ἑκατοκλέος — V в. до н.э. (Dubois 1996: 168, № 101) и встречается там вплоть до конца IV в. до н.э. — например, в судебном заклятии (Τελεσικράτεος – Dubois 1996: 171, № 105) и в лапидарных надписях (Ἰσοκράτεος — Dubois 1996: 89, № 45; Λεωκράτεος — Dubois 1996: 25, № 11).
Форма εἰμί, в которой ει передается посредством диграфа ΕΙ, находит аналогии в Милете (посвящение Аполлону, до 550 г. до н.э., Schwyzer 1960: 351 № 723 3 ).
Следующая за указанием на владельца килика часть граффито — ΧΕΧΑΡΩΔΕΜΟΝΟΜΑΚΩΣΑΝΜΕΚΠΙΗΙΧΑΙΕΡΗΣΕΙ — интерпретировалась различным образом.
Все исследователи видят в X E XARΩ редуплицированный conjunctivus aoristi activi от χαίρω — χεχάρω (Тохтасьев 2017; Яйленко 2020: 483; Bravo 2021: 15)19. Подобные редуплицированные формы будущего времени и аориста засвидетельствованы у Гомера (см., например – κεχαροίατο (Hom. Il., 1, 256), κεχαρησέμεν (Hom. Il., 15, 98), κεχάροντο (Hom. Il., 16, 600); κεχάροιτο (Hom. Od., 2, 249), κεχαρήσεται (Hom. Od., 23, 266).
Первая хи в χεχάρω появилась в результате регрессивной ассимиляции — χεχάρω < κεχάρω (для аттического диалекта примеры подобной ассимиляции придыхательного см. — Threatte 1980: 457—460, § 38: 211а , для других диалектов — Schwyzer 1939: 257).
Сразу же после χεχάρω С.Р. Тохтасьев предлагал выделять δ’ ἐμὸν / ὄνομα (последнее со знаком вопроса - Н.П., Д.Ч. ), что, по его мнению, не давало удовлетворительного смысла. Далее, непосредственно перед av ц’ екпгп он предполагал к’ ю^ (« и как »), то есть элизию или красис καί перед гласным и псилозу. Его предварительное чтение и перевод этого граффито выглядел следующим образом:
Πυθέω εἰμὶ τõ Περικλέος X E XAΡΩΔΕΜΟΝ ὄνομα (?) κ’ ὠς ἂν μ’ ἐκπίηι, χαι{ε}ρήσει· ἔγρα(φ)ε δέ με Πυθῆς
— «Я есмь чаша Пифея, сына Перикла (......) имя (?); и как (он) ни выпьет меня, возрадуется; а писал меня Пифей » (Тохтасьев 2017).
МАИАСП № 12. 2020
-
В.П. Яйленко для середины граффито предлагает следующий вариант разбивки текста на слова:
χεχάρω δὲ μ’ ὄνομα κὼς ἄν μ’ ἐκπίηι20, χαἱ<ε>ρήσει
-
— «Я (кубок) Питеса Периклова, радостно же мне имя (слава того), кто меня как-либо выпьет и выиграет; исписывал-то меня Питес » (Яйленко 2020: 483).
Предлагаемая интерпретация ΧΕΧΑΡΩΔΕΜΟΝΟΜΑ не вполне понятна. Насколько можно судить по переводу, ὄνομα рассматривается в качестве подлежащего к χεχάρω, то есть « радостно же мне имя » равнозначно « имя для меня является радостным/радующим » по аналогии, например, с тоито S' sy® пp6фpюv Зе/opai, /aipei Зе poi ^тор — « Я же охотно принимаю этот (дар), и мое (букв. у меня) сердце радуется » (Hom. Il., 23, 647). Это не согласуется с тем, что χεχάρω — форма первого лица21. Не ясно также, к чему в этом случае относится выделяемая московским исследователем форма датива личного местоимения первого лица μοι. После конъюнктива ἐκπίηι В.П. Яйленко видит союз καί с аспирацией22 и футурум от αἱρέω23.
Б. Браво (со ссылкой на мнение М. Венцовского — Wecowski 2014: 42—47) считает, что в рассматриваемом граффито речь идет о застольной игре, когда сотрапезники должны были одним глотком — apuan (букв. « не закрывая рта ») выпить чашу с вином, обычно достаточно большого объема. Для центральной части граффито он предлагает следующий вариант чтения: χεχάρω δὲ μονομάκως. ἄν μ’ ἐκπίηι, χαι{ε}ρήσει («пусть я смогу радоваться, устраивая состязание ( в выпивке ). Если кто меня выпьет до дна, тот будет этому рад»), где povopaKW^ — это наречие от povopa/oc (« сражающийся в одиночку »). Браво объясняет замену хи каппой тем, что писавший «плохо различал фонемы -k- и -kh-»24. Кроме приведенных Б. Браво примеров замены заднеязычных, например, гаммы каппой в письме из Гермонассы 450—440 гг. до н.э. (κατασφρ<α><γ>ίσατε – Pavlichenko, Kashaev 2012: 230), в качестве более близкой аналогии можно привести форму императива от δέχομαι — δέκεσθε — в письме с ольвийской агоры 525—500 г. до н.э. (Dana 2007: 73—74; Bechtel 1924: 255, § 306).
Вариант интерпретации этого граффито, предложенный Б. Браво, представляется наиболее удачным. Он не требует никаких дополнительных допущений, таких, например, как появление форм с аспирацией. Все особенности орфографии — в частности, замена хи гаммой и регрессивная ассимиляция κ > χ — находят аналогии в том числе и в ольвийских надписях. Следует отметить, что среди березанских и ольвийских застольных граффити
МАИАСП № 12. 2020
Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст
-
VI—V вв. до н.э. имеется несколько со словосочетанием ἀμυστὶ πιεῖν («выпить, не закрывая рта, залпом»)25 (Яйленко 1980: 90—93, № 91—93). Среди них есть граффито [--]ος ὃς ἄμ[υσσιν ἐκπίη, ἀ]ναγορεύ[σεται] («кто выпьет не закрывая рта, возвестит ( о себе )») (рубеж VI—V вв. до н.э., Яйленко 1980: 91, № 92; Dubois 1996: 69, no. 28a; Тохтасьев 1999: 182). Граффито Пифея, по-видимому, представляет вариант застольной надписи подобного типа.
Надпись прочерчена от лица килика и от лица надписи на этом килике и состоит из трех частей: указание на владельца сосуда, затем вполне уместный во время симпосиума призыв показать умение не просто много выпить, но выпить залпом большую чашу. Задача была не столь уж простой, поскольку симпосиасту предстояло опорожнить порядка 2—2,5 литров вина26. В знаменитом граффито на «кубке Нестора» скифос сообщает, что он является εὔποτ[ον] : ποτέριο[ν] («чашей, приятной для питья») (Meiggs, Lewis 1969: 1, № 1), а ольвийский килик V в. до н.э. называет себя ἡδύποτος ... φίλη πίνοντι τὸν οἶνον («приятным для питья … милым для пьющего вино») (Dubois 1996: 71, № 29). Березанский килик сообщает о себе, что ему доставит удовольствие вызвать на состязание в выпивке. Заключает текст нестандартное завершение, точно такое же, как в граффито Дейнона, в котором уже сама надпись сообщает, что ее автором был владелец сосуда.
Таким образом, граффито можно читать следующим образом:
Πυθέω εἰμὶ τõ Περικλέος, χεχάρω δὲ μονομάκως. ἄν μ’ ἐκπίηι, χαι{ε}ρήσει. ἔγρα<φ>ε δέ με Πυθῆς
— «Я ( килик ) Пифея, сына Перикла. Пусть я смогу радоваться, устраивая состязание ( в выпивке ). Если кто меня выпьет до дна, тот будет ( этому ) рад. Писал же меня ( то есть надпись ) Пифей».
Надписи на киликах из раскопок 2016 г. дополняют новыми штрихами наши очень неполные знания как о раннем, «догородском» поселении на Березани, так и о времени основания на его территории урбанизированной колонии. Наряду с двумя свинцовыми письмами, найденными в том же районе Борисфена, также относимыми к раннему периоду (Chistov, Pavlichenko 2019), чаша Дейнона является очередным свидетельством тому, что население застроенного полуземлянками поселка в первой половине — середине VI в. до н.э. состояло (в значительной мере или преимущественно) из греков. Поскольку текст на килике дошел до нас не полностью, возможны два варианта его интерпретации: как посвящения божеству или как надписи застольного характера. Вариант восстановления текста как посвящения Гермесу Торговому (Ἐνπολαῖος) прекрасно ложится в представления о раннем Борисфене как об эмпории, поселении, имевшем ярко выраженный торговый или торговопромышленный (сырьевой) характер27. Вместе с тем, такое чтение ставит вопрос о наличии на Березани святилищ греческих божеств уже в это время, что пока противоречит совокупности данных, полученных в ходе многолетних раскопок. Все постройки, которые могут быть признаны общественными сооружениями, относятся ко второму, городскому периоду существования Борисфена, и датируются не ранее третьей четверти VI в. до н.э. Б. Браво допускает возможность того, что Дейнон мог являться членом религиозного союза,
МАИАСП № 12. 2020
собиравшегося в небольшом святилище, посвященном Гермесу Торговому, а его чаша использовалась в ходе застолий на торжественных собраниях этой ассоциации (Bravo 2021: 12). Учитывая весьма длительный, почти столетний период существования Борисфена как земляночного поселка (возможно, с нестабильным или даже сезонным населением), появление на его территории небольших святилищ, мест почитания греческих богов или проведения религиозных церемоний исключать нельзя, но следует принимать во внимание, что на территории квартала Ι никаких следов такого теменоса не найдено, а яма № 234 по составу находок из неё никак не может быть признана ботросом.
Килик Пифея, судя по тексту его надписи, использовался хозяином и его гостями для застольных состязаний, чему способствовал его исключительно большой объем. Примечательна связь этого сосуда с жилым домом очень значительной площади, возведенном на самом раннем этапе урбанизации Березанского поселения, по-видимому, уже в 540-х гг. до н.э. Использование окатанных камней в кладках, характерное для самых первых каменно-сырцовых построек Борисфена, прослежено и в помещениях этого многокамерного комплекса. Надо полагать, что хозяин дома I-1 (МК-3), которым вполне мог быть Пифей, сын Перикла, прибыл на Березань в это время в составе большой группы ионийских колонистов, и участвовал в строительстве города, то есть принадлежал к первому поколению переселенцев. Сложно сказать, была ли нанесена надпись в бытность Пифея на Березани, или же большой килик для товарищеских трапез был привезен им в новый дом из метрополии.
Список литературы Килики Пифея и Дейнона из раскопок Березани и их археологический контекст
- Белоусов А.В. 2020. Корпус заклятий Понтийской Ольвии (DefOlb). Москва: МГУ.
- Борисфен-Березань 2005: Борисфен-Березань. Начало античной эпохи в Северном Причерноморье. К 120-летию археологических раскопок на острове Березань: каталог выставки. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж; АРС.
- Буйских А.В. 2013. Архаическая расписная керамика из Ольвии. Киев: Стародавнiй свiт.
- Буйских А.В. 2016. Ионийские килики из Борисфена. Археологiя i давня iсторiя Украiни 1(18), 29-42.
- Буйских А.В. 2019. Архаическая расписная керамика из Борисфена (раскопки 1960-1980 гг.). Киев: Институт археологии НАН Украины.
- Виноградов Ю.Г. 1989. Политическая история ольвийского полиса VII—I вв. до н.э. Историко-эпиграфическое исследование. Mосквa: Наука.
- Копейкина Л.В. 1970. Особенности развития родосско-ионийской керамики в первой половине VI в. до н.э. и вопросы локализации некоторых её групп. ВДИ 1, 93—10б. Лапин 1974: HA ИA HAHУ № 1974/100.
- Лапин В.В. 1974. Отчет о работе Березанской экспедиции археологического музея (Институт зоологии AH УССР) в 1974 г.
- Mонaхов С.Ю. 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров— экспортёров товаров в керамической таре: Каталог-определитель. Mосквa: Киммерида; Саратов: Саратовский университет. Русяева A.Q 2010. Граффити Ольвии Понтийской. Симферополь: Керченська мюька друкарня. Русяева A.C, Станищна Г.О. 2018. Сакральн графт з розкопок В.В. Латна в Борисфет. АрхеологАя i давня iсmорiя Украти 3(28), 54—б7.
- Хтасьев С.Р. 1999. Рец.: Laurent Dubois. Inscriptions grecques dialectales d'Olbia du Pont (École pratique des hautes études. Sciences historiques et philologiques. Hautes études du Monde Gréco-Romain, 22). Genève, 199б. 208 p. Hyperboreus. Vol. 5. Fasc. 1, 1б4—192.
- Чистов Д.Е. 2007. Новый комплекс с пожарищем второй половины VI в. до н. э. из раскопок на участке «О» античного поселения на острове Березань. В: Зинько В.Н., Крапивина В.В. (ред.). Древности Северного Причерноморья в античное время. Симферополь: Крымское отделение Института востоковедения им. A3. Крымского HAH Украины; Центр археологических исследований БФ «Деметра», 127—151 (MAroT. Suppl. 4). Чистов Д.Е. 2017а. Жилое домостроительство Березанского поселения второй половины VI — первой половины V в. до н.э. АВ 23, 132—152.
- Чистов Д.Е. 2017b. Землянки архаической Березани В: Форназieр Й., Твардецький А., Браунд Д., Буйських А., Гаврилюк Н., Матера М., Шейко I. (ред.). Швтчне Причорномор'я за античног доби (на пошану С.Д. Крижицького). Киев: Стародавнш свгг, 127—144.
- Чистов Д.Е. 2020а. Греки и варвары Березанского поселения во второй половине VII — первой половине VI в. до н.э. В: Хршановский В.А, Жижина-Гефтер В.Б., Жижина Н.К., Молев Е.А., Соколова О.Ю. (ред.). Боспорский феномен. Боспорское царство М.И. Ростовцева (взгляд из XXI века). Ч. 2. Санкт-Петербург: Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, 264—271.
- Чистов Д.Е. 2020b. Улицы архаического Борисфена. В: Смирнов O.I. (ред.). Forum Olbicum III: до 70-р1ччя з дня народження В.В. Кратвгног. Матергали мiжнародноï археологгчног конференцИ 4-6 травня 2020 р. Микола1в: Науково-дослвдний центр «Лукомор'е», 41—44.
- Чистов и др. 2012: Чистов Д.Е., Зуев В.Ю., Ильина Ю.И., Каспаров А.К., Новоселова Н.Ю. 2012. Исследования на острове Березань в 2005—2009 гг. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж (Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической экспедиции. Т. 2).
- Чистов Д.Е., Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В. 2019. Амфоры первой половины — середины VI в. до н.э. из раскопок Березани. ПИФК 1, 8—24.
- Чистов и др. 2020: Чистов Д.Е., Ильина Ю.И., Еремеева А.А., Щербакова О.Е. 2020. Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической экспедиции. Т. 3. Березанское поселение в исследованиях 2010—2014 годов. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж (Археология в Эрмитаже. Т. 1).
- Чистов Д.Е., Ильина Ю.И. 2017. Исследования экспедиции Государственного Эрмитажа на острове Березань в 2015 году. АСГЭ 41, 177—216.
- Чистов Д.Е., Ильина Ю.И. 2019. Исследования экспедиции Государственного Эрмитажа на острове Березань в 2016 году. АСГЭ 42, 155—171.
- Яйленко В.П. 1979. Несколько ольвийских и березанских граффити (по материалам Одесского археологического музея). КСИА 159, 53—60.
- Яйленко В.П. 1980. Граффити Левки, Березани и Ольвии. ВДИ 3, 75—116.
- Яйленко В.П. 1982. Греческая колонизация VII—IIIвв. до н.э. Москва: Наука.
- Яйленко В.П. 2017. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э. — VII в. н.э. Санкт-Петербург: Нестор-История.
- Яйленко В.П. 2020. Стихотворные граффити Боспора, Ольвии, Березани. ДБ 25, 443—511.
- Bechtel Fr. 1924. Die Griechische Dialekte. III. Der Ionische Dialekt. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
- Bîrzescu I. 2012. Die archaischen und frühklassischen transport amphoren. Bucuresti: Editura Enciclopedica (Histria XV).
- Boardman J. 1967. Excavations in Chios 1952—1955: Greek Emporio. London: British School at Athens (BSA. Suppl. Vol. 6).
- Boardman J., Hayes J. 1966. Excavations at Tocra 1963—1965: The Archaic Deposits 1. London: British School at Athens (BSA. Suppl. Vol. 4).
- Buck C. 1928. The Greek dialects. Chicago; London: The University of Chicago Press.
- Bravo B. 1977. Remarques sur les assises sociales, les formes d'organisation et la terminologie du commerce maritime à l'époque archaïque. Dialogues d'histoire ancienne 3, 1—59.
- Bravo B. 2021. Pontica Varia. Poleis e città, culti e rappresentazioni religiose, thiasoi orfici, organizzazione del commercio, "giustiziaprivata" nellaperiferia nord-orientale del mondo greco (secoli VII—IVa.c.). Athènes: École française d'Athènes (BCH. Suppl. 63).
- Chistov D. 2018. Amphorae Assemblages of the Second Quarter — Mid-6th Century BC from the North-Eastern Part of The Berezan Island Site. In: Alexandru Avram A., Buzoianu L., Lungu V. (eds.). Koinè et mobilité artisanale entre la Méditerranée et la mer Noire dans l'Antiquité. Hommage à Pierre Dupont à son 70e anniversaire. Pontica. Vol. LI. Suppl. V.
- Cook R.M., Dupont P. 1998. East Greek Pottery. London; New York: Routledge.
- Dana M. 2007. Lettres grecques dialectales nord-pontiques (sauf IGDOP 23-26). REA 109(1), 67—97.
- Dubois L. 1996. Inscriptions grecques dialectales d'Olbia du Pont. Genève: Hautes Études du Monde Gréco-Romain (Hautes Études du Monde Gréco-Romain 22).
- Dupont P. 1999. La circulation amphoriqe en mer Noire à l'epoque archaique. Specificites et problemes. In: Garlan Y. (ed.). Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 143—161.
- Johnston A.W. 1979. Trademarks on Greek vases. Warminster: Aris and Phillips.
- Kadioglu M., Özbil C., Kerschner M., Mommsen H. 2019. Teos im Licht der neuen Forschungen. In: Yalçin Ü., Bienert H.-D. (eds.). Anatolien — Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften. Tagungsband des Internationalen Symposiums "Anatolien -Brücke der Kulturen " in Bonn vom 7. bis 9. Juli 2014. Bochum; Bonn: Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG, 345—366.
- Lazzarini 1976. M. Le Formule delle dediche votive nella Grecia arcaica. Roma: Accademia nazionale dei Lincei.
- Meiggs R., Lewis D. 1969. Greek historical inscriptions to the end of the fifth century B.C. Oxford: Clarendon Press.
- Mommsen H., Cowell M.R., Fletcher P., Hook D., Schlotzhauer U., Villing A., Weber S., Williams D. 2006. Neutron Activation Analysis of Pottery from Naukratis and other Related Vessels. In: Villing A., Schlotzhauer U. (eds.). Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean. London: The British Museum Press, 69—76.
- Chistov D., Pavlichenko N. 2019. Lead Letter from the Excavations of Area 'O-Western' at the Berezan Settlement in 2017. Hyperboreus. Vol. 25. Fasc. 2, 259—277.
- Pavlichenko N., Kashaev S. 2012. A personal letter found in Hermonassa. Hyperboreus. Vol. 12. Fasc. 2, 230— 242.
- Posamentir R., Solovyov S. 2006. Zur Herkunftsbestimmung archaischer ostgriechischer Keramik: die Funde aus Berezan in der Ermitage von St. Petersburg. Ist. Mitt 56, 103—128.
- Posamentir R., Solovyov S. 2007. Zur Herkunftsbestimmung archaischer ostgriechischer Keramik: die Funde aus Berezan in der Ermitage von St. Petersburg II. Ist. Mitt. 57, 179—207.
- Sezgin Y. 2012. Arkaik Dönem Ionia Üretimi Ticari Amphoralar (Ionian Transport Amphorae of the Archaic Period). Istanbul: Yayinlari.
- Sezgin Y. 2017. Arkaik Dönemde Teos'ta ticari amphora üretimi: sorunlar ve gözlemler. Anatolia 43, 15—39.
- Schlotzhauer U. 2001. Die südionischen Knickrandschalen. Eine chronologische Untersuchung zu den sog. Ionischen Schalen in Milet. (Diss. Ruhr-Universität Bochum 2001). URL: http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/Diss/SchlotzhauerUdo/diss.pdf (дата обращения 24.12.2014).
- Scherer A. 1934. Zur Laut- und Formenlehre der milesischen Inschriften. München: Salesianische Offizin.
- Schwyzer E. 1939. Griechische Grammatik. Erster Band. Allgemeiner Teil — Lautlehre — Wortbildung — Flexion. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
- Schwyzer E. 1960. Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung.
- Slavova M. 2004. Phonology of the Greek inscriptions in Bulgaria. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Threatte L. 1980. The grammar of Attic inscriptions. Vol. I. Phonology. Berlin; New-York: Walter de Gruyter.
- Utili F. 1999. Die archaische Nekropole von Assos. Bonn: Dr. R. Habelt (Asia Minor Studien. Bd. 31).
- Wecowski M. 2014. The Rise of the Greek Aristocratic Banquet. Oxford: Oxford University Press.