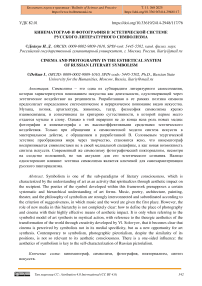Кинематограф и фотография в эстетической системе русского литературного символизма
Автор: Дейкун И.Д.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 8 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Символизм - это одна из субпарадигм литературного самосознания, которая характеризуется пониманием искусства как деятельности, одухотворяющей через эстетическое воздействие на реципиента. Разработанная в ее рамках поэтика символа предполагает определенное систематическое и иерархическое понимание видов искусства. Музыка, поэзия, архитектура, живопись, театр, философия символизма крепко взаимосвязаны, и соподчинены по критерию суггестивности, в которой первое место отдается музыке и слову. Однако в этой иерархии не до конца ясна роль новых медиа: фотографии и кинематографа с их высокоэффективными средствами эстетического воздействия. Только при обращении к символистской модели синтеза искусств в мистериальном действе, с обращением к разработанной В. Соловьевым теургической эстетике преображения мира через творчество, становится ясно, что кинематограф воспринимается символистами не в своей медиальной специфике, а как новая возможность синтеза искусств. Современный же символизму фотографический пикториализм, несмотря на сходство положений, не так актуален для его эстетического сознания. Налицо одностороннее влияние: эстетика символизма является ключевой для самохарактеризации русского пикториализма.
Кинематограф, символизм, фотография, пикториализм, синтез искусств
Короткий адрес: https://sciup.org/14133566
IDR: 14133566 | УДК: 82.01 | DOI: 10.33619/2414-2948/117/76
Текст научной статьи Кинематограф и фотография в эстетической системе русского литературного символизма
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025
УДК 82.01
Субпарадигма символизма в русском литературном самосознании хронологически соседствует с такими культурными явлениями, как импрессионизм в живописи и музыке, условный и камерный театры, русский религиозно-философский ренессанс. Взаимовлияния между ними хорошо изучены. О категории музыкальности в литературе символизма написано много, равно как и о символистском творчестве А. Н. Скрябина [1].
Известно тяготение художников «Мира искусства» к книжной иллюстрации, обращение художников-импрессионистов к мифологическим сюжетам, объединяющим их с исканиями Вяч. Иванова и М. Волошина. Исследователями модерна описывается колоссальное влияние философии Вл. Соловьева на поэтику символизма, и отдельно оговаривается философская герменевтика, «специфическое литературоведение», к которому прибегали Шестов, Бердяев, П. Флоренский [2].
Наконец, ярчайшим сюжетом связи символистской литературы и условного театра выступает история постановки «Балаганчика» А. А. Блока, В. Э. Мейерхольдом (30 декабря 1907). Однако исследователями упускаются из виду сюжеты взаимодействия и отражения в поэтическом сознании символистов таких новых областей искусства, как кинематограф и фотография. Только в специализированных, киноведческих трудах можно встретить упоминания о статье А. Белого «Синематограф», стихотворение В. Я. Брюсова «Мировой кинематограф» (1918), как отмечает А. В. Марков, до недавнего времени не имело должного комментария [3].
Еще менее освещено отношение символистов к фотографии. Эта лакуна тем удивительнее, что символизму синхронна попытка русской светописи заслужить статус искусства. Одновременно со статьей Д. С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» (1892) в русской печати появляются отзывы о Венской фотографической выставке (1891), где критерием отбора была объявлена «художественность» [4].
В данной статье мы постараемся заполнить этот исследовательский пробел, взяв за материал исследования символистский дискурс, выраженный в критических и художественных текстах. Для определения символизма как исторического периода будем использовать парадигмальный анализ, разработанный в рамках исторической поэтики, а для выявления роли того или иного медиа во взаимосвязи разных средств искусства и их иерархии мы обратимся к интермедиальному анализу.
Под русским символизмом принято обозначать течение преимущественно в художественной литературе, в рамках которого вырабатывалась поэтика символа как знака, чей смысл потенциально неисчерпаем и который включает в себя все многообразие связей с другими символами. Причем предметность данной чувствам действительности воспринималась в свете стоящей за ней истинной духовной реальности, которая дается творящей личности как система символов. Отсюда интегративный импульс символистсткого восприятия: все связано со всем на глубинном уровне. Ключевой метафорой этой связности стала музыка или шире, музыкальность, которая мыслится в связи с «духовной первоосновой бытия» [1].
Соответственно этому медиум музыки, где форма слита с содержанием, где всеобщее дается в непосредственной конкретности, становится эталоном для других искусств. Отсюда то, что О. Ханзен-Лёве, обозначает как господство в медиаландшафте символизма принципа музыкальности, «стремительное проникновение музыкальных терминов, концепций и мотивов в лирику и прозу» [5].
Таким образом можно представить иерархию форм искусства свойственных этой парадигме как пирамиду с вершиной в музыке и поэзии, чуть ниже располагаются традиционные изящные искусства: живопись, архитектура, скульптура. На третьем уровне декоративно-прикладные искусства книжной иллюстрации, интерьера, мебельного дизайна, раскрывающие свой потенциал в модернистской интенции к построению синтеза искусств: тотального произведения искусства. Наконец, неясным, и не сразу актуализируемым статусом обладают новые формы искусства «под вопросом»: кинематограф и фотография.
Чтобы дать эту иерархию более четко, выписать ее через аутентичные символизму схемы мысли, надо обратиться к идее теургической эстетики и присущей ей мистериальности. Как отмечает Н.К. Бонецкая в анализе рецепции русскими символистами ницшеанских культурных концептов, «в России о Дионисе и Аполлоне мыслили как о реально существующих «богах», обитателях духовного мира: прикидывали возможность учреждения новых мистерий; Иванов – дионистических, Волошин – аполлонийских» [2].
Символисты стремились к абсолютному мифотворчеству, «сакрализации реальности» через символ [6].
Синтез искусств в их сознании мыслился по аналогии с литургическим воздействием на все органы чувств: зрение, слух и мысль. Как пишет Л. Е. Бушканец: «в мистериальном хоровом действе, по мнению Вячеслава Иванова, должны рождаться высшие универсальные ценности, раскрывающие тайный и доподлинный смысл человеческого бытия и в силу этого гармонизирующие взаимоотношения человека и мира» [7].
Таким образом, мы видим, что звук и стих, литература и музыка составляют центр священнодействия, осуществление и содержание мистерии. Но мистерия должна происходить в сакральном пространстве, литургия проходит в храме, поэтому живопись предполагает архитектонику здания, театр – декор и бутафорию, комната – дизайн. Мистерия осуществляется через синтез традиционных искусств. Если мы посмотрим на такие казалось бы авангардные синтезы, как цветомузыка А. Н. Скрябина или музыкальная живопись В. В. Кандинского, мы увидим, что они основываются на примате кустарного, традиционного в искусстве. В этом свете позиция кинематографа перестает быть просто аморфной периферией. Кинематограф в сознании символистов представляет новый синтез искусств, основанный не на умении и человеческом осуществлении творческого замысла, а на технологическом совершенстве машин. Так, концептуальное содержание статьи Андрея Белого «Синематограф» (1907) строится на противопоставлении опытов мистериального и кинематографического единения: «Синематограф освобождает нас от грязненького привкуса марионеточной мистерии; жизнь предстоит нам очищенной. В мистериях всё не люди, а странные «Мужи», «Девы Радужные», «Облеченные и т.д.» И далее: «Милый ребенок, только подальше от всяких мистерий; поменьше мистерии, побольше синематографа» [8].
Манифест Андрея Белого, конечно, с двойным дном: кинематограф (речь о кинематографе 1900-х годов) прост, он развлекательный, но он дает естественное, связанное с обычной жизнью, веселье, тогда как мистерия (речь, скорее всего, о происходившем в башне Вяч. Иванова) искусственна, слишком наигранна. Но именно в этом нарочито обличительном противопоставлении видно, что Андрей Белый полностью на стороне мистерии, но не той, которой лучше кинематограф, а той, которая должна быть, которую он видит за кинематографическим единением, а не за кинематографом как таковым. Хоть появление первых художественных фильмов датируется теми же 1900-ми годами, что и основные, первые два периода символизма, а бурное развитие кинематографа в 20-х годах также застает символизм третьей стадии, так называемый гротескно-карнавальный [9], теоретизация сущностных моментов кино как искусства принадлежит к сознанию постсимволистской, авангардной парадигме. И таким образом, можно сказать, что символизм оказался не так чувствителен к этому медиа, не видел его своеобразия, хотя тот же А. Белый переработал роман «Петербург» в киносценарий [10]
Но если ранний кинематограф противостоял символистскому синтезу искусств, то фотография такой комплексной оппозиции не образует. Она традиционно, с самого своего появления, находилась в оппозиции к станковой живописи. Но ко времени возникновения русского символизма эта оппозиция вырождается в критический эпитет «фотографический» о воспроизведении действительности, безыскусном реализме. Так И.Ф. Анненский пишет: «куда, в самом деле девалась пресловутая фотография действительности и где все эти протоколы, собственные имена, подобранные из газетных хроник» [11]. Здесь критик полемически уравнивает избыточность деталей в фотографии с внефабульной деталью реалистической прозы.
Если одной стороной этот тезис был обращен в прошлое к реалистической парадигме, то другой – актуализировался в символистской оппозиции суггестии / иллюзионизма, элитарного / площадного, и в этом роднил символизм и пикториализм. Достаточно сравнить следующие манифестарные строки из чернового варианта статьи «Ключи тайн» В.Я. Брюсова: «Мы совершенно отказываем в названии художественных созданий восковым фигурам и панорамам, в которых достигнут максимум иллюзии. Кроме того, механический способ воспроизведения – фотография, фонограф, синематограф и т.п.гораздо совершеннее воспроизводят действительность, чем искусство» [12], – с манифестом фотографа-пикториалиста Трапани: «Но можно ли копировать, когда душа полна образов и гармонии линий создают настроения…». И далее, ссылаясь на художников импрессионистов, Борисова-Мусатова и П. Пикассо (до 1906 года), Трапани настаивает, что монокль, размывающий фокус, делающий снимок менее резким, должен дополняться оригинальным видением фотографа-художника [4].
При всем сходстве тезисов, мы видим, что между словами В.Я. Брюсова (1903 г.) и словами Трапани (1914 г.) лежит не только временная дистанция, но и скрытая за ней ценностная иерархия медиа: Трапани воспринимает символистское миропонимание через посредничество медиально однородных произведений художников-импрессионистов. Но его эстетические положения: «Посмотрите на творчество Бориса-Мусатова… Как звучные стихи – его юношей мелодии», и далее: «Перед вами целый мир грез, удивительно красивый и чрезвычайно глубокий» – конечно отсылает к символистскому тезаурусу.
Из этого вытекает различие в восприятии писателей-символистов новых медиа. Кинематограф, даже нарождающийся, еще легко путаемый с ярмарочным аттракционом, сразу опознается их эстетической мыслью как противоположный, но равномощный синтез. Он противостоит литургической модели, образующейся в слиянии традиционных искусств: слова, музыки, архитектуры и живописи, танца. Так как сознание символизма предполагает всеобщую аналогию искусств на субстрате метафизического понимания истинного бытия за вещным миром, то он выделил в кинематографе только эту способность быть антидуховным или народным, механическим или «легким», полуавтоматическим синтезом. В полной же мере специфика кино будет раскрыта постсимволистами. Фотография же, напротив, находилась далеко вне фокуса символистских исканий. Наиболее живой и мотивированной была реакция на фотографический реализм реалистов, постромантиков XIX века. В эпоху же символизма происходило обратное движение: выработанные в символистской литературы эстетические постулаты через передаточное звено импрессионизма оказывали влияние на дискурс русских пикториалистов.
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025