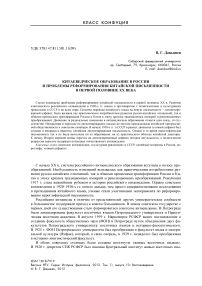Китаеведческое образование в России и проблемы реформирования китайской письменности в первой половине ХХ века
Автор: Дацышен Владимир Григорьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Класс конфуция
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам реформирования китайской письменности в первой половине ХХ в. Развитие классического российского китаеведения в 1920-х гг. вошло в противоречие с политическими и культурными процессами в СССР и во всем мире. Попытка перевода китайского языка на новую письменность – латинизированный алфавит, была вызвана как практическими потребностями развития русско-китайских отношений, так и общими процессами трансформации России и Китая в эпоху кризиса традиционных империй и революционных преобразований. Движение за радикальные изменения в китаеведческом образовании отчасти шли снизу, от студенчества. Инициатива в переходе на латинизированное письмо во многом принадлежала китайской прогрессивной общественности и советским китайцам. В начале 1930-х гг. в СССР в рамках движения за новый алфавит был создана и внедрена в практику китайская латинизированная письменность. Однако в то время иероглифическая письменность так и не была вытеснена ни из образования, ни из практического обихода китайской диаспоры. К началу Второй мировой войны переход на латинизированный алфавит потерял актуальность, а политические репрессиисерьезно подорвали потенциал отечественногокитаеведения.
Советское китаеведение, "культурная революция" в ссср, китайские мигранты в России, иероглифы, "новый алфавит"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737664
IDR: 14737664 | УДК: 378.147:811.581.11(09)
Текст научной статьи Китаеведческое образование в России и проблемы реформирования китайской письменности в первой половине ХХ века
С начала ХХ в. система российского китаеведческого образования вступила в полосу преобразований. Необходимость изменений вызывалась как практическими потребностями развития русско-китайских отношений, так и общими процессами трансформации России и Китая в эпоху кризиса традиционных империй и революционных преобразований. Революция 1917 г. стала важнейшим рубежом в истории российского китаеведения. Однако советское китаеведение в 1920–1930-х гг. пошло дальше, чем просто совершенствование исследования и преподавания китайского языка, ученые стали участниками эксперимента по реформированию иероглифической письменности.
Российские китаеведы в отличие от представителей других университетских сообществ в большинстве поддержали приход к власти большевиков. В новом советском государстве с первых дней его существования стало формироваться советское китаеведение. В Петрограде были ликвидированы факультет восточных языков Петроградского университета и Практическая восточная академия. В августе 1919 г. Наркомпрос РСФСР вынес постановление о создании факультета общественных наук (ФОН) в Петрограде путем объединения двух факультетов Петроградского университета: восточных языков и историко-филологического. В 1925 г. ФОН Петроградского университета был преобразован в факультет языка и материальной культуры (Ямфак), который, в свою очередь, в 1929 г. ненадолго был преобразован в историко-лингвистический факультет.
В обеих советских столицах были созданы институты «живых восточных языков». В 1920 г. декретом СНК РСФСР был основан Центральный институт живых восточных язы-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © В. Г. Дацышен, 2012
ков (ЦИЖВЯ) в Москве, но с временным пребыванием в Петрограде. В годы революции и гражданской войны китаеведческое образование сохранилось во Владивостоке и появилось в других городах России. Восточный институт вошел в 1920 г. в состав Государственного дальневосточного университета (ГДУ, позднее ДВГУ). В 1919 г. в только что основанном Иркутском университете открыли восточное отделение с преподаванием китайского языка. Среди его первых студентов были крупные советские китаеведы Г. Б. Эренбург и А. П. Рогачев.
С первых лет советской власти в России развивалось и академическое китаеведение. В 1920 г. в очерке о китайском и корейском фондах Азиатского музея В. М. Алексеев писал: «Рост русского китаеведения как науки, созидаемой новыми силами и новою поддержкой Академии наук, создаст и новую научную лабораторию, в которой расцветет наше искреннее, полное и отчетливое понимание Китая, с которым нас связывают, по-видимому, не одни только отдаленные границы» (см.: [Баньковская, 2010. С. 134]).
Становление китаеведческого образования в Советской России проводилось силами воспитанников старой школы, и не случайно с первых дней, несмотря на идеологические установки, сразу наблюдалось возвращение к классической системе. Известный китаевед В. В. Петров [1972. С. 113] писал: «После Октябрьской революции В. М. Алексеев, которому в конце 1918 г. декретом Совета Народных комиссаров было присвоено звание профессора, включился в работу по организации подготовки китаистов практического профиля в Институте живых восточных языков, но связей своих с университетом не порвал, продолжая преподавать на факультете восточных языков... В первые послереволюционные годы номенклатура и содержание университетских курсов В. М. Алексеева практически не претерпела изменений, и лишь некоторое время спустя эти курсы начали обогащаться новыми материалами и новыми идеями...». Уже 27 октября 1921 г. было принято решение Президиума ВЦИК о слиянии всех востоковедных учебных заведений столицы в Московский институт востоковедения им. Н. Нариманова. Директор Института А. Е. Снесарев пригласил на кафедру китайского языка М. Г. Попова. Созданный в 1927 г. на базе Института живых восточных языков Ленинградский восточный институт им. А. С. Енукидзе возглавил выпускник факультета восточных языков и член ВКП(б) китаевед П. И. Воробьев (см.: [Решетов, 2003]). Носителями традиций классического китаеведения были не только воспитанники старой русской школы, но и такие синологи, как В. С. Колоколов, преподававший китайский язык на восточном отделении Академии Генштаба. Сын русского дипломата, он получил начальное образование в китайской школе, а среднее – в американском колледже в Китае и Александровском колледже в Санкт-Петербурге.
Деканом Восточного факультета во Владивостоке в советское время до 1925 г. был воспитанник китайско-маньчжурского отделения Восточного института А. В. Гребенщиков, кафедру китайского языка и китаеведения до самого закрытия в конце 1930-х гг. возглавлял бывший директор этого института А. В. Рудаков. М. И. Сладковский [1984. С. 43], бывший студент ГДУ, вспоминал: «Аполлинарий Васильевич вошел в кабинет в сопровождении китайцев-ассистентов, поддерживавших его под руки... Он имел типичную внешность русского профессора, какого обычно ожидают встретить студенты, впервые попав в стены университета. Свою первую лекцию Аполлинарий Васильевич посвятил истории возникновения китайской иероглифической письменности... Аполлинарий Васильевич увлекательно рассказывал о каждом упоминавшемся им иероглифе. Для него это был не просто знак: он видел в каждом из них символ, графическое выражение богатейшего духовного и материального мира Китая, его многовековую историю...». ГДУ стал крупнейшим центром подготовки советских китаеведов, в 1927/28 уч. г. на китайском разговорном отделении Восточного факультета обучалось 149 чел. 1
К середине 1920-х гг. в СССР сложилась новая система китаеведческого образования. Китаистов-переводчиков готовили Московский и Ленинградский институты востоковедения, а также Восточный факультет Дальневосточного госуниверситета. Особое место в деле подготовки советских китаеведов заняло восточное отделение Военной академии РККА. Мар- шал В. И. Чуйков [1981. С. 18–19] вспоминал: «В 1922 г. я поступил учиться в Военную академию им. М. В. Фрунзе... мне предложили продолжить учебу на китайском отделении восточного факультета той же академии... День и ночь зубрили китайские иероглифы... Я до сих пор вспоминаю наших преподавателей – В. С. Колоколова, Лян Куня, профессора-историка А. Е. Ходорова и других. Наш факультет часто посещали товарищи, которые уже побывали в Китае... Мы часто бывали в Институте востоковедения им. Н. Нариманова... В 1926 г. некоторым слушателям восточного факультета предоставили возможность побывать в Китае...». Студенты разных вузов стажировались в Китае, например, студент Ленинградского восточного института А. И. Мелналкснис в 1928 г. в течение полугода обучался в Пекинском университете. О своей стажировке в Шанхае сообщал М. И. Сладковский. В отчете Далькрайисполкома говорилось, что в 1927 г. по Восточному факультету выпуска не будет, так как все студенты «откомандированы за границу для изучения языков» [Отчет…, 1927. С. 55].
В советской высшей школе в 1920-х гг. китаеведческое образование, несмотря на все преобразования, опиралось на традиции классического китаеведения. Более того, советским китаистам удалось сделать специальность своего рода привилегией. Как отмечалось в критических заявлениях: «“Я – китаист” – магическая формула для освобождения от всякого рода работы, общественной или даже комсомольской» 2.
Классицизм и аристократичность советского китаеведения приходили в противоречие с политическими реалиями революционной эпохи. Действительно, «классика» мало чего давала для работы с китайскими рабочими и крестьянами, не владевшими иероглифической письменностью. В СССР большинство китайцев, как и в самом Китае, было неграмотными. По данным переписи 1923 г. процент грамотности среди китайского населения Российского Дальнего Востока составлял 33,9 %, В 1932 г. более 46 % китайского населения в Дальневосточном крае оставались неграмотными 3. В середине 1920-х гг. советскими школами были охвачены только 21,2 % китайских детей школьного возраста, при среднем охвате детей по Дальневосточному краю в 65,8 % 4. Подобные проблемы были характерны и для других районов СССР. Осенью 1924 г. газета «Кочегарка» на Донбассе отмечала: «Среди китайцев работа почти не ведется. Намечено открытие школы на Буденовском руднике, но нет учителей. Мешает работе полное отсутствие китайской литературы» 5. Не лучше дела были и в Сибири, например, в 1926 г. даже на Иркутском рабфаке не было ни одного китайца. Руководство СССР занималось ликвидацией неграмотности у китайцев, но содержание образования было слабо связано с «китайской классикой». Так, в плане работы Китайской секции в Иркутске в 1927 г. было записано: «Организовать вечернюю школу по изучению китайской и русской грамоты… но в этой школе, главным образом, обучать политграмоте» 6.
Недостатки советского китаеведения в части отрыва его от практики в 1920-х гг. отмечались на самом разном уровне. В 1926 г. известный политик, считавшийся крупнейшим специалистом по Китаю, глава Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена К. Б. Радек заявлял: «Знакомство в России с китайским языком очень мало распространено. У нас китаеведов, знающих язык, можно по пальцам пересчитать, а притом девять десятых этих китаеведов – лингвисты, которые в лучшем случае интересовались только культурой, религией Китая, которые подходили к Китаю, конечно, с точки зрения русского интеллигента, а не с точки зрения исторической, и не с точки зрения материалистической…» [Карл Радек о Китае, 2005. С. 22]. Но проблема отрыва содержания образования от реалий эпохи имела и другую сторону, в октябре 1927 г. В. М. Алексеев на одной из лекций говорил: «Преподавательский состав Института только тогда будет развивать свои силы нормальным порядком, когда ему будет дана возможность делать регулярные поездки на места Востока» (см.: [Бань-ковская, 2010. С. 181]). Руководству СССР решение проблемы отсутствия необходимого числа переводчиков виделось через открытие специальных учебных заведений. В секретном протоколе заседания Китайской комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) от 26 октября 1925 г. записано: «Считать необходимым создание в Москве школы переводчиков на 100 человек» [ВКП(б)…, 1994. С. 653].
Признавая в целом критику справедливой, необходимо отметить и серьезные достижения в области практического китаеведения в Советском Союзе к середине 1920-х гг. Можно привести в качестве примера «Рекомендуемый список литературы» по Китаю, предложенный к изучению в военно-научных организациях Сибирского военного округа в 1926 г. В списке указано 15 книг и брошюр, посвященных проблемам Китая и опубликованных различными издательствами в 1924–1926 гг. В подавляющем большинстве это были новые работы советских исследователей, таких как Попов-Татива, Ивин, Сафаров, Мамаев, Колоколов, Виленский и др. 7
В конце 1920-х Советский Союз вступил в новую фазу социалистической модернизации. Вызревшие в 1920-х гг. непримиримые противоречия требовали своего разрешения, поразивший СССР кризис напрямую был связан с «Великой депрессией». Эти события совпали с победой в Китае правых гоминьдановцев и с конфликтом на КВЖД, ставшими знаковыми событиями. Ситуация осложнялась массовым выездом китайцев из СССР. В марте 1931 г. секретарь Далькрайкома ВКП(б) Перепечко в секретном докладе предложил сделать упор на развитие образования для китайцев, настаивая: «Необходимо учесть их культурный рост и развивающиеся от этого потребности» 8 . Политика индустриализации, коллективизации и культурной революции отражала общие тенденции трансформации мирового сообщества. Важнейшей составляющей культурной революции в стране стали реформы образования, включая китаеведческое.
Движение за радикальные изменения отчасти шло снизу, от советского студенчества. В газете Ленинградского университета «Студенческая Правда» в марте 1929 г. была опубликована статья «Дела китайские» некого студента Е. Андриевского. Он резко критиковал проф. В. М. Алексеева и все содержание китаеведческого образования в университете. В газетной статье заявлялось: «В результате такой постановки преподавания по окончании университета с китайского цикла выходят (если только выходят вообще) люди, знающие мертвый китайский текст, но не знающие живого разговорного китайского языка. Знающие всех китайских императоров, но не знающие истории классовой борьбы в Китае, т. е. не знающие нашего Китая» 9. В. М. Алексеев не согласился с обвинениями со стороны студентов и заявил об отказе (по завершении чтения курса «Введение в синологию») работать с данным курсом в том составе.
Общие настроения в советском образовании, направленные на своего рода «демократизацию» лингвистики, сближение знаний с реалиями народной жизни и задачами мировой революции, в части китаеведения совпадали с политикой, направленной на вывод китайского населения из-под культурно-политического влияния буржуазной республики. Задачи приближения образования к нуждам народа, потребностям эпохи и разрыва с буржуазной культурой можно было решать уже неоднократно проверенным методом – изменением письменности.
Идея такой реформы активно обсуждалась в Китае и за рубежом с конца XIX в. К концу 1920-х гг. был накоплен определенный опыт создания и использования фонетического письма для китайского языка. Например, весной 1908 г. А. М. Позднеев в письме руководству Министерства народного просвещения России сообщал: «За последнее время под влиянием культурных движений, особливо навеянных японцами, у китайских новаторов естественно возник запрос на упрощение китайской письменности, и результатом сего явился целый ряд попыток видоизменения китайской графики. Таким образом для одного из южных китайских диалектов еще недавно была составлена китайская буквенная азбука… К этой же категории попыток относится и изобретение в 1903 году подлежащей теперь рассмотрению новой китайской азбуки, составленной каким-то г. Ваном. Азбука г. Вана столько же силлабическая, сколько и фонетическая, и состоит всего из 62-х букв… письменность эта уже сама собою проникла засим и в народ, причем Богдыханское Министерство Народного Просвещения никак не делало ее обязательной в своих низших школах, а лишь не препятствовало и не препятствует частным лицам устраивать школы для обучения этой азбуке…» 10. В 1918 г. Министерством образования Китайской Республики был принят фонетический алфавит Чжуинь фухао (Mandarin Phonetic Symbols), состоявший из 37 букв, созданных на основе детерминативов или корневых элементов китайского иероглифического письма. Уже в 1932 г. правительство утвердило разработанную китайскими лингвистами систему Гоюй ломацзы (Gwoyeu Romatzyh) в качестве официальной системы латинизации.
Вероятнее всего, инициатива в проведении реформы китайской письменности в СССР исходила от самих советских китайцев. Американский исследователь Вальтер Коларз полагал, что латинский алфавит для китайского языка разработал «грамотный китайский коммунист, которого советская пресса обычно упоминала под псевдонимом “Страхов”», а «в 1929 и 1930 гг. китайские рабочие и студенты в Москве, Ленинграде, Хабаровске и Владивостоке провели митинги в поддержку инициативы Страхова. Затем Советская Академия Наук взяла под контроль всю операцию» [Kolarz, 1954. P. 46]. Современные исследователи полагают, что первый проект китайского алфавита на латинской основе в Советском Союзе был создан в 1929 г. известным общественным деятелем Цюй Цюбо.
Поэт-революционер Эми Сяо в статье «Латинизация китайской письменности» писал, что иероглифическая письменность является архаическим пережитком, символом рабства, орудием порабощения трудящихся масс господствующим классом. Он заявлял, что иероглифы являются препятствием для поднятия политического и культурного уровня трудящихся, а революцию китайской письменности произведут только революционные массы пролетариата и крестьянства, ведущие героическую борьбу за свое освобождение. Ю. К. Щуцкий в предисловии к своей работе «О применении стенографии к китайскому латинизированному языку» писал: «Так на китаеведческом фронте встал перед нами во всю величину вопрос латинизации китайской письменности, вызванный к жизни самими трудящимися массами китайцев нашего союза» 11 . Здесь уместно привести еще одно утверждение В. Коларза: «…советские китайцы намеревались начать культурную революцию. Последняя заключалась в отмене китайских иероглифов и введении латинского алфавита» [Ibid.].
Революционные преобразования в советском китаеведении не могли пройти без жертв и потерь. В частности, в 1929 г. были арестованы и на следующий год осуждены директор Московского института востоковедения А. Е. Снесарев и зав. кафедрой китайского языка М. Г. Попов. Смертная казнь была заменена им длительными сроками заключения. В том же 1930 г. был осужден заведующий Дальневосточной секцией Института народов Востока и автор одной из первых советских работ по китайскому языкознанию «Пособие по китайской транскрипции» Н. М. Попов-Татива. Выступивший в феврале 1929 г. с критикой концепции Н. Я. Марра, Е. Д. Поливанов вынужден был покинуть столицы и выехать в Среднюю Азию. В целом, репрессии против советских востоковедов 1929–1930 гг., в отличие от конца 1930-х гг., не приняли крайних форм, но были показательны для эпохи.
К началу 1930-х гг. перед советским китаеведением была поставлена задача создания новой китайской письменности. Эта работа проводилась в общем русле «Движения за Новый Алфавит», когда была поставлена цель перевести на латиницу письменность всех народов СССР. Ю. К. Щуцкий отметил по поводу латинизации китайской письменности: «Вопрос этот, пройдя через горнило теоретической мысли, был сразу же перекинут в лабораторию практической проверки и, оплодотворенный действительностью, вернулся в исследовательские институты, неся в себе целый ряд новых вопросов» 12. Основные китаеведческие силы в начале 1920-х гг. были собраны в Азиатском музее, вошедшем в 1930 г. в состав вновь образованного Института востоковедения АН СССР. Советские китаеведы выступали за создание отдельной исследовательской структуры, в частности, В. М. Алексеев в 1935 г. писал: «Синологическая лаборатория. Подробный проект 1929 года не был даже рассмотрен…
А будет ли теперь? Громоздкое, но необходимое предприятие» (см.: [Баньковская, 2010. С. 235]).
Работа по латинизации китайской письменности в СССР была организована силами нескольких структур. Один проект разработан Научно-исследовательским институтом по Китаю при Коминтерне. Другой проект выполнялся во вновь созданном Китайском кабинете Института востоковедения Академии Наук под руководством В. М. Алексеева. Следует отметить, что «В. М. Алексеев еще в 1910 г. опубликовал труд “Результаты фонетических наблюдений над пекинским диалектом”, где впервые применил для китайского языка методы экспериментальной фонетики» [Горбачева, Меньшиков, Петров, 1960. C. 89–90].
В 1930 г. в Институте востоковедения В. М. Алексеев создал Комиссию по латинизации китайской письменности, секретарем которой стал А. А. Драгунов. В состав Комиссии по латинизации китайской письменности при Всесоюзном Центральном Комитете Нового Алфавита вошли такие известные китаисты, как Ю. К. Щуцкий и А. Г. Шпринцин. Работа в основном была закончена к 1 января 1931 г., в итоге составлены особая коллективная записка, включавшая основные положения о китайской латинизации, алфавит, правила орфографии и учебные тексты. Результаты были обсуждены на заседании Отделения общественных наук АН СССР, на котором В. М. Алексеев отметил, что доводы за латиницу и против иероглифи-ки имеют главным образом политическую установку. В январе 1931 г. разработанные двумя институтами проекты были согласованы и приняты на заседании научного совета ВЦК Нового Алфавита. Задача принятия новой китайской письменности была возложена на специальную конференцию. Первая конференция по латинизации китайской письменности «Daibiao zhenshu Di-ic Latinxya zhungguo wenz’ daibiao daxui» состоялась 26–29 сентября 1931 г. во Владивостоке. Ее программа включала в себя следующие пункты: «1. Торжественное открытие. 2. Sinz’mu Zhungjang Weiyanxui baogao Доклад ЦК Нового Алфавита. Абромсон. 3. Проблема культурной революции среди китайских трудящихся в СССР. т. Сяо (Siao). 4. Доклад о латинизации китайской письменности. Драгунов. 5. Правила орфографии. Буренин. 6. Проблема создания литературного языка на основе латинизированной китайской письменности. Шпринцин – Shi Pingcing 史萍青 » 13.
В октябре 1931 г. на Дальнем Востоке был создан Комитет китайского латинизированного алфавита, преобразованный в апреле 1932 г. в Дальневосточный Комитет Нового Алфавита. Советские ученые писали: «Латинизация Китайской письменности открыла совершенно реальные пути для того, чтобы народно-разговорный язык китайцев ДВК вывести из того бесписьменного состояния, в котором он до сих пор находился, и закрепить его в литературе… Важность изучения языка китайцев ДВК не только для развития латинизации в СССР, но и для развития и упрочения ее в самом Китае…» 14.
С 1932 по 1934 г. новая китайская письменность, получившая название «latinghua», была введена в нескольких китайских школах, на нее перешли китайские газеты. Работа по внедрению латинизированного алфавита проводилась по всему Советскому Союзу. Например, в плане Западно-Сибирского Крайкома Нового Алфавита на IV квартал 1934 г. стоял «вопрос об обслуживании корейцев и китайцев в Западной Сибири» 15.
Еще в 1931 г. во Владивостоке вышел первый букварь «Latinxya zhungmen gungzhen duben», составленный А. Г. Шпринциным. В 1933 г. он подготовил к изданию пособие «О методике преподавания китайского языка на основе нового алфавита» 16. Деятельность по совершенствованию латинизированной письменности продолжалась несколько лет. В 1936 г. еще работала «орфографическо-грамматическая комиссия по китайскому языку» при Китайском кабинете ИВ АН СССР.
Переход на латиницу справедливо воспринимался всеми как мероприятие политическое. В докладной записке «О работе среди вострабочих в Читинском районе» от 16 марта 1933 г. говорилось: «новый китайский алфавит является наилучшим орудием для поднятия на поли- тический культурный уровень китайских трудящихся» 17. Не случайно лингвистические споры имели политическую окраску. Уже в 1932 г. журнал «Проблемы марксизма» напечатал коллективную рецензию на книгу В. М. Алексеева о латинизации китайской письменности, в которой главу советского китаеведения называли «апологетом конфуцианства», ругали за то, что автор редко упоминал имя любимого демократической интеллигенцией Н. Я. Бичурина.
Во второй половине 1930-х гг. споры вокруг латинизированного алфавита обострились. В «Резолюции совещания по вопросам китайского алфавита и орфографии», принятой на заседания Всесоюзного Центрального Комитета Нового Алфавита 28 марта 1936 г., говорилось: «Для окончательного урегулирования вопроса о китайском алфавите поручить т.т. Коркма-сову и Диманштейну совместно с т. Волиным рассмотреть все спорные вопросы и подготовить проект предложений к следующему заседанию Президиума, с включением в него политической оценки и выводов по конфликту, произошедшему на Пленуме между т.т. Сяо и Врубелем» 18. В том же марте 1936 г. на заседании Китайского кабинета ИВ АН СССР говорилось: «Под давлением А. А. Драгунова на совещании может быть поставлен вопрос о том, что созданный при участии Китайского Кабинета Института Востоковедения латинизированный китайский алфавит ориентируется будто бы на английский алфавит... А. А. Драгунов считает такую замену преждевременной, т. к. созданный алфавит начинает уже получать распространение в Китае и внесение изменения в него внесло бы дезорганизацию в среду сторонников латинизированного алфавита в Китае и затруднило бы культурную связь между китайским населением Советского Дальнего Востока и сторонниками латинизации в Китае» 19. На следующем заседании, 1 апреля 1936 г. «совещание признало, что составленный при участии Китайского Кабинета ИВ китайский латинский алфавит ориентирован на латинский алфавит народов Союза ССР и ни в каких исправлениях не нуждается. Совещание постановило создать орфографическую комиссию... Комиссии поручено разработать правила китайской орфографии на основе алфавита» 20. На расширенном совещании Отдела Науки ЦК ВКП(б) В. М. Алексеев подвергся обвинению якобы в ориентации на английский алфавит, но синолог не отказался от своих позиций, подчеркнув «неудобство первоначально предложенного ВЦКНА нового алфавита, включавшего более 100 знаков» 21.
Занимаясь реформой китайской письменности, советские синологи решали задачи развития отечественного китаеведения. Работа проводилась в рамках политики приближения преподавания китайского языка к реалиям народной жизни китайцев. Это хорошо видно при знакомстве с рукописью работы А. Г. Шпринцина «Китайский язык в ДВ Крае», где говорилось: «Изучение современного китайского языка, притом не столько письменных его форм, а устной живой речи во всем ее многообразии является одной из важнейших, если не самой важной задачей лингвистических штудий в области китайского языка… даже в самом Китае вопросы народной речи уже много лет являются боевыми острыми вопросами китайской действительности… Движение за Baihuawen – родившееся в огне антиимпериалистического движения 1919 года; второй более прогрессивный этап – движение за Dazhungju – язык широких масс, развернувшееся в период освободительной борьбы 1934–1935 г., и наконец движение за Sin wenz латинизацию китайской письменности, развернувшееся в ходе широчайшего движения китайского народа за спасение родины и отпор японскому империализму, вот три наиболее крупных этапа языкового развития Китая последних лет… Как и во многом другом, и здесь практика шла впереди теории, подгоняя последнюю и выдвигая перед исследователями новый комплекс проблем и вопросов, которые до этого в большинстве своем стояли вне поля зрения китаистов…» 22.
Введение в Советском Союзе новой письменности для китайцев не решило проблем приближения китаеведческого образования к реалиям и потребностям жизни народа как в самом
Китае, так и в СССР. В Советском Союзе сложилась такая практика, что учителями в китайских школах работали китайцы, которые к тому же не прошли советской китаеведческой школы. В 1933 г. на «Родной язык» в рамках курса подготовки кадров для китайских колхозов, который вел методист Владивостокского Горкома Нового Алфавита Чжоу Суньюань, выделялось 235 часов из общего числа 576 часов учебных курсов 23. В докладной записке работника Комитета Нового Алфавита Шпринцина инструктору Крайкома ВКП(б) Мартынову от 29 ноября 1934 г. говорилось: «сейчас положение в китайской школе надо считать совершенно неудовлетворительным… Имеется такое ненормальное явление, когда дети-китайцы, даже не знающие китайского языка, обязательно посылаются в китайскую школу… Преподаватели не только не имеют специального педагогического образования, но даже не имеют никакого опыта работы в школе… органы народного образования абсолютно никакой методической помощи китайским школам не оказывают... Ссылка ОНО на специфические особенности китайской школы и на незнание китайского языка не выдерживает никакой критики…» 24.
Не уменьшались в 1930-х гг. и претензии к преподаванию китайского языка в Ленинградском университете. Например, в апреле 1935 г. в университетской газете была опубликована статья «Назревшие вопросы о плохом преподавании китайского языка» 25. В московском Институте востоковедения не складывался постоянный штат китаеведов, китайский язык преподавали по большей части прикомандированные специалисты. Например, в 1935/36 уч. г. китайский язык преподавал по совместительству сотрудник отдела Дальнего Востока Наркомата внешних связей А. П. Рогачев.
Несмотря на отмеченные выше проблемы, советское китаеведение в 1930-х гг. развивалось исходя из реалий эпохи и заложенных предшественниками традиций. Но по мере укрепления тоталитарного режима и приближения к новой мировой войне лингвистические дискуссии теряли привлекательность. Как отмечалось в одной работе: «Товарищ Сталин внес и четкость в невероятный хаос понятий, царивших в лингвистической науке…» 26 . Власть больше не нуждалась в ученых, и вскоре последовал разгром отечественного китаеведения. В конце 1930-х гг. были расстреляны П. И. Воробьев. Е. С. Иолк, Д. М. Позднеев, А. И. Иванов, Ю. К. Щуцкий, Б. В. Васильев, И. К. Мамаев и др. В это же время «исчез» А. А. Иванов, надолго «осели в лагерях» А. Г. Шпринцин, А. А. Штукин и др. Чудом пережившим «культурную революцию» акад. В. М. Алексееву и нескольким синологам вскоре пришлось создавать новое советское китаеведение.
SINOLOGICAL EDUCATION IN RUSSIA AND PROBLEMS OF THE CHINESE WRITING REFORMS IN THE FIRST HALF OF THE ХХ CENTURY