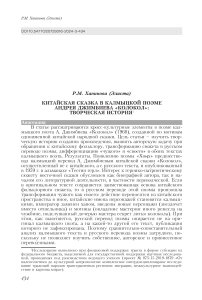Китайская сказка в калмыцкой поэме Андрея Джимбиева "Колокол": творческая история
Автор: Ханинова Р.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются кросс-культурные элементы в поэме калмыцкого поэта А. Джимбиева «Колокол» (1960), созданной по мотивам одноименной китайской народной сказки. Цель статьи - изучить творческую историю создания произведения, выявить авторскую задачу при обращении к китайскому фольклору, трансформацию сюжета в русском переводе поэмы, дифференциацию «чужого» и «своего» в обоих текстах калмыцкого поэта.
Творческая история, китайская сказка, калмыцкая поэма, колокол, сюжет, трансформация, иной, свой, русский перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149146480
IDR: 149146480
Текст научной статьи Китайская сказка в калмыцкой поэме Андрея Джимбиева "Колокол": творческая история
 ñîâðåìåííîé êàëìûöêîé ïîýçèè íåìíîãî ïðîèçâåäåíèé, îáðà-ùåííûõ ê êèòàéñêîé òåìå. Ñðåäè íèõ ïîýìà «Õîңõ» («Êîëîêîë», 1960) Àíäðåÿ Ìàíãàíûêîâè÷à Äæèìáèåâà (1924–2022), ñîçäàííàÿ íà îñíîâå îäíîèìåííîé êèòàéñêîé íàðîäíîé ñêàçêè. Òâîð÷åñêàÿ èñòîðèÿ àâòîð-ñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ èìååò äëèòåëüíûé ïåðèîä, ñâÿçàííûé ñ êàëìûöêèì ïåðåâîäîì ñêàçêè â 1959 ã., ñ ñîçäàíèåì ïîýìû â 1960 ã., çàòåì ñ ðóñ- ским переводом поэмы в 1965 г., наконец с ее русской републикацией в 1998 г. под другим названием «Саглар». При этом русский перевод поэмы «Колокол» в журнальной и книжной публикациях 1965 г. обозначен двумя фамилиями переводчиков — Даниила Марковича Долинского (1925-2009) и Виктора Александровича Стрелкова (1925-1996), а спустя десятилетия тот же перевод под другим названием «Саглар» (1998) в детском журнале «Байр» («Радость») указан уже только фамилией Д. Долинского (второй переводчик ушел из жизни к тому времени). Оригинальный текст поэмы и ее перевод отличаются тем, что у поэта история о колоколе следует за китайским фольклорным источником, известным автору в русском переводе, а у переводчиков джимбиевской поэмы сюжет имеет уже не китайский нарратив, а калмыцкий. При этом такого варианта авторской поэмы в печати не зафиксировано. Возникает вопрос: каким образом возникли такие расхождения? Один из вероятных ответов: переводчики осуществили свою работу с подстрочника какого-то неопубликованного авторского варианта. Это в свою очередь вызывает следующие вопросы: если А. Джимбиев создал другой вариант поэмы уже на основе трансформированной истории, почему он не опубликовал его? Пять лет между авторской версией и русским переводом — достаточный срок для такого осуществления. Но даже спустя десятилетия осталась та же непроясненность, на которую тогда никто не обратил внимания. Дочь поэта, Надежда Андреевна, также не смогла разъяснить эту ситуацию, сказав в недавнем разговоре с нами, что пыталась найти в печати второй калмыцкий вариант поэмы для постановки в гимназии, но не нашла его; в семейном архиве она не искала, поскольку, по ее словам, он не разобран.
Для нас представляет интерес трансформация китайского сюжета на калмыцкий. Каким образом иное, чужое перекодируется как свое, несмотря на другие реалии, связанные с колокольным ремеслом, не характерным для национальной традиции: ойраты (предки калмыков) не отливали колокола больших размеров за неимением такой необходимости в своей культуре и религии; они пользовались маленькими колокольчиками, используемыми в храмовой службе, на охоте, в быту и т.д. Как соотносятся в этом плане стратегии автора и переводчиков, которые можно увидеть только в русском переводе поэмы?
Китайская народная сказка «Колокол» и ее калмыцкий перевод
Известная китайская народная сказка «Колокол» с середины 1950-х гг. была издана книжкой в русском переводе в столичных и региональных издательствах [Колокол 1954a; Колокол 1954b; Колокол 1959]. С одним из таких изданий в то время был знаком начинающий свой литературный путь Андрей Джимбиев. В 1957 г. вместе с калмыцким народом он вернулся из тринадцатилетней сибирской ссылки на родину. Обращение к героическому и патриотическому сюжету китайской сказки обусловлено как биографией автора (участник Великой Отечественной войны, ссыльнопереселенец в период тоталитарных репрессий 1943—1957 гг.), так и началом его переводческой работы.
Сказочная история о том, как был спасен от очередного вражеского нападения Пекин — новая столица китайской империи, славит девушку
Сяо Лин, дочь колокольного мастера Чэня, которому поручено отлить самый большой колокол, чтобы тот возвещал о грозящей опасности и сплотил народ для борьбы с захватчиками. Несмотря на старания Чэня, и второй отлитый колокол вновь дал трещины, а третья неудачная попытка могла привести к смерти мастера. Но его дочь, узнавшая о секрете колокола, бросается в чан с литьем, жертвуя собой ради отчизны. Чужеземцы были разгромлены.
По словам Б. Рифтина, «Сказы мастеровых — малоизвестная часть китайского фольклора. Многие из них связаны с именами обожествленных героев, научивших своему удивительному искусству других людей или пожертвовавших собой ради того, чтобы помочь мастеровым людям выполнить какую-либо трудную задачу. Жертвуя собой, спасает отца-кузнеца и его товарищей девушка Чжэнь-чжу в сказе “Богиня печи”. Подобное же предание рассказывают в Пекине про дочь мастера Дэна, которая бросилась в горн, чтобы помочь отцу и его подручным отлить по приказу императора огромный колокол. Подобно Чжэнь-чжу, эта девушка была обожествлена как покровительница литейщиков колоколов, и в ее честь воздвигли храм. В основу этих повествований легли древние представления о необходимости принести в жертву человека, дабы умилостивить духов» [Рифтин 2022, 286].
Как сообщает А.Б. Старостина, «Легенды о так называемых тоу лу шэнь — женщинах, бросившихся в плавильную печь и ставших после этого покровительницами кузнечного и литейного дела — известны в Китае с VIII в. Культы таких богинь были распространены во многих регионах в течение тысячи лет с лишним. <_> Эти культы описаны, от них остались письменные и архитектурные свидетельства на территории от Пекина до Гуандуна <...>» [Старостина 2023, 145—146]. Современный исследователь обратилась к одной из таких китайских легенд — о девушке Ли Э, пятнадцатилетней дочери чиновника, отвечавшего за выплавку металла, а когда плавильная печь перестала плавить металл, почтительная дочь, спасая от казни своего отца, бросилась в огонь, и началась плавка [Старостина 2023, 146].
В повествовании прямо не указывается, откуда дочь узнала, что это может спасти ее отца, имплицитно предполагается тайное знание.
Ср. в легенде «Богиня печи» смерть грозила кузнецу и его товарищам, если они не смогут расплавить железного быка, уничтожающего посевы крестьян в уезде, а значит, всех жителей ждет гибель от голода. Восемнадцатилетняя дочь кузнеца Чжэн-чжу вспомнила, «как бабушка ей маленькой про девушку рассказывала, которая в печь бросилась, чтоб помочь людям железо расплавить, и думает: “И я бы жизни не пожалела, только бы быка одолеть, по крайней мере, умерла бы не зря”» [Богиня печи 1972, 268]. Дочь кузнеца так и сделала: «Чжэн-чжу стиснула зубы, изловчилась, в печь прыгнула, никто удержать ее не успел» [Богиня печи 1972, 268]. В легенде подвиг девушки, пожертвовавшей собой, увековечен: «Не забыли люди юную Чжэн-чжу, которая своей смертью их спасла. В память о ней храм построили, в храме статую установили и прозвали ее Лу-гу — Богиня печи». Поэтому: «У входа в храм две доски висят, на них начертано: “Слава тому, кто ради спасенья людей смело в огонь прыгнул!”» [Богиня печи 1972, 268].
«В более поздних и более распространенных вариантах легенды девушка прыгает в расплавленную руду, чтобы отец смог изготовить колокол с чистым звуком. Такие истории связаны не только с литейными мастерскими, но и с колокольнями, около которых часто помещались кумирни богини женщины, отдавшей жизнь за колокол (в Пекине, в частности, она была известна как Матушка колокольного литья — Чжуч-жун няннян в®®® [Ли 2013, 172]), — поясняет А.Б. Старостина. — Во всех вариантах этой “ремесленной” легенды, объясняющей происхождение богини-покровительницы, силы природы требуют от человека платы за успех в деле. Это требование часто не произносится вслух, да и о субъекте его в большинстве случаев ничего неизвестно, но будущая добровольная жертва — чаще дочь, но иногда и жена — каким-то образом знает о том, что должна сделать» [Старостина 2023, 146—147].
Небольшая по объему китайская сказка «Колокол» (2,5 страницы) была переведена на калмыцкий язык Андреем Джимбиевым и напечатана в пятом номере альманаха «Теегин герл» («Свет в степи») за 1959 г. Это перевод перевода, поскольку сделан с русского перевода Н. Ходза для детей младшего и среднего возраста. Начиная с названия «Хо н х» [Калмыцко-русский словарь 1977, 596] («Колокол»), с обозначения «Китдин тууль» («Китайская сказка») калмыцкий переводчик следовал за русским переводом китайского фольклорного источника, в некоторых случаях отступая и прибегая к заменам тех или иных понятий. Вначале он так же передал вступление: обращение к слушателям и читателям с вопросом, бывали ли они когда-нибудь в Пекине, столице Китая. Если бывали, то видели огромный и прекрасный колокол на краю города. Но кто его мастер и когда был создан колокол — они никогда не узнают из старинных книг и древних рукописей, об этом знают только старые люди, почему звук колокола бывает то нежным, то грозным. «Слушайте же!»
«Тадн кез э болв чигн Китдин Ьол балЬснд — Пекинд одлта? Одлта? Тиим болхла балЬсна захд б ээ сн ик гпдг хо н х узснт, тер Y н э с ээ хн болн гилввксн бийинь йирин Ь ээ х-сн болхт. Эн хо н хиг цудхсн K YY H Э нер хуучн дегтрм Y Дт чигн, кез э нк hap бичг Y тд чигн х ээ Ь э д керг уга. Эн ик хо н хин, уулин Ьолла э дл тиим щ и н гнсн болчкад щее лн дунь яЬад генткн догшн болн ча н Ь болад оддгинь чигн дегтрм Y Д Э с ол щ чадш угат.
Эн тускар дегтрм Y Дт келгдхш, болв эн е в э рц с ээ хн хо н хиг кен, кез э цудхсинь болн яЬад эн Y н э дунь з э рмд э н тагчг, щее лн, з э рмд э н ча н Ь, догшн болад оддгинь к е гшн улс медн э .
Н э , со н стн!» [Хо н х 1959, 1б3].
А. Джимбиев заменил титул главного представителя власти — император — на свой лад, на древнемонгольский и калмыцкий титул: хан (властитель), он мог также использовать калмыцкое обозначение («эзн хан — император» [Калмыцко-русский словарь 1977, 575]) или безэквивалентную лексику. Для обозначения мудрого отшельника в калмыцком переводе дал пояснение по-русски в скобках: «Тиг э д кесг удан ж цлд Ьанцар, уулмуд заагт б ээ Ь э д б ээ сн цецн залуЬур (отшельник) хан одна» [Хо н х 1959, 163]. Ср.:
«Тогда император отправился далеко в горы, где многие годы жил в одиночестве мудрый отшельник» [Колокол 1992, 22]. Когда разгневанный вторичной неудачей мастера император пригрозил ему казнью, если не удастся достичь нужного результата, «снова принялся старый Чэнь за работу» [Колокол 1992, 23]. Ср. авторскую рефлексию: «Яахв, х ээ мнь эн х е в уга эрдмт!» [Хо ц х 1959, 164] («Что делать этому бедному, несчастному в своей судьбе мастеру!» [здесь и далее наш смысловой перевод. — РА Д). Если в русском переводе сказано, что красавица Сяо Лин загрустила, то в калмыцком переводе состояние девушки передано иначе — она страдает: «С ээ хн Сяо Лин зовл ц гта» [Хо н д 1959, 163], понимая, чем грозит отцу третья неудача. Ночной порой девушка тайком отправляется к отшельнику в горы, чтобы узнать, как помочь в этой беде. И мудрец открыл ей секрет в изготовлении необходимого колокола. В русском переводе утром дочь мастера «стояла у печи, смотрела на расплавленный металл, и грустные мысли заставляли сжиматься ее сердце. Сяо Лин знала то, чего не знал ее отец: колокол снова будет с трещиной, если никто не принесет себя в жертву. Значит, снова враги Китая будут уводить в рабство юношей и девушек, убивать стариков и детей, сжигать города и села. Нет! Этого больше не будет!» [Колокол 1992, 23].
В калмыцком же переводе не грустные мысли, а мучительные мысли сжимали девичье сердце: «зовл ц гта санань эн Y н э з Y ркинь хавчгдулсн» [Хо ц х 1959, 164]. «И не успел старый мастер понять, что случилось, как дочь его, прекрасная Сяо Лин, исчезла в бурлящем металле. Святая кровь е ё смешалась с расплавленным серебром, железом и золотом.» [Колокол 1992, 23].
Ср. окончание сказки «Колокол»: «Пусть никто из вас не подумает, что это сказка. Нет! Так было и так будет: в сердце народа всегда звучит голос тех, кто умер за счастье родной земли» [Колокол 1992, 24].
В калмыцком переводе подробнее: «Тадн дотрас кен чигн, эн у г тууль гиж, бич э сантха. Уга! Иим YY лДвр болсмн, д э к э д чигн болх: эвр э ннь пазр, уснаннь т е л э д э м э н е гсн улсин дунь, э мтсиннь з Y ркнд кез э чигн дуудвр бол щ Y лДДмн» [Хо ц х 1959, 164] («Не думайте кто-нибудь из вас, что это сказка. Нет! Такое случилось, и будет случаться: голос человека, отдавшего жизнь ради своей земли за людей, всегда останется призывом в сердцах народа»).
Ср. одно из основных фольклорных качеств японского буддийского колокола — «это его способность молчать. “Антропоморфные” черты колокола в японской традиции проявляются чрезвычайно сильно: колокол наделен не только способностью разумно мыслить, принимать решения, но и выступает нередко при спорах в роли своеобразного арбитра, показывая свой нрав. <...> в японских храмовых легендах колоколу отводилась особая роль. Он воспринимался как самостоятельный “живой” организм, способный подчинять своим желаниям и поступкам жизнь людей. Это очевидная сила колокола объяснялась его особой связью с царством Дракона, а значит, со стихией воды» [Садокова 2017, 13, 15].
Поэма А. Джимбиева «Хоцх» («Колокол», 1960) и китайская сказка «Колокол»
После обращения к калмыцкому переводу указанной китайской сказки А. Джимбиев написал в следующем году поэму под названием «Хоцх» («Колокол»). Эта первая поэма вошла в его дебютную книгу стихотворений и поэм «Турун хавр» («Первая весна», 1960). В подзаголовке поэмы указано в скобках: («Китд тууляр») [Жимбин 1960, 50], т. е. «По китайской сказке». Текст, разделенный на три неравномерные части, состоит в основном из 67 катренов (27-я строфа включает 6 строк, т.к. есть «лесенка»), всего 270 строк без названия и подзаголовка.
Следуя за сюжетом китайской сказки, поэт сразу обратился к читателям: «Китдин е ргн нутгур / Кен таднас одла? / K YY кн Y рн э ннь цог-цар / Кегдсн хо ц хинь Y зл э ?» [ Ж имбин 1960, 50] («Кто из вас побывал в китайской стране? Видели там колокол, сделанный из девичьего тела?»). «Слышали ли его звон — то мягкий, то грозный? Спросили, кто и когда этот колокол создал? Если будет судьбе угодно, по мнению автора, попробуем разгадать тайну, послушать сказку, которая будет любезна вашей душе».
История начинается с указа китайского хана, который сотни лет назад задумал создать самый красивый город в Азии — Пекин, имя которого будет славиться во всем мире. Возведенный город неоднократно был разрушен врагами, восстанавливался заново, но нападения продолжались. Хан отправился к мудрому отшельнику, живущему далеко в горах, за советом. Тот, подумав, сказал, что нужно найти умелого мастера, чтобы отлить самый большой в мире колокол, голос которого будет слышен повсюду, и так можно будет избежать войны. В результате ханских поисков был найден и отобран самый лучший из мастеров по имени Чэнь, получивший задание, исход которого зависит от результата — награда или казнь. Помощницей стала дочь Сяо (имя укорочено, в сказке Сяо Лин), пятнадцатилетняя красавица (в поэме возраст не детализирован).
В поэме также указаны материалы для литья колокола (золото, серебро, железо), доставленные мастеру, — лучшие из лучших. Ср. в сказке дочь помогала отцу отыскивать для колокола самое желтое золото, самое белое серебро, самое черное железо. Обычно колокольное литье включает разное соотношение меди и олова, например, 80% меди и 20% олова, так называемая «колокольная бронза». Добавляли порой золото и серебро, но, «как теперь уже доказано, наличие серебра и золота в колокольной бронзе не влияло на качество его звука» [Владышевская 2014, 125].
Следуя за развитием фольклорного действия, поэт также описал две неудачи с литьем колокола, когда на нем появились трещины и звон не был дальним. Автор тоже подчеркнул, что после неудач и под угрозой казни у мастера дело не ладилось, и результат ожидался прежний.
Вторая часть поэмы передает, как страдающая дочь, отправившись к отшельнику, узнала секрет литья. Оказалось, что прежний сплав недостаточен, необходим еще один элемент — человеческий. Мудрец вслух размышлял: «Мецгн, темр, алтн Ьурвнас / Мел тиим хоцх кегддв? / То-томщ уга хортнас / Тиим амр херлт бээдв?» [Жимбин 1960, 57] («Можно ли сделать такой колокол только из сплава серебра, железа и золота? Возможна ли такая легкая защита от бесчисленных захватчиков?»). И, наконец, заявил: «Эврэннь орндан Yннэс дурта / Эмэн терYнэс тeрYH хармлшго, / Тиим Yрнь эврэннь цогцарн / Тер Ьурвнла ниилщ бусл-тха. // Эн келсим кемр кYЦЭхлэ, / Эрмдг уга хоцх бYрдх, / Китд ергн нутгин щирЬл / Кезэд чигн мецк бYтх» [Жимбин 1960, 57—58] («Пусть соединится в тройном сплаве человек, любящий свою родину, не жалеющий своей жизни ради нее. Если исполнится сказанное мною, будет создан необыкновенный колокол, и жизнь китайской страны будет вечной»), Просветленная девушка вернулась к отцу, не колеблясь, шагнула в кипящий чан,
Ср, по законам фольклорного жанра отшельник императору не раскрыл секрета создания нужного колокола, а Сяо Лин он, задумавшись, ответил: «Голос колокола должен родить победу, Такой колокол нельзя отлить только из серебра, железа и золота, Надо, чтобы с металлом смешалась кровь человека, готового отдать жизнь за свою землю» [Колокол 1992, 23],
В третьей части поэмы описаны страдания отца, по обычаю первому ударившему по сотворенному колоколу, в котором все услышали девичий голос, Он тронул сердца людей, эхо донеслось до самых границ государства, все люди услышали призыв боевой девушки, встали на защиту родины, Поэтому сколько бы враги ни нападали на Китай, душа девушки предостерегала людей, вечно защищая китайскую страну: «Хортн Китд Y P кесг ор щ / Хорлхар сед щ д э врдг болна, / К YY кн э э мн эн Y г х е рн э , / Китдин оран м ец к харна» [ Щ имбин 1960, 60],
Ср, в сказке говорилось, как после нового строительства Пекина «вдруг однажды на рассвете все услышали громкие звуки набата, Это гудел колокол, Никто не ударял в него, но голос колокола достигал границ Китая на севере и юге, западе и востоке, И сердца людей, услышавших этот голос, становились мужественными и отважными, Руки мужчин тянулись к оружию, подростки обретали храбрость зрелых мужчин, мужчины становились мудрыми, как старцы,
Когда враг под звуки набата ворвался в Китай, навстречу ему поднялся весь народ, И воины-китайцы не знали в бою ни усталости, ни страха, потому что они слышали гневные звуки набата, В набате том звучал призывный голос девушки Сяо Лин» [Колокол 1992, 24],
Завершая поэму, автор задался риторическими вопросами: «Эвр э э м э р авсн щ ирЬлиг / Эвддг хортн тиг э д б ээ хий? / Дурн, ухан, з е рг Ьурвиг / Диилдг чидл нань олдхий?» [ Щ имбин i960, 60] («Есть ли враг, который сможет разрушить жизнь, ради которой отдана собственная жизнь? Найдется ли сила, способная победить любовь, ум и мужество?»), Здесь вместо заключительного мотива памяти звучит мотив героического подвига,
Русский перевод поэмы А. Джимбиева «Колокол»: проблема реконструкции
Как уже нами отмечалось, русский перевод поэмы А, Джимбиева известен в трех публикациях: журнальный и книжный 1965 г, под названием «Колокол» и журнальный под названием «Саглар» 1998 г,; это один и тот же текст, но в последней публикации указан лишь один переводчик, Поскольку сюжет китайской сказки «Колокол» в русском переводе поэмы был трансформирован, ссылки на него в произведении нет,
На первую книгу поэта в 1966 г, появилась газетная рецензия, в которой А, Гурьев, в частности, писал: «Вторая поэма в книжке, давшая название сборнику, написана по фольклорным мотивам» [Гурьев 1966, 3], при этом не уточнил, чей фольклор, «И пусть события, о которых рассказывает она, уходят в сказочную глубину веков, есть в поэме, в образе ее героини Саглар то, что близко и дорого нам и принимается нами. Это — любовь к Родине, самоотверженность в защите ее от врагов. Саглар без колебаний отдала свою молодую жизнь, лишь бы народ ее никогда не знал горя и бед, которые идут всегда спутниками войны» [Гурьев 1966, 3].
В первых публикациях русского перевода поэма структурирована 13 числовыми главками разного объема, всего 1005 строк без заглавия. И в третьей публикации структура произведения осталась прежней.
Несмотря на то, что отсутствует печатный авторский вариант поэмы, попытаемся реконструировать по имеющемуся переводу основные мотивы, систему персонажей, конфликт, сопоставляя с первым вариантом поэмы, с китайской сказкой, чтобы определить особенности трансформации сюжета.
В экспозиции поэмы джангарчи-сказитель «пел, сплетая в песне вязь / Преданий разных лет. / И давних лет и дальних стран / Сплеталась с былью быль...» [Джимбиев 1965b, 52]. Увидев луну, похожую на колокол, чабан-сказитель начал свой рассказ, пересказанный автором.
Во второй главке действие разворачивается в одной из стран, где среди степей и гор правил великий хан. Если в сказке и первом варианте поэмы локация конкретизирована — столица Китая Пекин, то во втором варианте поэмы государство не обозначено, а столица представлена как Город городов. Время в сказке неопределенное, которое в контексте соотносится со строительством новой столицы китайской империи. В поэме время никак не обозначено. Следующие несколько главок передают строительство прекрасной столицы, благоденствие страны, на которую нападал «старый враг — соседний хан» [Джимбиев 1965b, 58], разрушая города и селения, уничтожая людей: трудно сразу собрать рать со всех концов огромного государства для отпора. В китайском сюжете император за советом идет к мудрому отшельнику, здесь же, в 6 главке, к ханскому дворцу подъехал всадник. Это звездочет Одон. Имя этого персонажа отсылает к звездной семантике: калмыцкая лексема «одн» означает «звезда» [Калмыцко-русский словарь 1977, 393; Монраев 2012, 182]. Древний звездочет заявил, что явился помочь народу страны, объявил хану: «Ты должен колокол отлить / Огромный, / как луна! / Все серебро твоей казны. / Все золото, что есть, / Железо лучшее возьми — / Составь для сплава смесь! / Пусть будет колокол отлит / С любовью — не за страх! / Тогда он грозно загремит. / Как майский гром в горах! / Твоей страны во всех концах / Набат услышат тот! / И сразу надобность в гонцах / Навеки отпадет» [Джимбиев 1965b, 67—68].
Как и в сказке, сплав должен включать три элемента — серебро, золото, железо. При этом звездочет предупреждал: «Кому отливку повелишь — / Искусным должен быть. / Великий мастер сможет лишь / Тот колокол отлить!» [Джимбиев 1965b, 68]. Среди ста двадцати мастеров различных ремесел не нашлось никого, кто смог бы исполнить ханский приказ. Наконец, старик Эрдем сообщил хану о том, что он долго жил в далекой северной стране, научился там лить золото и медь, отливал колокола — «хвалу чужим богам» [Джимбиев 1965b, 75]. Неясно, как он оказался там, но подчеркнуто: «Изгнанья дорогой ценой / Я мастерство купил» [Джимбиев 1965b, 75].
В контексте этого эпизода поэмы можно увидеть имплицитное введение мотива сибирской ссылки, пережитой автором. Дается объяснение, откуда мог научиться чужому литейному делу человек, выросший в иной среде.
Как и в китайском сюжете, помощницей мастеру стала его юная дочь. Калмыцкое имя главного персонажа наполнено глубоким смыслом и символом: эрдм — мастерство; эрдм-билг — талант, одаренность [Калмыцко-русский словарь 1977, 702; Монраев 2012, 223]. Имя дочери отсылает к определению «саглр» в двух значениях: 1) развесистый, раскидистый, 2) пушистый [Калмыцко-русский словарь 1977, 435; Монраев 2012, 188].
Две неудачные попытки отливки колокола, на котором появляются трещины, мотивируются в поэме богопротивным ремеслом мастера, отливавшего ранее чужие колокола. Горестны думы Эрдема: «О, гнев небес! Жестокий гнев / За те колокола! / Глупец! Глупец! / Не думал я / Там, в северной стране, / Что тайны мудрые литья / Проклятьем станут мне!.. <_> Ужели небо не простит / Меня и в этот раз!! // Ужель проклятье, как тавро, / Носить мне до конца!» [Джимбиев 1965b, 78, 82]. Следующий новый мотив в поэме связан с тем, что дочь мастера отправилась в ханские покои, чтобы просить за отца, а случайно подслушала разговор хана со звездочетом. Секрет нужного колокола в том, что его никто не отольет, «покуда не найдется тот / Отважный человек, / Что сердцем родину любя, / Душою величав, / Не бросит жертвенно себя / В кипящий этот сплав!..» [Джимбиев 1965b, 87—88].
Как в китайской сказке отшельник не сразу открыл секрет колокола, так и в поэме звездочет тоже вначале умолчал о жертвенной дани. В 12 главке Саглар не просто стоит перед плавильной печью, она вспоминает слова звездочета, в огне печи она видит горящие города и селенья, убийство людей, бегущих от смерти и кричащих: «Ты можешь нас спасти, Саглар! / Спаси от их меча!» [Джимбиев 1965b, 90]. Метафора орущего рта-печи, полного крови, заставила девушку проститься с отцом перед тем, как броситься в огонь: «— Отец! Прости! Прости! / Теперь^ / Теперь ты отольешь... / Я их должна спасти!» [Джимбиев 1965b, 90]. В сказке нет прощальных речей: Сяо Лин внезапно прыгнула в печь.
У калмыцкого поэта в переводе отсутствует описание самого подвига девушки, а есть фигура умолчания: «И две руки, как два крыла, / Взметнув над головой... / Саглар была? / Она жива! / Ей вечно / быть живой!» [Джимбиев 1965b, 90—91].
Если в сказке подчеркнут об"ычай (мастер первым проверяет звук колокола): страдающий отец первым ударил в отлитый из плоти дочери колокол, то в поэме нет описания переживаний отца, пробы колокольного звона, победы над врагом с помощью нового колокола. В заключительной 13 главке сообщается, что давным-давно звучал набат, теперь красив, свободен и богат Город городов. «Услышав звон, / и млад и стар / Кладут земной поклон, / Молясь красавице Саглар / За этот мирный звон. // Девичий голос в нем звучит, / Одушевивший сплав» [Джимбиев 1965b, 91]. И потому: «Он для страны — надежный щит, / Надежней всех застав!» [Джимбиев 1965b, 91].
Помимо упоминания национальных имен, титула «хан», рассказчи-ка-джангарчи, числовых формул (сорок девять дней траура; семь дней сбора мастеров, литья колокола и др.), араки (эрк — водка), верхнего платья (биизе), сравнения девушки с сайгой, в русском переводе поэмы дана мотивация мастерства Эрдема (жил в далекой северной стране, где обучился чужому ремеслу), но в развитии сюжетного конфликта его отступничество (отливал колокола чужим богам) становится теперь спасением страны от захватчиков.
В то же время в самом произведении нигде не детализировано, каково вероисповедание главных персонажей: есть обезличенное — «боги», а также «звездочет» (ср. зурхач — астролог [Калмыцко-русский словарь 1977, 257]).
Заключение
Обращение калмыцкого поэта прошлого столетия к китайскому фольклорному произведению имело длительный характер, начиная с русского перевода китайской народной сказки «Колокол» на калмыцкий, продолжая созданием первого варианта авторской поэмы «Хо ц х», ее русским переводом, заканчивая вторым вариантом поэмы. Изучение творческой истории произведения А. Джимбиева осложнено отсутствием второго варианта поэмы, до сих пор не опубликованного, что затрудняет сравнительно-сопоставительный анализ двух вариантов оригинального текста, отличающегося сюжетом. Реконструкция по русскому переводу джимбиевской поэмы способствует рассмотрению трансформации сюжета китайской сказки, когда чужие реалии заменяются своими, иное ремесло становится своим, а общая универсальная идея — добровольная жертва ради спасения людей — наполняется своим, национальным содержанием, особенно после возвращения народа на родину из длительной сибирской ссылки.
Тип почтительной дочери из китайской сказки близок семейной этнической модели воспитания калмыков.
В героинях китайских сказок, легенд и преданий, ставших покровительницами кузнечного и литейного дела, обычно подчеркиваются молодость (имя Сяо Лин — молодая душа), красота (имя Чжэн-чжу — жемчужина), трудолюбие, почтительность к отцу, жертвенность ради него и людей. В «Колоколе» и «Богине печи», как и в легенде о Ли Э, «присутствуют такие мотивы по указателю С. Томпсона, как S263.5 (“Жертвенное самоубийство”), D1766.2 (“Чудесные результаты жертвоприношения”), <...> A451.1.1. (“Богиня кузнечного дела”)» [Старостина 2023, 146].
Саглар, героиня поэмы калмыцкого поэта, молода, красива, почтительна, трудолюбива, способна к самопожертвованию ради отца и родины. Главное отличие калмыцкого сюжета о колоколе в том, что Саглар не становится богиней, покровительницей кузнечного или литейного ремесла, ей не возводится храм, не устанавливается статуя. Но она остается героиней в народной памяти.
Кросс-культурные контакты (китайские и калмыцкие, шире — китайско-русско-калмыцкие) на примере обращения к китайской народной сказке «Колокол» и авторской поэме А. Джимбиева достигаются посредством русского языка — перевода иноязычного фольклорного источника.
Список литературы Китайская сказка в калмыцкой поэме Андрея Джимбиева "Колокол": творческая история
- Владышевская Т.Ф. Древнерусские колокола и звоны // Вестник культурологии. 2014. № 3. С. 114-129.
- Гурьев А. Словам - звучать полновесно // Советская Калмыкия. 1966. 30 января. С. 3.
- Калмыцко-русский словарь /под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Монраев М.У. Калмыцкие личные имена (семантика). Элиста: Издательский дом "Герел", 2012. 255 с. EDN: ZCOJGD
- Рифтин Б.Л. Герои и сюжеты китайских сказок // Рифтин Б.Л. Китайская мифология, фольклор и роман: избранные труды в 2 т. Т. 1. М.: ИДВ, 2022. С. 278-292.
- Садокова А.Р. Магическая функция колокольчика и колокола в японской народной культуре и фольклоре // Филологические науки в России и за рубежом: материалы V Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). СПб.: Издательский дом "Свое издательство", 2017. С. 13-15. EDN: YOVZZV
- Старостина А.Б. Китайские предания о строительной жертве в VIII-IX вв. и поклонение богиням кузнечного горна // Ориенталистика. 2023. № 6 (1). С. 144-157. EDN: VTMKDN