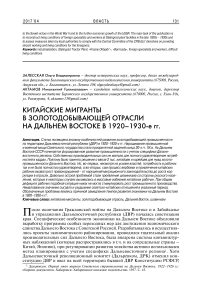Китайские мигранты в золотодобывающей отрасли на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг
Автор: Залесская Ольга Владимировна, Актамов Иннокентий Галималаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу особенностей развития золотодобывающей промышленности на территории Дальневосточной республики (ДВР) в 1920-1930-х гг. Наращивание промышленной и военной мощи Советского государства стало приоритетной задачей конца 20-х гг. ХХ в. На Дальнем Востоке СССР начинается форсированное развитие промышленности с учетом специфики Дальневосточного региона. Собственных производительных сил не хватало для полного удовлетворения потребностей в кадрах. Поэтому было принято решение о ввозе 2 тыс. китайцев и корейцев для нужд золотопромышленности Дальнего Востока. Но, во-первых, несмотря на усилия властей, потребность в рабочих так и не была полностью удовлетворена, а во-вторых, сам процесс вербовки и привлечения китайских рабочих вызвал рост правонарушений - от нарушений миграционного законодательства до роста коррупции в отрасли. Довольно острой проблемой стали проявления шовинизма со стороны русского населения, которые в некоторых случаях выливались в массовые избиения китайских рабочих. При общем дефиците рабочих подобная ситуация никак не могла стимулировать рост промышленного производства. Немаловажное значение сыграло и ухудшение советско-китайских отношений в указанный период. Обозначенные проблемы явились причиной замедления темпов развития экономики на Дальнем Востоке в 1920-1930-х гг.
Китайские мигранты, золотодобывающая отрасль, дальний восток, шовинизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170168754
IDR: 170168754
Текст научной статьи Китайские мигранты в золотодобывающей отрасли на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг
После окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке и в Забайкалье и упразднения Дальневосточной республики (ДВР) началась советизация края. Специфические особенности экономики на Дальнем Востоке обусловили выработку программы особых переходных мер для достижения экономического единства Дальнего Востока с Советской Россией. Разрабатывались и осуществлялись проекты экономического районирования, проводился тщательный анализ производительных сил Дальнего Востока, была внедрена система конъюнктурных наблюдений (которые распространялись в т.ч. и на сопредельные страны – Китай, Японию), при регулировании развития хозяйства активно использовался метод планирования с учетом специфики Дальневосточного региона1. Хотя Дальневосточный революционный комитет (Дальревком, ДРК) отменил конституцию ДВР и ввел на всей территории бывшей ДВР Конституцию РСФСР, в декларации ДРК объявлялись действующими все законы и обязательства ДВР «в области финансовой и экономической»1, поскольку они не противоречили новой экономической политике. Законы РСФСР вводились в действие на Дальнем Востоке только особыми постановлениями ДРК.
Советизация Дальнего Востока происходила в условиях новой экономической политики. При сохранении за Советским государством командных высот в народном хозяйстве на Дальнем Востоке допускалась частная торговля и частная предпринимательская деятельность в области промышленности. В 1923 г. по Дальнему Востоку 42% рабочих были заняты на частных предприятиях. В Приморье этот показатель составлял 53%, в Амурской губернии достигал 60%, в то время как в РСФСР он был равен всего 10%. В золотопромышленности вообще не было государственных предприятий в 4 горных округах – Прибайкальском, Амурском, Буреинском, Приморском; в двух округах – Зейском и Приамурском – число их было незначительно, и только в Забайкалье государственные старательские артели и госпредприятия составляли 80,3% [Флеров 1972: 157-158].
В период советизации Дальнего Востока на российскую территорию продолжали прибывать китайские мигранты. Они трудились рабочими, огородниками, работали в сфере обслуживания, занимались торговлей. Функционировали агентства китайских торговых фирм, рестораны, аптеки, парикмахерские, ремонтные мастерские. К началу 1924 г. в Забайкальской, Амурской, Приморской губерниях были зарегистрированы 50 183 китайских мигрантов [Ткачева 2000: 31]; в т.ч. в городах Забайкальской губернии насчитывалось 2 996 китайцев, что составляло 2,6% городского населения губернии.
Среди китайского населения сохранялись группы, проживавшие на Российском Дальнем Востоке во времена Российской империи и в период революционных преобразований, – это были рабочие, ремесленники, торговцы, земледельцы, промысловики, контрабандисты. В количественном отношении крупнейшей частью китайского населения на советском Дальнем Востоке по-прежнему были рабочие. В 1925/26 г. только в золотодобывающей отрасли Дальневосточного края (ДВК) было занято 4 177 китайцев (более 50% всех рабочих-золотодобытчиков в крае) [Кочегарова 2002: 379].
В процессе советизации Дальнего Востока были внесены изменения в региональную миграционную политику. Принятые директивы коснулись всех категорий мигрантов. С 20 декабря 1922 г. на основании распоряжений ДРК от 4 декабря 1922 г. за № 10 и бывшего МИД ДВР от 4 ноября 1922 г. за № 4317 вводилась обязательная регистрация всех иностранцев в течение 7 дней со дня прибытия2. Заполняя регистрационный лист, иностранный подданный должен был указать не только возраст, гражданство, национальность, место рождения, но и следующие сведения: когда прибыл в Советскую Россию, социальное положение, членство в партии и профсоюзе, имеется ли удостоверение советских властных органов, был ли судим и т.д. Регистрация осуществлялась в управлениях милиции и волостных ревкомах.
С 1923 г. регулирование иностранной миграции на советском Дальнем Востоке проводилось в соответствии с советскими законами, в т.ч. с декретом Совнаркома (СНК) от 20 октября 1921 г., постановлениями Совета труда и обороны (СТО) от 2 февраля, 16 марта 1923 г., 17 февраля 1925 г., а также постановлением СНК СССР от 31 марта 1925 г., определявшими порядок и условия сельскохозяйствен- ной и промышленной миграции в пределы СССР [Этномиграционные процессы... 2002: 72].
В январе 1923 г. был определен порядок выдачи гражданам Китайской Республики советских видов на жительство. Им выдавались виды на жительство для проживания в пределах СССР сроком на 1 год (так называемый советский годовой паспорт) и сроком на 6 месяцев; временные удостоверения сроком на 3 месяца1. По представлении документов временные удостоверения продлевались. Следует отметить, что эта процедура доставляла определенные неудобства китайским рабочим, трудившимся на приисках, – из-за дальности расстояния до крупных населенных пунктов они обычно тратили несколько дней на продление или получение документов, теряя при этом в заработке.
Между тем экономика края нуждалась в дешевом труде китайцев. В частности, в золотопромышленности Дальнего Востока к 1923 г. китайцев и корейцев насчитывалось 6 591 чел. (51,2% общей численности рабочих отрасли). В 1923/24 операц. году вследствие открытия в бассейне р. Алдан (Якутия) и в Хинганском районе (Северная Маньчжурия) богатых золотых россыпей произошло значительное сокращение численности рабочих-старателей по всем горным округам – на 29%. Русские рабочие устремились в Якутию, китайцы – на Хинганские прииски [Кочегарова 2002: 379].
Так как в 1924 г. сумма налогов на золотопромышленность по сравнению с 1914 г. возросла с 12,6% до 31,8% [Государственная промышленность... 1925: 81, 89], золотопромышленным предприятиям было чрезвычайно выгодно использовать дешевый труд восточников. В 1924/25 операц. году на добыче золота в Сретенском округе было занято 3 715 чел., в т.ч. восточных рабочих – 1 724 чел. (46%); в 1925/26 операц. году – 4 063 чел., в т.ч. восточных рабочих – 1 514 чел. (37%)2. Качественный состав восточников, прежде всего китайцев, был неоднородным: рабочими на приисках становились бывшие китайские наемные солдаты, разорившиеся торговцы и ремесленники, не создавшие достаточного капитала на родине крестьяне, а также китайские нищие и безработные3.
В конце 1920-х гг. приоритетной целью советского руководства стало наращивание экономической и военной мощи государства максимально высокими темпами. На Дальнем Востоке СССР начинается форсированное развитие промышленности с учетом специфики Дальневосточного региона [Головин 2008: 100]. Ставка была сделана на реконструкцию угольной, лесной, рыбодобывающей и золотодобывающей отраслей как валютно-экспортных направлений развития народного хозяйства. Продолжилась применявшаяся в восстановительный период практика объединения государственных предприятий в тресты. Дальлес, Дальуголь, Дальзолото и другие тресты становятся основными производственными единицами в системе управления промышленностью и производственноотраслевого функционирования [Очерки истории... 1982: 155].
Для форсированной социалистической модернизации в крае была необходима рабочая сила. Несмотря на проводимые государством мероприятия по переселению на Дальний Восток населения из европейских районов страны, край ощущал нехватку рабочих кадров в различных отраслях промышленности, особенно в золотопромышленности. В 1927 г. производственные программы золотодобычи были изменены в сторону увеличения, а возможности местного рынка труда по-прежнему были весьма ограниченными. В условиях нехватки рабочей силы на заседании СТО 2 марта 1928 г. было принято решение о ввозе 2 тыс. китайцев и корейцев для нужд золотопромышленности Дальнего Востока. 25 мая 1928 г.
СТО постановил «дополнительно разрешить ввоз для работ в той же промышленности 1 500 старателей китайцев и корейцев».
За май–июнь 1928 г. правлению Союззолота удалось завербовать 3 065 восточных рабочих, однако стали наблюдаться случаи ухода целых партий рабочих или в процессе следования к месту работы, или немедленно по приходе на прииски. Было решено отказаться от попыток завербовать рабочих на внутреннем рынке труда на советской территории и начать вербовку внутри Китая. Переговоры, проводившиеся с китайскими властями в Сахаляне и Сычагоу, не дали положительных результатов. Попытка нелегального завоза рабочих из Харбина на пароходах при посредничестве китайской фирмы сорвалась – все 5 рабочих партий (530 чел.) были задержаны в Лахасусу, сотрудники фирмы арестованы и расстреляны [Кочегарова 2002: 380].
В труде китайцев, помимо Союззолота, нуждались и предприятия других отраслей промышленности края. Ходатайство о разрешении ввоза рабочих из Китая в сентябре 1928 г. подавали также такие объединения, как Дальлес (на 4 000 чел.) и Дальуголь (на 1500 чел.). Официальное разрешение на вербовку в Китае 300 чел. рабочих было дано только предприятию «Дальуголь»1.
В создавшейся ситуации ДКИК 19 октября 1928 г. согласовал с бюро ДКК ВКП(б) основные положения по вербовке рабочих через Благовещенск в Сахаляне. Вербовку должны были вести китайские фирмы, а для положительного решения вопроса советская сторона выдвинула предложение о переводе за границу валюты в размере 50% добытого китайцами золота. В частности, китайская фирма «Буцундун» изъявила готовность от своего имени и за свои средства навербовать для старательских работ 30 тыс. рабочих из Китая с дальнейшей оплатой от советского предприятия по 4 даяна за каждого рабочего. Союззолото решило принять 1-ю партию в 8 тыс. чел. для работы на приисках Зейского округа: в ноябре 1928 г. – 2 тыс. чел., в декабре – 3 тыс. чел., в январе 1929 г. – 3 тыс. чел.2
В целом же завоз рабочей силы был признан неудовлетворительным. Основной причиной следует назвать ухудшение к концу 1920-х гг. советско-китайских отношений. Готовность приграничных китайских фирм к сотрудничеству с советскими предприятиями в вопросе найма рабочих наталкивалась на запреты китайских властей. В свою очередь, советские властные органы на региональном уровне не могли разрешить проблему вербовки нужного числа китайских рабочих. План по добыче золота выполнен не был [Залесская 2009: 262-263].
В 1929 г. число восточных рабочих, занятых в золотопромышленности края, составило 29% (8 768 чел.), а в 1930 г. – 22,25% (2 332 чел.) общего числа восточников во всех отраслях краевой промышленности [Кочегарова 2002: 383]. Уменьшение числа восточных рабочих в связи с нестабильной политической ситуацией в регионе грозило срывом выполнения производственных программ, поэтому организации и предприятия Дальнего Востока продолжили практику набора в Китае рабочих с помощью вербовщиков. Механизм вербовки рабочих руководителями советских предприятий был следующим: рабочих из Китая группами переправляли на территорию СССР легальным путем (через биржи труда либо при содействии китайских консулов, к которым регулярно обращались с подобными просьбами агенты НКИД на Советском Дальнем Востоке) и полулегальными способами (при содействии «старшинок», которые получали от 1,5 до 3 руб. за каждого завербованного рабочего, или китайских фирм на Советском Дальнем Востоке либо путем дачи взяток, опять же при посредничестве китай- ских фирм, соответствующим должностным лицам непосредственно в СевероВосточном Китае – Харбине, Цицикаре, Мукдене и др. городах).
При легальном способе вербовки китайских рабочих их число обычно жестко ограничивалось, поэтому руководители предприятий предпочитали нанимать рабочих полулегально. В своей докладной записке в октябре 1930 г. руководитель Дальневосточного краевого отдела труда отмечал: «Все восточные рабочие переходят границу нелегально. Легальный переход имеют только китайцы-вербовщики, которые пропускались по распоряжению комендатуры погран-отряда в Полтавке и Гродеково» [Этномиграционные процессы... 2002: 77]. Нельзя назвать однородным и качественный состав рабочих. Нередко подрядчик принимал на работу бывших хунхузов и контрабандистов, выдавая им чужие расчетные книжки и профбилеты1. В записке заведующего краевым отделом труда так сообщалось об одной из партий навербованных китайцев: «Сам состав навербованных оставлял желать лучшего – это были в прошлом по большей части мелкие ремесленники – парикмахеры, портные и т.п., которые нанимались в Китае на работу с целью легально и дешево перейти границу, а затем заняться своим ремеслом» [Этномиграционные процессы... 2002: 77].
Неоднородный состав китайских рабочих, их принадлежность к низшим социальным слоям, низкий процент грамотности – все это серьезно тормозило образовательную и воспитательную работу в их среде, делало исключительно сложной их адаптацию в советском обществе, создавало трудности в межцивилизационном взаимодействии русских и китайцев. Одной из основных проблем во взаимоотношениях китайских и русских рабочих оставался великодержавный шовинизм. На 9-й Дальневосточной краевой партконференции в начале 1929 г. было отмечено, что по-прежнему наблюдаются случаи пренебрежительного и издевательского отношения к китайским трудящимся со стороны русского населения [Кочегарова 2002: 384], единичных и массовых избиений русскими китайцев2. К китайцам, как и 30–40 лет назад, продолжали обращаться «ходя», «фазан», «манза», «китаеза». Из-за проявлений великодержавного шовинизма китайские рабочие боялись посещать собрания, участвовать в соцсоревновании. Стойкими в среде китайцев были слухи о том, что когда-нибудь китайцев будут топить в Амуре3.
Предлагаемые меры наказания за проявления шовинизма – исключать из партии, судить общественным судом – на практике не применялись либо применялись очень редко. Подобные дела чаще всего не доходили до суда либо проходили в сводках по статье «хулиганство». На Сучанском руднике китайские рабочие даже выдвинули предложение «выделить отдельные шахты для восточных рабочих»4. Многочисленные постановления, принимаемые коммунистическими ячейками на предприятиях с использованием китайского труда, согласно которым обязанностью каждого партийца и комсомольца было бороться с шовинистическими настроениями по отношению к китайским рабочим, оставались на бумаге.
«Проявлением великодержавного шовинизма на практике» называли также установление более низкой зарплаты, худшие жилищные условия и худшее, чем у русских рабочих, товароснабжение у китайских рабочих5, лишение компенсаций за неиспользованные отпуска и т.п.
Отделы и биржи труда при устройстве безработных, вопреки всем директи- вам, негласно отдавали предпочтение русским. Среди русских руководителей предприятий бытовало мнение о низкой производительности труда китайских рабочих по сравнению с русскими, о необходимости сохранения «старшинок» и артельных форм труда в среде китайских рабочих1. Русские, включая руководителей организаций, в разговоре с восточными рабочими широко употребляли жаргон исковерканных русских слов: «моя ходила», «твоя работай» и т.д.2 По-прежнему прослеживалась тенденция ставить китайских рабочих на более тяжелую и малооплачиваемую работу. На Артемовских копях зарплата русского рабочего в январе 1930 г. составляла 4,63 руб. в день, восточных рабочих на том же участке – 2,92 руб. в день3. Рабочий день китайских рабочих не укладывался в 8-часовые рамки, а зачастую превышал и 12 часов. Выходных было только 2 дня в месяц. На приисках не было больниц, практически повсеместно отсутствовали бани. Часто задерживались поставки продуктов для китайцев на прииски.
Обыденным явлением считались издевательства над китайскими рабочими. Их выталкивали из очередей в столовых и кооперативах, били на рабочих местах, не пускали в русские клубы, обращались к ним не иначе как «ходя», «фазан», «Чжан Цзолин», «Чан Кайши». Жилищные условия восточных рабочих признавались неудовлетворительными практически на всех приисках ДВК (на Черновских, Кручининских, Артемовских и т.п.)4. Существовала и практика строить специальные бараки для китайских рабочих, что, возможно, было, с одной стороны, оправданно, а с другой – не способствовало сплочению русских и китайских рабочих.
По итогам сказанного выше можно сделать следующий вывод. В период индустриализации и коллективизации при нарастании сравнительной однотипности модернизационных процессов в дальневосточной части РСФСР и в других регионах Советского государства, историко-географическое поле Советского Дальнего Востока сохраняет свою специфику. Военно-политическая обстановка в Дальневосточном регионе и экономические особенности края обусловили приоритетное развитие оборонных и добывающих отраслей промышленности. При общем дефиците рабочей силы и запрете использовать иностранную силу в оборонной отрасли китайский труд играл существенную роль в добывающей промышленности, в частности в золотопромышленности.
Список литературы Китайские мигранты в золотодобывающей отрасли на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг
- Головин С.А. 2008. Изменение социальной структуры населения Дальнего Востока СССР: 1923-1939 годы: дис. д.и.н. М. 520 с
- Государственная промышленность Дальнего Востока за 1923-1925 гг. 1925. Хабаровск: Дальпромбюро. 317 с
- Залесская О.В. 2009. Китайские мигранты на Дальнем Востоке России (1917-1938 гг.). Владивосток: Дальнаука. 380 с
- Кочегарова Е.Д. 2002. К вопросу использования китайских рабочих в золотопромышленности Дальнего Востока (20-30-е гг. XX в.). -Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Благовещенск: Изд-во АмГУ. Вып. 3. С. 378-386
- Ткачева Г.А. 2000. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке России в 20-30-е годы XX в. Владивосток: Дальрыбвтуз. 111 с
- Флеров В.С. 1972. Политика в отношении частного капитала на Дальнем Востоке (1922-1925 гг.). -Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства. Томск. Вып. VII. С. 152-166
- Этномиграционные процессы в Приморье в XX веке (под ред. А.С. Ващук). 2002. Владивосток: Изд-во ДВО РАН. 228 с